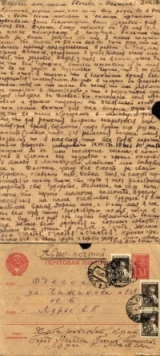
Текст книги "Небо и земля"
Автор книги: Нотэ Лурье
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 14 страниц)
«Каждый из них уже побывал в огне, – думал он взволнованно о раненых. – Видел смерть…»
Когда эшелон с ранеными ушел, Шефтл снова стал искать Яковенко и обнаружил его возле почтового ящика. Яковенко тоже отправил открытку домой. На вокзальных часах было без десяти семь. Они двинулись к месту сбора.
Скоро пришел их поезд. Он был переполнен солдатами, даже буфера были забиты до отказа. Шелестов со своим отрядом ходил за комендантом по пятам, требовал, чтобы тот посадил их на поезд.
– Да куда, куда я вас посажу? – орал комендант. – Верхом из колеса? Подождите! Через три часа придет еще поезд…
«Через три часа! – обрадовался Шефтл. – Если так – успею…»
Отпросившись у Шелестова на полтора часа и оставив свой мешок Олесю, он вышел на шоссе.
Часть дороги удалось проехать на подножке грузовика. Вечер был тихий, и с площади доносился голос радиодиктора, передававшего последнюю сводку Совинформбюро:
«В течение 20 июля продолжались напряженные бои на Псковском, Полоцко-Невельском, Смоленском и Но-воград-Волынском направлениях».
Неподалеку от площади Шефтл соскочил с подножки. Внезапно послышался крик:
– Шпион!
– Шпиона поймали!
Прохожие с обеих сторон улочки бежали к быстро увеличивавшейся толпе, которая теснилась вокруг высокого человека с рыжей бородкой и в пенсне.
– Поймали голубчика!
– Где тут вокзал, спрашивает…
– Ты смотри, бородку себе приклеил!
– А ну-ка, сорвите с него бородку!
– Говорит, будто он из эвакуированных…
– А вы думали, он скажет: «Я шпион»? Посмотрите на его окуляры, сразу видно, что за птица!
– Тише, вон идет милиционер! – крикнула пожилая женщина.
Как Шефтл ни торопился, не мог не задержаться на минуту. Широким пружинистым шагом подошел милиционер. Увидев человека с рыжей бородкой, он сердито плюнул:
– Тьфу, черт, опять поймали… Отпустите его! Это же эвакуированный.
«Зря потратил время», – с досадой подумал Шефтл и торопливо зашагал к Элькиному дому. Он был уже совсем близко. «Только дома ли она? – забеспокоился Шефтл. – Что, если я ее не застану?»
Подойдя, он увидел, что окно ее комнаты открыто. Значит, дома.
В коридоре Шефтл остановился, чтобы перевести дух, и в эту минуту из комнаты донеслась залихватская, беззаботно веселая песня:
У самовара я и моя Маша…
От неожиданности Шефтл постучал в дверь громче, чем хотел.
Патефон тотчас смолк. Дверь открылась, и Шефтл увидел перед собой молодую женщину в ярком платье с большим вырезом на груди, с подведенными глазами и густо накрашенным ртом.
– Вам кого? – кокетливо посмотрела она на Шефтла.
Шефтл ничего не мог понять. Неужели он ошибся?
Нет, дверь та…
– Я к товарищ Руднер, – проговорил он нерешительно, через плечо женщины заглядывая в комнату. Стены были увешаны коврами. Странно, комната совсем не та, не Элькина.
– Что же это вы нас беспокоите, – недовольно сказала женщина, – эта ваша… товарищ здесь уже не живет.
– А где? – испуганно спросил он.
– Откуда я знаю? – Женщина хотела уже закрыть дверь, но передумала. – Павлик, ты не знаешь, где она теперь живет, ну та, что здесь снимала?
– На Цыганской улице, там, где конский базар, – ответил из комнаты сытый мужской голос. – Во дворе, что против кузницы.
Шефтл повернулся и, не поблагодарив их, быстро ушел. Патефон в комнате снова лихо запел про самовар и про Машу.
Он побежал на Цыганскую улицу. Времени у него было в обрез.
Громкоговоритель на площади снова передавал сводку:
«В течение 20 июля продолжались напряженные бои на Псковском, Полоцко-Невельском, Смоленском и Новоград-Волынском направлениях».
На углу около летнего сада старушка приклеивала большую афишу:
Гастроли Запорожского театра
«Гибель эскадры»
«Почему она переехала? – думал встревоженный Шефтл. – Бог знает, что с ней тут было за эти три недели…»
Торопясь изо всех сил, он свернул на немощеную, пыльную Цыганскую улицу и вошел в тесный, неряшливый дворик напротив кузницы.
Среди детей, забравшихся в разбитый, поваленный па бок фаэтон, он увидел Светку и позвал ее. Девочка проворно выпрыгнула из фаэтона и подбежала к нему.
– Вы к нам пришли, а, дядя? – радостно обхватила она его обеими ручонками. – Мама только что ушла на мельницу. Вы знаете, где это? Это там, за рекой, далеко.
– Зачем она туда пошла?
– А мама работает там приемщицей, в ночную смену.
Шефтл хорошо знал старую мельницу. Развалина, державшаяся на честном слове, шум там стоял неописуемый и воздух был насквозь пропитан мучной пылью. Все же он вздохнул с облегчением. Хорошо, что работает. Это, конечно, не мед, но хорошо хоть так.
Идти на мельницу? Нет, не успеть ему. Ну что ж, ом хоть посмотрит, как они живут, какую комнату она теперь снимает. Через сенцы, превращенные в кухню, Светка ввела его в комнатку, где, стиснутая двумя стенами, стояла кровать, а рядом – столик и одна табуретка. Вот и вся мебель. На стене, напротив перекошенной узкой двери, висела фотография Алексея в красивей резной рамке.
Шефтл подошел ближе и с минуту смотрел на открытое, доброе лицо Элькиного мужа.
У двери стояла Светка в старых сандалиях, очень похожая на отца. Шефтл поднял ее, посадил на плечо, похлопал по ножкам, потом поставил на землю.
– Ну, – сказал он, открывая дверь, – скажи маме, что я заходил.
– Не уходите, дядя, – тихо попросила Светка.
– Надо, деточка, ничего не поделаешь.
– А вы сказали, что научите меня ездить верхом. И поросяток покажете. Помните?
– Помню, – смущенно кивнул Шефтл, – как не помнить… А ты обещала, что будешь слушаться маму…
– А я слушаюсь. Во что мне мама оставила на ужин, – девочка приподняла полотенце, которым была прикрыта тарелка. На тарелке лежали два ломтика хлеба, огурец и яйцо. – Только я еще не хочу есть, я потом поем, когда проголодаюсь.
– А от папы… от папы-то есть письма?
– Нет. Писем нету. Не пишет папа. Мама каждый день ждет почтальона, а почтальон не приносит. Нехороший, плохой почтальон
Шефтл наклонился, поцеловал ее и вышел. Светка побежала за ним.
– А вы еще придете?
– Приду, приду…
Пройдя с полсотни шагов, Шефтл оглянулся. Светка все еще стояла в воротах. Он махнул ей рукой, чтобы она возвращалась во двор.
Грустно ему было. Больно за Эльку, за ее девочку. Обидно, что он не мог прийти раньше. Чуть раньше – и он застал бы ее.
Темнело. Небо из голубого стало иссиня-серым. Шефтл зашагал быстрее. Он чувствовал, что устал, но не жалел потраченного времени. Эльку он, правда, не повидал, но все-таки кое-что узнал о ней, увидел ее ребенка. Надо было оставить записку. Ведь Элька понятия не имеет, что он уходит на фронт. Как это он не подумал!
Шефтл торопливо свернул на деревянный мост.
Вдруг он остановился. Здесь, на этом мосту, они тогда стояли с Элькой. На этом самом месте, около перил.
Как раз месяц тому назад, двадцать первого июня, в субботу вечером. Могли ли они знать, что их ждет…
Он коснулся рукой перил, словно прощаясь с Элькой.
А по мосту уже шагала рота солдат. Все в новом обмундировании, с винтовками за спиной. И вскоре грянула могучая песня:
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой.
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Священная война…
Шефтл зашагал в такт песне. Он спешил к своим. Скоро они сядут в поезд, который доставит их в воинскую часть.
В стороне, на дороге, ведущей к элеватору, громыхали возы с зерном, им навстречу, позвякивая, катились подводы, на которых развозили по колхозам эвакуированных. В кебе грозно прогремели, один за другим, несколько истребителей, а с железнодорожной станции донесся тревожный гудок паровоза.
Шефтл был уже недалеко от вокзала. Он шагал широко, а в ушах все еще звучали слеза песни:
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Священная война…
Часть третья
Глава первая
Ранним утром, когда Юдл Пискун еще лежал на верхних нарах в бараке, его вызвали в канцелярию лагеря и объявили, что он освобожден.
Начальник спецотдела, пожилой, флегматичный, видавший виды старшина, пожал Пискуну руку, поздравил и пожелал никогда сюда не возвращаться. Ему выдали справку и уже приготовленный для него билет на проезд в общем пассажирском вагоне до станции Гуляйполе и деньги. Денег было на семь суток пути – из расчета, что за неделю он доберется до дома.
Более шести лет Юдл Пискун с трепетом ждал этого дня. Порой ему даже не верилось, что день этот действительно когда-нибудь настанет. А когда в лагере узнали, что началась война, он и вовсе потерял надежду. Кто-то пустил слух, будто теперь, в военное время, никого не будут освобождать. Сосед Пискуна по нарам, еще молодой и крепкий мужик – его посадили за то, что он разбавлял вино, которое возил из колхоза на рынок, – даже радовался этому слуху, предпочитал перебыть войну здесь. Но Юдл Пискун не боялся фронта. Ему уже перевалило за пятьдесят, у него была двусторонняя грыжа, да и вообще его и в первую войну с Германией не взяли в армию, выдали белый билет, потому что он сызмальства сильно косил на левый глаз. По расчетам Юдла, срок его должен был выйти только черезполтора месяца. Оказалось, однако, что ему засчитали дни работы на кирпичном заводе.
Выйдя из бухгалтерии, Юдл вытер рукавом мокрое от пота, все в резких морщинах лицо и вынул из кармана справку. Он прочел ее несколько раз, слово за словом. Потом сложил вчетверо, старательно завернул бумажку в последнее письмо жены, засунул поглубже в нагрудный карман, пришитый к изнанке куртки, и побежал в барак, укладывать вещи, хранившиеся в изголовье.
В бараке не было никого, кроме плешивого дневального, который возил шваброй по мокрому полу. Все остальные были на работе.
– Зачем тебя вызывали? – не переставая орудовать шваброй, спросил у Юдла дневальный.
Юдл промолчал, притворился, будто не слышит. Ему не хотелось, чтобы узнали о его освобождении, пока он не выйдет за пределы зоны. Мало ли что может случиться… Взобравшись на верхние нары, он поспешно начал складывать в мешок пожитки: полотенце, пару заскорузлых портянок, сэкономленные пайки хлеба и остатки полученной от Добы посылки – свиное сало в граненом стакане, несколько домашних коржиков, сахар, халву, махорку. Второпях Юдл просыпал немного махорки и, когда собирал ее по крупинке с плоского соломенного матраса, вдруг вспомнил про Кондрю, соседа по нарам. Он ведь дал Кондре три полные баночки махорки, за что тот обещал поменяться с ним ботинками. Как раз несколько дней назад Кондря получил пару новых ботинок, тяжелых, правда, но крепких. Что же теперь делать? Где сейчас искать Кондрю? Юдл больно дернул себя за ус. «Сразу надо бы, дурак набитый, – выругал он себя с досадой, – сразу, как узнал, что освобождают, сбегать бы в барак, и Кондря бы от тебя не ушел». Уж он эти ботинки у Кондри зубами бы вырвал. Три полные баночки махорки отсыпал ему! Подарил, можно сказать, ни за что! От волнения, от злости все валилось у Юдла из рук, и он снова просыпал щепотку махорки, которую только что собрал с матраса.
Юдл все еще возился на верхней наре, когда вошел надзиратель по кличке «Рябой» и хриплым голосом окликнул его:
– Пискун Юдель!
Юдл дрогнул. «Что-то случилось!» – пронеслось у него в голове.
– Эй, Пискун! – снова крикнул Рябой.
– А? Что? Что такое? Я здесь… вот я… – отозвался Юдл заикаясь.
– Чего копаешься? – хмуро спросил надзиратель. – Освободили тебя, ну и нечего тут рассиживаться! Сдавай матрас и катись!
«Да пропади он пропадом, Кондря, вместе с ботинками», – подумал Юдл и соскочил с нар.
Через полчаса он был уже за пределами зоны.
Маленький, щуплый Юдл, с мешком под мышкой, сгорбившись, шагал вверх по глинистому откосу к ближайшей проезжей дороге на Караганду. Но шагал он нетвердо. Его все еще одолевали сомнения: а вдруг ошибка, а вдруг вернут!..
Только поднявшись по откосу и выйдя на дорогу, Юдл отважился оглянуться. Наклонился, поднял с дороги ссохшийся комок земли и швырнул вниз, туда, где виден был лагерь. Такое было поверье: если бросишь камень или комок земли, значит, больше туда не вернешься.
Теперь Юдл пошел быстрей. Спустившись с пригорка, он еще раз оглянулся. Лагерь уже скрылся из виду. Дорога была пуста. На ходу Юдл время от времени снова и снова нащупывал бумажный пакетик за пазухой – справку и билет до Гуляйполя.
До последнего времени, пока не началась война, Юдл Пискун не думал возвращаться домой. С какой стати он поедет в Бурьяновку, где каждый встречный враг ему, даже его собственный, единственный сын… Но когда Юдл услышал, что гитлеровские войска занимают один город за другим, в нем шевельнулась надежда: а почему бы немцам и Бурьяновку не захватить? А если так, то есть расчет туда вернуться. Именно туда, в родную Бурьяновку, где Хонця, Хома Траскун и Элька Руднер, гадюка, издевались над ним, засудили за несколько мешков пшеницы, зарытых у него в хлеву, и сослали, на шесть с половиной лет сослали в этот богом забытый край! Думали, вечно будут верховодить, – вот он и поглядит, вот он и послушает, как они теперь запоют! Пройдя километров пять, Юдл Пискун увидел массивное кирпичное здание завода, окруженное множеством высоких жилых корпусов: это был новый поселок, выросший за последние годы среди голой степи. «Вот где наш пот и наша кровь», – подумал Юдл. Скосив левый глаз, он злобно разглядывал завод, вспоминая, как и ему иногда приходилось выделывать и обжигать для «них» кирпичи, и мысль, что здесь и он вкалывал, пробуждала в нем лютую, бессильную ярость. Как ему хотелось, чтобы случилось невероятное, чтобы какие-нибудь злые чары смели с лица земли возведенные ими строения. Он ненавидел здесь все: этот завод, эти жилые дома, молодые деревца около домов, даже траву, что росла на обочинах дороги, саму землю и небо над ней.
Сопя и отдуваясь, Юдл вымахал на своих кривоватых ногах порядочное расстояние, когда вдруг услышал сзади автомобильные гудки, смех и какие-то восклицания.
«За мной…»
Он вжал голову в плечи, пригнулся. Гудки и голоса становились все громче. Весь в холодном поту, Юдл шел не оглядываясь. Спустя минуту машина с грохотом промчалась мимо. В кузове тесно сидели женщины, работницы кирпичного завода. Они что-то крикнули Юдлу, помахали ему и, смеясь, бросили несколько крупных румяных яблок.
– Черт их несет, чтоб им провалиться, – выругался Юдл, поднимая голову. Он собрал с дороги запыленные яблоки, затолкал их, не вытирая, в мешок и пошел быстрее. Ему не терпелось добраться до станции– только когда он сядет в вагон и поезд тронется, он поверит наконец, что вырвался отсюда.
Жаркий сухой ветер, прилетевший из раскаленной степи, поднял пыль на дороге, хлестал Юдла по лицу.
Было уже далеко за полдень, когда Юдл добрался до станции. Оказалось, что поезд отправляется не скоро. Надо было ждать. Делать Юдлу было нечего. Людей вокруг было немного – несколько мужчин, больше казахов с редкими бородками, и женщин в пестрых платьях беспорядочно сидели с тюками и кошелками в привокзальном скверике. На платформе стояла группа железнодорожников – о чем-то между собой разговаривали. В стороне прохаживался высокий худой милиционер. Юдл озабоченно оглядывался, искал глазами уголок поукромнее, чтобы не торчать у всех перед глазами. Ему все казалось, что люди посматривают на него с подозрением. Завидев поодаль каменное здание туалета, он поспешил туда, решив, что здесь-то ему никто не помешает переждать до отхода поезда. Но немного погодя туда вошел один из железнодорожников, и Юдл покинул свое убежище. Прихрамывая, он направился в сквер. Сел на лавочку под засохшей акацией, прислонился спиной к стволу, опустил голову, прикрыл глаза. Так он долго сидел неподвижно, но не спал, прислушивался. Его уши, чуткие как у зверя, вздрагивали при каждом шорохе.
Наконец стемнело, и Юдл вздохнул с облегчением. Почувствовав себя увереннее, он вышел на платформу, уже запруженную пассажирами. Где-то совсем близко раздался свисток паровоза. Ну, теперь уже недолго…
На платформе становилось все людней, женщины перетаскивали с места на место свои корзины, иная водружала корзину на голову и так шла среди толпы.
Едва поезд подошел и остановился у платформы, как Юдл, пробившись сквозь густую толпу, вскочил в последний вагон. Там он, обливаясь потом, залез на самый верх, на третью полку, лег и всем телом прижался к стене. Хоть бы уж скорей отправили поезд…
В слабо освещенном вагоне было тесно, со всех концов доносился разноголосый и разноязычный гомон. Втискивались всё новые и новые пассажиры, и каждый старался захватить себе место. Наконец все разместились, разложили свои узлы, корзины, и в вагоне стало спокойнее.
«Почему не отправляют поезд? – волновался Юдл. – А может, поезд нарочно задерживают? Из-за меня?…» Но тут дрогнул вагон, поезд тронулся. «Все… Гора с плеч… Вырвался, будь они прокляты…»
Насторожив хрящеватые уши, он жадно прислушивался к торопливому перестуку колес.
Кто-то толкнул его в бок. Юдл испуганно обернулся: снизу на него смотрел, задрав голову, узкоглазый проводник-казах:
– Почему, любезный, на третью полку забрался? Тебе там не жарко? А ну, покажи свой билетик.
С перепугу Юдл не сразу нашел билет во внутреннем кармане. Проводник долго и недоверчиво рассматривал билет, потом вернул его Юдлу, посоветовав слезть и занять нижнюю полку, которая скоро должна освободиться. Но Юдл, прикинувшись, будто не понял его, повернулся лицом к стене и нарочно громко захрапел. Проводник махнул рукой и ушел.
Вагон мягко покачивался. Пассажиры вскоре уснули, стало тихо. В тишине вагона был особенно слышен стук колес и короткие свистки паровоза. Юдл прислушался к быстрому ходу поезда. Едем, значит… Едем! Домой, в Бурьяновку… Кто его там теперь дожидается, в хатке на самом краю хутора? Одна Доба…
В письме, которое он получил вместе с последней посылкой, жена сообщала, что проводила Иоську на фронт. Юдлу это было только на руку. Хорошо, что Иоськи нет в хуторе. Ведь это он, родной сын, донес на отца, выдал его, можно сказать, с головой. Побежал сообщать – кому? Коммунистке Эльке Руднер, порадовать ее – мол, в отцовском хлеву зарыта пшеница… Полжизни отнял, подлец…
За все шесть с половиной лет Юдл ни разу не справился в своих письмах об Иоське, и Иоська ему тоже не писал.
Поезд замедлил ход и через минуту остановился. Это была большая железнодорожная станция. В окно вагона падал слабый свет фонаря. Среди ночной тишины Юдл услышал близкий голос громкоговорителя. Передавали сводку Совинформбюро. Четырнадцатого сентября советские войска оставили город Кременчуг…
Юдл даже закряхтел от удовольствия. Лучшего подарка ему и сделать не могли.
Поезд снова пошел. Снова монотонно застучали колеса, снова мягко покачивался вагон. Но Юдл и не думал спать.
«Как немцы-то прут… Ох, прут…» Теперь его одолевали новые страхи. Успеет ли он хоть доехать до Бурьяновки? Юдл, правда, слышал, будто гитлеровцы особенно жестоко обращаются с евреями, уничтожают их. Но, конечно, это касается только коммунистов, советских активистов. Ему, Юдлу, ничто не угрожает. Наоборот, он еще будет у немцев в чести. Мало принял он мук от советской власти? С первого дня жилы из него тянули. А теперь еще и лагерь, у него об этом и справочка имеется, а лучшего документа немцам не надо…
Рано утром Юдл слышал, как на нижней полке переговариваются пассажиры.
– Кременчуг оставили… Какой город!..
– Господи, что же это такое? До каких пор наши будут отступать?
– Теперь его должны остановить, – уверял мужской голос, – вот увидите, дальше он не пойдет…
«Типун тебе на язык!» – пожелал Юдл, сразу почувствовав ненависть к невидимому пассажиру.
Весь день Юдл пролежал на верхней полке, под пышущей жаром крышей. Обливался потом, задыхался, но не слезал.
Только на вторую ночь, когда погасили свет и в темном вагоне послышался храп пассажиров, Юдл осторожно спустился и, сжимая зубы, торопливо заковылял в конец вагона, в уборную. Вернувшись, он не сразу полез на верхнюю полку. Тихо подошел к синеющему во мраке окошку, долго и пристально вглядывался в ночную тьму, наблюдал за редкими рассеянными огоньками. Вскоре огоньки замелькали чаще, поезд, усиленно пыхтя, приближался к станции.
Когда поезд остановился у слабо освещенной пустой платформы, Юдл навострил уши, надеясь снова услышать сводку. Но на вокзале царила обычная для позднего часа тишина. Радио молчало. На пустой платформе печально прозвучал слабый звонок. Паровоз ответил протяжным свистком, и поезд тронулся.
На этот раз Юдл не получил ожидаемого удовольствия.
Весь следующий день он снова пролежал у себя на полке, а ночью простоял у окна.
Однажды не дотерпел до ночи, пришлось вставать среди белого дня. По его виду соседи сразу догадались, откуда едет этот пассажир; некоторые качали рыться в корзинах.
Когда Юдл вернулся и, ни на кого не глядя, вскарабкался на свою полку, он нашел там полбуханки хлеба, несколько яиц и яблок, аккуратно разложенных на бумаге.
Юдл принял все это с горестными, протяжными вздохами, стараясь, чтобы их услышали сидящие внизу пассажиры.
Пожилая удмуртка, спешившая в Омск к сыну, раненному и теперь лежавшему в госпитале, сочувственно вздохнула в ответ и, вытащив из корзины большой кусок баранины, протянула Юдлу.
– Берн, бери, – сказала сна. – Свое, не покупное..
Юдл не заставил себя долго упрашивать. Снова громко вздохнув, взял мясо. Всю провизию спрятал в мешок, где еще хранились Добины коржики и сало. Теперь он мог не экономить на еде. Набив рот мясом, он жевал в кулак и думал, должно быть, не так уж бедно живется этой колхознице, будь она проклята, если в военное время отвалила такой кус баранины.
Станции следовали одна за другой, пассажиры менялись, одни высаживались, другие садились, а поезд все шел и шел, и колеса стучали, стучали, стучали…
Всякий раз, когда поезд подходил к станции, Юдл напряженно прислушивался. Сводку! Услышать плохую сводку – вот чего он жаждал до судороги в сердце. Он по-прежнему спускался ночью вниз, стоял один у окна в темном вагоне и, кося левым глазом, вглядывался – скоро ли станция. Нигде не видно было огоньков. Все кругом было погружено во мрак.
В Воронеже ему повезло. Ожидая на переполненной людьми платформе поезд, на котором он должен был ехать дальше, Юдл услышал голос радиодиктора: двадцать первого сентября после упорных боев наши войска оставили Киев…
Радостно возбужденный, Юдл с аппетитом съел кусок жареного мяса и закусил яблоком.
Вскоре подошел пассажирский поезд, Юдл схватил свой мешок и побежал. Попытался сесть в вагон, но проводник не пустил его, тогда он кинулся к другому – и в эту минуту услышал:
– Пискун!
Юдл оглянулся. С другой стороны платформы, где стоял длинный военный состав, к нему бежал солдат с автоматом. Втянув голову в плечи, Юдл замер: за ним?
– Пискун!.. Юдл! Как вы сюда попали? – воскликнул солдат по-еврейски и протянул руку. – Вы что, не узнаете меня?
Это был Шефтл Кобылец. Он торопился. Через десять минут отходил эшелон, с которым он возвращался на фронт. Около месяца ему пришлось провести в госпитале в первом же бою осколок бомбы попал ему в правый бок, под ребро. Хоть Шефтл Юдла никогда не любил, но обрадовался, увидев его: все-таки земляк, односельчанин, а это кое-что значит в военное время. А тут еще выяснилось, что Юдл едет в Бурьяновку, – значит, можно передать с ним привет домой…
О ранении Шефтл просил Зелде не говорить, просто передать, что Юдл видел его и он здоров. И вот еще что – Шефтл вынул из холщового мешочка выданный ему на дорогу паек: две банки тушенки и пачку сахара – и протянул Юдлу.
– Одну банку возьмите себе, в дороге пригодится, а другую и сахар, прошу вас, передайте Зелде с ребятишками.
Затем Шефтл повел Юдла в конец поезда, к последнему вагону, и кивнул проводнику – пропустите, мол.
– Ладно, – махнул рукой проводник.
– Кланяйтесь Добе, она, должно быть, вас уже поджидает… – сказал Шефтл, прощаясь, и осекся. Испугался, что Юдл спросит про сына, он ведь мог не знать, что Иоська убит на войне. Смутившись, Шефтл махнул Юдлу рукой – тот уже проталкивался в дверь битком набитого вагона – и, придерживая автомат, торопливо зашагал к своему эшелону.
Как только поезд тронулся, Юдл открыл банку консервов и съел всю тушенку за один присест. Другую – отложил на завтра. Все шло как нельзя лучше. Когда поезд проезжал Запорожье – город горел. Небо над ним было красное. Юдл лежал на полке и сосал сахар.
В Гуляйполе Юдл приехал на рассвете. Еще более грязный и помятый, чем в начале пути, он вылез из вагона и сквозь белый холодный туман, стелившийся над землей, увидел хорошо знакомый вокзал из красного кирпича.
«Отсюда меня тогда увезли, и вот я здесь! Вернулся… и как раз вовремя!»
Обойдя кругом по-утреннему тихий вокзал, Юдл свернул влево, к дороге, ведущей в Бурьяновку. Но пошел не дорогой, а по заросшей бурьяном канаве, по боковым тропкам. Только под вечер, весь в колючках, добрался он до гуляйпольских могилок, откуда уже видны были хуторские крыши и верхушки деревьев. Юдл оглядел окрестность. На чисто убранных полях было пусто, только с пригорка, где чернели давно отцветшие подсолнухи, доносились женские голоса. Там, видно, еще работали.
Юдл решил подождать, пока они кончат.
Было уже совсем темно, когда, выбравшись из зарослей полыни, Юдл направился к хутору. По высохшей балке, огибавшей картофельные огороды, мимо толоки он вышел на другой край хутора.
Хоть и было темно, Юдл сразу узнал свою хатенку на отшибе – там, где хуторская улица спускается с поросшего чабрецом бугра.
Тихо…
Прокравшись мимо старого, покосившегося забора, Юдл вошел в свой двор. Огляделся по сторонам и увидел бледную полосу света, падающую из завешенного изнутри окна. Бесшумно подошел, поднялся на цыпочки, заглянул в щелку. Доба, грустная, поникшая, стояла около знакомой деревянной кровати и концом платка вытирала глаза.
Юдл тихонько проскользнул в сени. Но тут он наткнулся на грабли у стены, свалил их и сам чуть не упал.
– Опять он здесь, чертов пес… Повадился, будь он неладен… Пошел вон! – крикнула из комнаты Доба плачущим голосом.
В эту минуту Юдл открыл дверь.
– Кто там? – Доба в испуге отступила к завешенному окну и вдруг остановилась как вкопанная. – Юдл! Это ты?
Глава вторая
Посадив Юдла на поезд, Шефтл тут же, на платформе, у газетного киоска, написал письмецо домой, опустил в почтовый ящик и побежал к своему эшелону, уже лязгавшему буферами. Шефтл ловко вскочил на высокую железную подножку закопченного вагона, подтянулся, шагнул в душную теплушку и остановился у широко раскрытой двери, все еще взволнованный неожиданной встречей с Юдлом. Повезло ему, ничего не скажешь. Не каждому удается в такое время передать домашним привет и еще посылочку вдобавок. Мало, конечно… Надо бы еще что-нибудь, хоть пару тетрадок и карандаши… Шмуэлке, должно быть, уже ходит в школу… Жаль, не было под рукой, одни только консервы да сахар… Но хорошо, хоть это послал. Шефтл знал, что и Зелде, и матери, и ребятишкам подарок доставит радость. «Как они там без меня, – думал он с тоской, – как там Зелда справляется одна… А мать старая, больная…» Во всех письмах Зелда пишет одно и то же: о нас не беспокойся, дети и мать, слава богу, здоровы, все хорошо. Но Шефтл знал Зелду – знал, что, если и трудно ей, если даже беда случится, она не напишет, не захочет его огорчать. Несмотря на хорошие письма, Шефтл все же был в постоянной тревоге. Стоя у открытой двери теплушки и глядя на голые поля, мимо которых проносился поезд, Шефтл представлял себе свой двор, хату с обведенными синькой углами и вишенник напротив окон… все стояло перед глазами, как наяву. Но как он ни напрягал воображение, не мог увидеть Зелду. Уже в который раз ему снился один и тот же сон: идет дождь, не дождь – ливень, заливает весь хутор и его двор, а во дворе с детьми стоит Элька, тихо улыбается и машет ему рукой, точь-в-точь как Зелда, когда провожала его на войну… Почему ему снится один и тот же сон? Почему он среди своих детей всякий раз видит не Зелду, а Эльку? Что это значит? Может, дома что-то случилось? Шефтл с тяжелым сердцем отошел от двери, остановился посреди вагона, осмотрелся. Вагон был набит битком, сержанты, старшины, все бывалые солдаты, успевшие и повоевать, и ранение получить, и вылечиться. В основном – молодые ребята, гораздо моложе Шефтла. По разговорам, по тому, как они держались, по всем их ухваткам и тону Шефтл видел, что народ это холостой, свободный от тех забот о доме, о семье, какие мучили его. Среди всей этой зеленой молодежи, которая без умолку смеялась, зубоскалила, пела песни и рассказывала любовные истории, в вагоне был только один красноармеец его лет, может даже постарше. Он держался в стороне, почти не разговаривал. «Должно быть, семейный», – подумал Шефтл, и от одной этой мысли служивый стал ему как-то по-особому близок. Захотелось подсесть, расспросить, кто да откуда, где семья, что пишут из дому, и вообще поговорить, отвести душу.
Шефтл подошел к скамье, на которой сидел незнакомый красноармеец.
– Закурим? – спросил он, протягивая вышитый Зелдой кисет.
– Только что курил, – ответил красноармеец. Но, увидев протянутую руку и просительную улыбку на скуластом смуглом лице, все-таки взял щепотку и свернул самокрутку.
Шефтл сел. Не спеша закурил и начал расспрашивать: где, в каком лежал госпитале, на каком фронте воевал, куда ранило?
Красноармеец отвечал неохотно.
Это был Алексей Орешин. Настроение у него было подавленное. Он не получил до сих пор ни одного письма от Эльки.
Получилось черт знает что. Первые три недели июня, до самого начала войны, Алексей был загружен работой в одном из районов Минской области. Эльку еще до этого просил писать ему в Минск, до востребования. А 26 июня, когда немцы бомбили город, он заскочил в Минск за письмами. Но весь квартал был уже разгромлен, горел. С трудом выбрался из города. Тогда писать Эльке не было никакой возможности. Написал уже из госпиталя, просил тут же, немедленно ответить. Но через две недели письмо вернулось назад с надписью на конверте «Адресат выбыл».
Алексей не знал покоя, думал и передумывал, что могло с ними случиться, где семья? Он терялся в догадках. У кого узнать? Где искать их?
Погруженный в свои мысли, он вяло поддерживал разговор с подсевшим солдатом. Но тот не смущался.
– Ну, а в госпитале? Долго лежали? – допытывался Шефтл, попыхивая толстой козьей ножкой.
– Месяц с чем-то… Да, около пяти недель, – рассеянно ответил Алексей.
– А я только двадцать три дня. Еле дождался, пока выписали. Лежишь, ничего не делаешь… и все время думаешь о доме. Что с ними? Как они там без тебя? Лишь бы не было беды, лишь бы были здоровы – больше, кажется, ничего не нужно. Не то что эти… Хорошо им, – Шефтл показал на компанию молоденьких красноармейцев, окруживших круглолицего сержанта, который стоял посреди теплушки и, покачиваясь на каблуках, шпарил на гармони. – Ни забот, ни хлопот. Что они знают? А у меня всегда неспокойно на сердце. Дома жена и четверо ребят мал мала меньше… И старуха мать вдобавок… А у вас? Тоже, должно быть, есть семья, – полюбопытствовал Шефтл, придвигаясь к Алексею.








