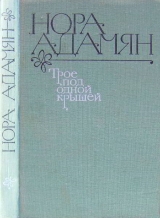
Текст книги "Трое под одной крышей "
Автор книги: Нора Адамян
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 17 страниц)
Вот они сидят – Шох во главе стола, по правую его руку дедушка, по левую – Муса. Шох мальчика точно не замечает, но Муса весь наполнен его присутствием. Он готов в любую минуту сорваться с места, чтобы услужить повелителю. Мне это было неприятно, хотя и я неосознанно чувствовала, что Шох – личность.
Плов Шох и дедушка ели руками. Кругообразно обводя пальцами по тарелке, приминали зернышки риса в жирный комок и отправляли его в рот, не уронив ни крошки.
В конце обеда принесли пиалы с теплой водой, и Шох обмакнул в воду свои длинные пальцы с оранжевыми ногтями. В другой пиале пополоскал белые руки с большой бирюзой на безымянном пальце мой дед.
По столовой плавал аромат аравийского кофе и апельсинов. На тарелках высились горки фисташковых скорлупок. Все шло ко времени подведения итогов, к показу успехов, достигнутых малым побегом племени Шоха.
Сделать это следовало непринужденно, как бы между прочим, хотя непринужденности не было и в помине. Ответственность за наступающий миг ощущали и я, и бабушка, и даже оба дяди. Может быть, всем передалось волнение Мусы, у которого совсем закрылись глаза и открылся рот.
В столовой на подоконнике лежали тетради по русскому и арифметике, отмеченные в конце каждой работы красным учительским «хор». Чтобы совсем сразить Шоха, тут же была и стопка рисунков, тщательно переведенных из разных книг и раскрашенных акварелью. Муса согласился на этот обман, подстрекаемый тщеславием и в надежде на то, что Шох не знает о существовании копировальной бумаги.
Была подготовлена и концертная часть. Я долго подбирала подходящие стихи и наконец выбрала «Мцыри». У Мусы была необыкновенная память, он мог выучить наизусть всю поэму. Но было решено, что он прочтет только первую главу, а в качестве аккомпанемента я исполню на пианино свой последний урок – «Баркаролу» Чайковского.
Мы были во всеоружии. Но никто не торопился призвать нас к действию. Им, видите ли, было важно, какая в Закаспийском крае погода, как поживают дети Шоха, его верблюды, его стада баранов. Спрашивали вежливые дяди, спрашивала бабушка. Шох отвечал, дед переводил. Я заметила, что Шох понимает по-русски, но говорить не хочет. А почему бы ему не поинтересоваться: «А ну-ка. Мусиша, покажи, чему ты тут научился?» Но даже когда вежливый разговор иссяк и все на минуту замолчали, он не сделал ни одного движения в сторону мальчика.
Понял наше нетерпение дедушка. Разламывая надвое фисташку, он благодушно сказал:
– Почитай-ка нам что-нибудь, Муса, а мы послушаем…
Дядя Арто раскрыл толстый портфель, который всегда был у него под рукой, и вытащил два тома.
Он не успел раскрыть книгу, как Муса, взглянув на обложку, крикнул не своим голосом:
– История ха ха века!
Дядя Арто успел негромко сказать: «Ого!»
– История хих века! – провозгласил Муса заглавие другого тома. Он не знал римских цифр! Я точно провалилась в глубокий колодец. Сейчас засмеются дяди, у которых чувство юмора в переизбытке. Сейчас Шох поймет, что мальчика недоучили.
Но никто не засмеялся. Все только на секунду застыли. А Муса пулеметно, без точек и запятых, выкрикивал текст из истории XX века. Больше всего он боялся запнуться на каком-нибудь незнакомом слове. Но поначалу этого не произошло, и он, успокоившись, шпарил все быстрее, временами останавливаясь, чтобы перевести дыхание, и тогда его коричневые глаза с ожиданием и надеждой устремлялись на Шоха.
И я смотрела на Шоха. Мне так хотелось, чтобы он удивился, засмеялся, похлопал Мусу по плечу…
Дедушка одобрительно кивал, дяди сдержанно улыбались. Шох сидел безучастный, как каменный истукан. Его лицо было брезгливо-утомленным. Когда Муса на секунду замолк, чтобы перевернуть страницу, Шох повернулся к дедушке и спросил его о чем-то по-туркменски. Муса снова было начал читать, но, не глядя на него, Шох сделал отстраняющее движение рукой, и мальчик замолчал.
– Молодец Муса, – сказал дядя Арто. – Поразительно способный ребенок…
– За короткое время такие успехи…
Мои дяди делали вид, что говорят друг с другом.
Тогда, равнодушно качнув головой в сторону Мусы, Шох бросил короткую фразу, которую Муса потом смог перевести мне только приблизительно. В его русском языке не хватало слов для более точного перевода.
– Дождь над морем не нужен, – сказал Шох.
– Но это не значит именно «дождь», – пытался втолковать мне Муса. – Так говорят, когда делается совсем ненужное дело… совсем глупое дело…
– Сейчас перед нами стоит вопрос воспитания детей. Я уверена, что свекровь их без меня в костел таскает и на воскресные беседы к пастору водит. Только на то и надеюсь, что для мальчиков я пока самый высокий авторитет. А как поступить, чтобы никого не обидеть? Если бы папа был жив, все было бы проще. Он очень любил моих ребят. Бывало, привезу их к нему на все лето – и они просто преображенные домой возвращаются. Он с ними целые дни возился и столько в них вкладывал! «Пусть молодые везде чувствуют себя дома. Так когда-нибудь и будет на земле». Это был его конек – поговорить о будущем…
Шох прожил у нас неделю. Каждый день варили плов. Каждый день в определенные часы из моей комнаты доносилось бормотанье – Шох молился. Для этого в углу был постелен коврик. Меня очень интересовало, как это происходит, но дверь в комнату всегда была плотно закрыта.
Дедушка возил Шоха по учреждениям. Оказывается, Шох приехал, чтобы продать советской власти земли своего племени. Но из этого, кажется, пока что ничего не получалось.
Муса получил из рук Шоха посылочку от каких-то своих дальних родичей – мешочек риса, толченного с сахаром, и сумку катышков из теста, варенных в бараньем жиру. Он готов был одарить своими гостинцами всю нашу семью – принес их к общему столу, – но бабушка посоветовала ему держать сладости в своей комнате и кушать, когда он сам захочет.
Меня это вполне устраивало. Но пиры у нас получались невеселые. Муса все никак не мог прийти в себя. Безразличие Шоха к его успехам выбило опору из-под его ног.
С ртом, набитым сладкой рисовой мукой, которая при каждом слове вылетала, как облако, я допытывалась у Мусы:
– Ну что ты для Шоха, что ли, учился?
– Для Шоха, – отвечал он уныло, – я должен был стать его правой рукой. А теперь не нужно. Шох говорит – русские совсем испортились. Он не хочет с ними дела иметь. Он уходит в Персию. Землю продаст и уйдет.
– Не продаст он землю.
Муса недоверчиво усмехнулся.
– Земля народная, – сказала я, вколачивая эти слова в продолговатую, как дынька, голову Мусы. – Не его земля. Теперь все переменилось. А твой Шох этого не понимает!
– Мусенька, он меня увезет с собой…
– Ну, знаю, – довольно равнодушно отозвалась я. – В школе тебя отпустили, а осенью приедешь снова.
В этот день Муса ничего больше мне не сказал. Шоха собирали в дорогу. Он ездил с дедушкой по магазинам и скупал совершенно неинтересные вещи – множество глубоких галош на красной подкладке, чай, спрессованный в плитки, головы сахара и рулоны красного и синего сатина.
Шла весна, у меня хватало своих забот. Надо было натянуть отметки по математике, чтобы не иметь на лето тяжкой гири переэкзаменовки. Время уходило не столько на занятия, сколько на организацию. Кто-то должен был решить за меня годовую контрольную, кто-то незаметно передать ее мне. А я со своей стороны подрядилась написать три сочинения по литературе.
Так что события нашего дома отошли для меня на второй план. Я и забыла совсем, что назавтра Шох и Муса уезжают, шла домой из школы, помахивая сумкой, когда вдруг увидела Мусу.
– Чего ты здесь торчишь?
– Тебя жду. Пойдем немножко по улице.
– Зачем?
Он жалобно перекосил лицо.
– Вместо того чтобы радоваться, ты какой-то ненормальный стал, – назидательно сказала я. – Домой едешь! В родные края!
Муса молчал.
В двух шагах от нашего дома был маленький сквер, именуемый Молоканским. Днем там сидели няньки и бабушки с младенцами и малолетними. По вечерам туда ходить не рекомендовалось. У входа в этот чахлый садик продавали воздушные шары и разноцветные вертушки – бумажные розетки, прикрепленные к скрещенным палочкам. Когда бежишь против ветра – розетки крутятся.
В садике нежно пахло травой, которая повсюду проклюнулась сквозь палые листья.
Мы нашли свободную скамью. Муса ни за что не хотел сесть с кем-нибудь рядом. Его дело требовало конспирации.
– Мусенька, я не хочу уезжать с Шохом…
– Ну, удивил! – сказала я. – То ах юрта, ах верблюд, ах родные просторы, а то «не хочу»…
– Мусенька, он меня не отпустит обратно… Это навсегда!
Только тут я стала понимать Мусу.
– Я не хочу в Персию, я там ничего больше не узнаю. Шох говорит, чтобы баранов пасти, много учиться не надо. Ну, пусть ему не надо. А мне надо. Я хочу астрономом стать…
– Ну, оставайся…
– Как останусь? Кто меня кормить, одевать будет?
– Ну совсем малахольный. Жил у нас до сих пор и будешь жить.
– За меня Шох платил.
– Кому платил?
– Дедушке. Вчера сидели, считали – за дорогу, за учителя, за брюки, за рубашки… Знаешь, сколько денег Шох отдал…
– Врешь ты…
Я знала, что Муса никогда не врет, знала, что это правда, но не могла ее принять. Ах, как хотелось бы мне, чтобы дедушка не брал никаких денег. Чтоб не было никаких расчетов ни за учителя, ни за рубашки, ни за кусок хлеба, съеденный в нашем доме.
Все теперь как-то странно переменилось. Я впервые осуждала дедушку. Я не могла больше идти к нему и требовать, чтобы Муса остался у нас.
И все-таки Муса не должен был уезжать!
– Шох сказал – столько денег выбросил на ветер, лучше бы ишака купил… Он плохой человек!
– Дошло до тебя наконец…
Сквозь щелочки глаз у Мусы просочились слезы. И потекли, потекли…
Я приняла решение. Он останется. Будет продавать вразнос ириски и шоколад «Одесса-мама», а я буду делать мережку по десять копеек за метр и отдавать ему деньги. Как-нибудь обойдемся.
Муса слушал меня, но все еще всхлипывал.
– А разнюнился ты! – сказала я сурово, чтобы поднять его дух. – Главное – не уедешь. Не бойся. Я тебе ручаюсь!
…Та пятница – выходной день в Азербайджане – началась с предотъездной суматохи. Пароход – на этот раз «Илья Муромец» – отходил в двенадцать часов, но бабушка встала с зарей. Дед тоже поднялся рано. Когда он хотел с бабушкой посекретничать, они говорили по-армянски, хотя я отлично все понимала.
– Это хороший ребенок, – говорил дедушка. Видимо, разговор у них шел о Мусе. – Жалко его…
– Еще неизвестно, где он будет счастливее, – вздохнула бабушка.
Дед вдруг рассердился на нее, что бывало очень редко.
– Думай, что говоришь! Неужели ты не понимаешь, что здесь теперь наступили времена именно для таких, как он?..
У меня было много хлопот в этот день, и время летело быстро. Дворник Мухан уже выносил из дома тюки и переметные сумы. Вещи Мусы – узелок, фанерный чемодан и связка учебников – лежали у дверей, но самого Мусы нигде не было.
Вот уже выпили на дорогу кофе. Невозмутимый Шох летящими движениями руки попрощался с бабушкой и вышел, чтобы сесть на извозчика.
– Где Муса?
Дедушка повернулся ко мне, но я опередила его. Я выскочила во двор, отчаянно призывая Мусу. Я заглядывала во все подвалы, дважды забежала в дворницкую, где с особым старанием переворошила дивно пахнущие полынные веники, стучалась в квартиры соседей.
Шох сидел на извозчике прямой и неподвижный – только шевелил своими четками, а дедушка поглядывал на часы, потому что стрелки уже перевалили за одиннадцать. И дядя Арто поглядывал на часы, но все молчали. Наконец Шох сказал что-то коротко и отрывисто. Дедушка наскоро отдал распоряжение дяде остаться дома и, если появится Муса, везти его на пристань, а мне велено было сесть на место дяди Арто и ехать провожать Шоха.
Почему бы не поехать? Тоже удовольствие.
На обратном пути дедушка со мной не разговаривал. И вообще был не в духе.
Дома Мусы не было. Бабушка встретила нас встревоженным взглядом и ушла с дедом в свою комнату.
А я помчалась на веранду. Там в длинном деревянном ларе, где хранились продукты, придавленный мешком с орехами, лежал плоский белый Муса – и не шевелился, не дышал…
– Люди добрые! – закричала я, выскочив во двор и вздымая к небу руки. – Люди добрые, помогите, я погубила мальчика…
Нет, я его не погубила. Он очнулся и скоро пришел в себя. Потом он много учился, но стал не астрономом, а специалистом по орошению безводных земель, ученым, профессором. У него была дочь и два внука – Муса и Анджей.
Знает ли Мария, что судьбу ее отца решила я?
Вечером мы долго совещались, куда спрятаться Мусе. Я предлагала в дворницкую, под веники. Но уже утром, перед отъездом, он сказал, что залезет в ларь. Я тщательно прикрыла его мешками.
Прошло много лет. Почему мы потом не встречались? Вернулись мои родители, наша семья отделилась от стариков. Умер дедушка. Муса уехал работать и учиться в Ташкент. У меня началась своя молодая, счастливая, трудная жизнь. И мы потеряли друг друга.
И все же именно я причастна к тому, что Муса осуществил свои мечты. Он прожил хотя и недолгую, но богатую, полную жизнь и оставил свой след на земле.
И сейчас я чувствовала себя очень гордой. Мария говорила:
– Папа дал мне имя в вашу честь. Он много рассказывал, какая вы были живая, веселая девочка…
Да. Наверное, я была такая.
– Он всю вашу семью любил, но больше всего дедушку. Папа всегда говорил: только человек большой души мог не испугаться ответственности за чужого ребенка. Ведь он всю папину жизнь перевернул.
Конечно, дедушка сделал для Мусы много. Мальчик жил у нас в доме, из этого дома он уехал учиться в институт. Но все-таки решающая роль в судьбе Мусы принадлежала не деду, а мне! Мария, видимо, ничего не знает об этом…
Но названная в мою честь молодая женщина рассказывает мне о том, что происходило десятки лет назад. И я вдруг поняла, что она знает больше меня. И наконец начинаю понимать, как все тогда было на самом деле…
Поздно вечером, накануне отъезда Шоха, Муса подкараулил дедушку, который перед сном всегда делал моцион – гулял по нашему большому квадратному двору.
Там у них и произошел разговор, вернее, монолог, потому что говорил главным образом мальчик. Говорил он с отчаяньем, понимая, что его желания неосуществимы, и все-таки на что-то надеясь. Он рассказал о детских фантастических планах спасения, на которые не мог пойти он, повзрослевший от горя. Наверное, он плакал, когда говорил, что Муся хочет спрятать его в дворницкой, под новые веники…
Тогда дедушка сказал ему только три слова, и Муса всю жизнь вспоминал их смеясь и вытирая слезы.
– Лучше в ларь, – сказал дедушка.
Семья Прошьянов
Не говори с тоской – их нет,
Но с благодарностию – были…
В газете «Правда» от 20 декабря 1918 года Владимир Ильич Ленин опубликовал некролог «Памяти тов. Прошьяна». Тепло отозвавшись о видном революционере, Владимир Ильич отметил, что, несмотря на все ошибки и заблуждения, «сближение Прошьяна с коммунизмом было бы неизбежно, если бы этому сближению не помешала преждевременная смерть» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 37, с. 385).
Человек, о котором написаны эти строки, был сыном известного армянского писателя Перча Прошьяна.
Я не знала ни отца, ни сына. Но мне пришлось в течение нескольких лет моей молодости близко общаться с семьей Прошьянов – детей писателя, братьев и сестер человека, входившего в качестве народного комиссара в правительство, образованное В. И. Лениным после Великой Октябрьской социалистической революции.
Многое мне запомнилось – доброта, благожелательность, отзывчивость этих людей. И мне захотелось о них – ушедших – рассказать ныне живущим, рассказать о той среде армянской интеллигенции, которая в первой четверти нашего века дала немало прогрессивных деятелей в различных областях культуры. Естественно, по своей тогдашней молодости я не могла составить всестороннюю и объективную оценку того, что увидела в этой семье. Я пишу только о том, что удержала память, не претендуя на исчерпывающую характеристику этих людей, с которыми меня ненадолго свела жизнь в тридцатые годы нашего столетия.
В этот дом можно было прийти в любое время. Никто не удивлялся, если во втором часу ночи раздавался звонок и появлялись гости. Всех встречали радостным приветствием: «О! Кто к нам пришел!» Всем было обеспечено внимание, сочувствие, признание. В этом доме бывали только одаренные, талантливые, а иногда гениальные, благородные люди. Такими становились все, когда переступали порог квартиры Прошьянов на улице имени 28 апреля.
Дом был каменный, старой постройки. Сразу от подъезда лестница в один пролет вела на второй этаж. В передней вечерами сидели незнакомые озабоченные люди. Это были клиенты хозяина квартиры адвоката Папака Перчиевича Прошьяна. Гости же проходили в большую столовую, где их встречала сестра хозяина Перчануш Перчиевна, которая мне в те годы казалась старой. Она поднималась с широкой тахты, на которой отдыхала после работы. Глаза, молодые, как у всех Прошьянов, излучали доброжелательность.
– О! Кто к нам пришел!
В годы юности мне необходимо было самоутверждение и признание моих дарований. За этим я приходила в дом Прошьянов, где не было никого подходящего мне по возрасту, но где взрослые люди понимали меня гораздо лучше и ценили гораздо выше, чем мои сверстники.
Тикин Перчануш – так называли ее все друзья и знакомые, заменив отчество старинным армянским обращением к почтенной женщине, – преподавала в школе армянский язык и литературу. Она брала на себя еще много нагрузок – водила своих учеников на заводы, посещала с ними музеи, театры и даже нефтяные промыслы. Я знала, что возвращалась она с работы усталая, знала, что ей негде отдохнуть, кроме этой тахты, но, видя ее постоянную искреннюю радость при моем появлении, никогда об этом не задумывалась, и такта моего хватало только на то, чтобы великодушно разрешить:
– Вы лежите, отдыхайте, я посижу…
Она соглашалась, возвращалась на большие мутаки – армянские, круглые, в виде огромных колбас, подушки – и обращала ко мне лицо, обрамленное пышными полуседыми, почти всегда растрепанными волосами.
– Я действительно немного устала… Но какие у нас растут дети! Какие одаренные дети! Проводишь урок, как со взрослыми, мыслящими людьми. Сегодня один мальчик спросил: «Если люди произошли от обезьян, то почему это не случается сейчас? Где сейчас такие люди, которые вырабатываются из обезьян?» Его волнует процесс. Это же интеллект! Будущий Павлов! Ты представляешь?
Я представляла. Вчерашняя школьница, я хорошо знала, как поступают с увлекающимися педагогами. Один-два таких вопроса, не относящихся к предмету, – и полетел урок, спрос, выставление отметок, задание на следующий день.
Но я кивала головой и разделяла радость по поводу того, что у нас растут такие одаренные дети. Так же искренно я восторгалась котом Васо, который из всех утренних звонков безошибочно узнавал звонок молочницы. Я, конечно, знала, что в числе анекдотов об этом доме – а их было немало – есть и маленькая шутка о том, как тикин Перчануш, высунувшись из окна стеклянной галереи, сзывает со двора своих кошек:
– Кисо, Писо, Васо, идите кушать мясо…
Потом начинала что-нибудь рассказывать я, а тикин Перчануш засыпала. Я замолкала не сразу – она проснулась бы. Я продолжала говорить все тише, тише, после паузы повторяла какое-нибудь одно слово, а она спала, и лицо ее менялось – опускались уголку рта, и, не освещенное светом глаз, оно становилось усталым и скорбным.
В доме шла своя жизнь, в передней слабое топотанье и шорохи, время от времени легкий чужой звонок – клиенты.
Но вот распахивалась дверь из кабинета, и в столовой появлялся Папак, на минуту оторвавшись от своих неотложных дел. Его сестра тотчас открывала ясные, не замутненные сном глаза, готовая немедленно включиться в разговор.
– Муся, ты не уходи, – предупреждал меня Папак. – Есть новые стихи…
И негромко читал:
Ты пришла ко мне со смехом
Поздним зимним вечерком,
Вся укутанная мехом,
Меховым воротником…
– Ну как? Что скажешь?
И, не слушая, что я скажу, опять скрывался в кабинете.
Тикин Перчануш, покачивая головой, доверительно сообщала мне:
– Ты знаешь, что о нем сказал, – тут называлось громкое поэтическое имя начала века, – когда познакомился с его стихами?
Я не знала.
– Сокровищница поэзии!
Из глубин квартиры в столовой появился Эачи Прошьян, младший брат, художник, вечно будто сонный, помятый, ласково смотрящий на жизнь с высоты своей одаренности. Он пришел в халате – одежда никогда никого из Прошьянов не занимала, – постоял возле стола, улыбаясь отрешенной улыбкой.
– Мусенька пришла, – сказал он, обращаясь, собственно, не ко мне, а просто отмечая факт моего присутствия в доме. – Тогда я повешу свою новую картину.
Не знаю, какую он усмотрел связь между моим приходом и своей новой картиной, но тикин Перчануш расширила свои лучистые глаза и многозначительно подняла палец. Мягко шаркая шлепанцами, Эачи удалился и тотчас вернулся с большой картиной, заключенной в узкую рамку.
– Пока не смотрите, – предупредил он, довольно быстро пристроил картину к стене и отошел к буфету, демонстрируя свою полную незаинтересованность в дальнейшем.
Картина была одноцветная, исполненная не то гуашью, не то углем. Она вся клубилась. Клубились горы, клубились облака над ними, клубился лес на горах, и дороги, и долины. Собственно, и горы, и облака, а тем более дороги и долины предлагалось домыслить фантазии зрителя. Все было обозначено очень условно, и я, воспринимая взволнованную силу этого клубящегося мира, вскрикнула:
– Что это?!
Тикин Перчануш бросила на меня укоризненный взгляд и тотчас посмотрела на брата, не желая брать на себя ответственность за разъяснения.
– «Сотворение мира», – меланхолически ответил автор, рассматривая свое произведение прищуренными глазами.
– Великолепно! – сказала Перчануш.
– Великолепно! – с полной искренностью подтвердила я.
– А может быть, «Сила земли», а может быть, «Сон», – сказал Эачи. – Не знаю! – И засмеялся негромким и недолгим смехом.
С того дня и до самого последнего моего посещения этого дома – а можно ли сейчас вспомнить последнее посещения – я помню эту картину на том месте, куда ее повесил Эачи. Она не делалась привычной. Каждый раз, в соответствии с моим мироощущением, картина открывалась иной стороной и пробуждала новые настроения. Беспокойство? Взволнованность? Но никогда не мир, не успокоение. В те годы я не искала ни мира, ни покоя.
Другие воспринимали эту картину иначе. Постоянный посетитель дома высокий пожилой человек, в прошлом известный адвокат, или, как говорили в те времена, «присяжный поверенный», сказал, задумчиво глядя на картину: «Нирвана». Тикин Перчануш радостно закивала ему в ответ.
У Эачи была мастерская. Художники того времени большей частью работали в растворах городских магазинов. По моим воспоминаниям, в растворе мастерской Эти было темновато. С потолка в нескольких точках свисали голые лампочки. Вокруг «натуры» – хаоса из старых ящиков, бутылок и рваного куска парусины – сидели худые смуглые юноши – ученики.
Эачи затащил меня в мастерскую, встретив на улице в солнечный осенний день. Я была в новом костюме модного цвета «какао», очень довольная собой. Но мрачные юноши, едва удостоив меня беглым взглядом, снова остервенело забили кистями по холстам.
Художник повел меня по мастерской, зажигая по мере надобности лампочки.
Так мы прошли его «кубистический период»: нагромождение синих безглазых кубов – «Современный город», несколько оранжевых кубов – «Любимая», и опять груда разноцветных кубиков и кубищ – «Человечество». Потом был «период углов», «спиралей», «окружностей». Картины без названий, где среди полной неразберихи красок и линий вдруг прочерчивался женский профиль или мужская фигура. А в самом углу под вспыхнувшей лампочкой я увидела портрет молодой женщины. Портрет точный, воспроизводящий легкое дыхание кружевной косынки на шее женщины и аромат тяжелой малиновой розы у нее в руке.
Эачи усмехнулся, предваряя то, что я собираюсь сказать:
– Видишь, вот так я тоже могу. Тебе это больше нравится?
В вопросе был подвох. Конечно, мне это нравилось Несравненно больше! Но легко ли показаться отсталой в семнадцать лет?
Впрочем, Эачи не ждал моего ответа. И скромностью он не страдал.
– Этот портрет на уровне лучших мастеров девятнадцатого века. Я уничтожил почти все свои работы этого периода. На них трудно увидеть больше того, что написано. Можно, но трудно. Понимаешь?
Тут же рядом, в этом укромном уголке мастерской, были развешаны эскизы, этюды, наброски. На всех был изображен один и тот же человек, как мне сначала показалось – Папак. Но, присмотревшись, я увидела, что меня обмануло только общее семейное сходство. Облик изображенного человека был гораздо обостреннее, черты суше, строже, а вместе с тем лицо выражало силу, энергию.
Заметив мою заинтересованность, Эачи сказал:
– Это мой старший брат.
Я слышала о рано умершем брате Прошьянов, который был революционером-подпольщиком и подвергался репрессиям со стороны царского правительства.
– Работал с Лениным, – сказал Эачи. – Первый советский наркомпочтель. Вот готовлюсь написать его. Не знаю еще как. Но напишу!
Он погасил свет и отошел к своим ученикам, говоря по пути каждому по нескольку слов и очерчивая пальцем в воздухе нечто поясняющее его указания. Мрачные юноши подхватывали слова учителя, жадно расширив глаза, и снова утыкались в свою малохудожественную «натуру», а Эачи царственно медленным шагом вышел из мастерской, увлекая за собой меня.
Я хорошо запомнила весь этот день. Не спрашивая о моих делах и планах, Эачи, взяв меня за руку, повел к вокзалу электрички, и мы поехали мимо голых, сожженных солнцем пригородов нашего Баку по дороге, ведущей к нефтяным промыслам.
Сошли мы тоже внезапно – в поселке имени Степана Разина – и направились по сухой, утоптанной до каменной твердости дорожке прямо в степь, минуя поселок с его открыточно нарядными домиками. Впереди прокатывались друг за другом невысокие бурые холмы, высились редкие масляно-черные вышки, под ногами лежала потрескавшаяся земля цвета крепкого чая с каплей молока. В тишине чавкала работающая буровая, и запах свежей нефти стоял в воздухе – плотный, материальный. Мы не встретили никого, кроме маленького ослика с перекинутыми по бокам сумками – хурджинами – и при нем невысокого старика с тонким лицом пророка.
Мне было интересно, потому что я не знала, куда и зачем мы идем. За хлюпающей – «тартающей» – вышкой кто-то посеял узкую полоску пшеницы. Посеял и не сжал. Колосья стояли белесо-желтые, прямые, освобожденные от тяжести осыпавшихся зерен.
С неожиданной быстротой Эачи потащил меня на холм. Мы лезли и лезли на его вершину и там трижды перебегали с места на место, пока наконец он не остановился и совершенно успокоенный застыл, глядя перед собой тем отрешенным взглядом, каким смотрел на свою клубящуюся картину.
Я вертела головой и не видела ничего, кроме буровых, которыми была сыта по горло, кроме желтой полоски жалкого поля и синеющих холмов вдали.
– Смотри, – прервал мою суетливость Эачи, – запоминай – цвет, запах, тепло. По всему этому ты будешь тосковать потом, через много лет. Эта минута больше не повторится. Создавай себе вехи, по которым ты будешь вспоминать и, главное, ощущать свою жизнь. Смотри… Дыши…
Мы возвратились домой уже под вечер. Вокруг нас захлопотала тикин Перчануш.
– Целый день гуляли? И он тебя не покормил? О, истинный художник! Вы сейчас будете обедать. Нет, нет, не вздумай уходить, я тебя не отпущу. Пообедаешь у нас, только у нас! Шурочка, разогрейте обед…
Шурочка принесла маленькую кастрюльку супа и сказала:
– Обед весь – вот он. А хлеба нет. Эачи Перчиевич утром-то за хлебом пошел…
* * *
Позже всех, после спектаклей, в доме Прошьянов появлялись актеры. Со следами грима на лицах они приходили, возбужденные событиями чужой жизни, которую воплощали весь вечер.
Когда шла инсценировка романа Перча Прошьяна «Сос и Вартитер» – драматическая история о разлученных влюбленных, – артисты приносили полученные от зрителей цветы к портрету писателя. И в столовой Прошьянов перед портретом отца всегда стояли веточки мимозы или возвышались наши бакинские, особенно душистые соцветья нарциссов.
Особо помню волнения одной ночи. Специально на спектакль «Отелло» приехали колхозники из Карабаха, ибо Шекспир во все времена – любимый драматург армян. Свою коронную роль Отелло играл тогда еще молодой Ваграм Папазян – блистательный мавр в костюмах, изготовленных для него в Венеции. Дездемоной была Жасмен – артистка яркая и красивая. А Яго – традиционный злодей с кривым налепленным из гуммозы носом – артист Петрос, фамилии, к сожалению, не помню.
И вот помощник режиссера, случайно вышедший в зал, чтобы посмотреть «изнутри», как принимают спектакль, вдруг услышал страшное армянское проклятье и увидел руку, поднявшую наган, направленный на бедного Яго, отца трех детей, секретаря партийной ячейки труппы.
Помощник режиссера повис на руке пылкого зрителя. Выстрел грохнул в потолок. Действие замерло на несколько минут, но после естественного переполоха все-таки пошло дальше.
По окончании спектакля актеры пришли к Прошьянам, Тикин Перчануш, положив перед собой лист бумаги, требовала заново и заново рассказывать все подробности этого случая, достойного занесения в историю армянского театра.
– Надо записать со слов всех очевидцев, пока еще свежи впечатления…
И она записывала, записывала, отрываясь от бумаги, чтобы еще раз воздать должное артисту, исполнявшему роль Яго.
– Все-таки как ярко надо было сыграть, чтоб пробудить в человеческой душе такую жажду справедливости и возмездия! Ты талант, Петрос, ты большой артист! Я всегда это знала!
И ревнивые к славе своих товарищей актеры в этот вечер охотно поднимали стаканы с вином, искренно приветствуя своего соратника, едва не погибшего во имя искусства.
Еще не вполне оправившись от шока, виновник торжества неуверенно скромничал:
– Это Шекспир, товарищи! При чем я? Это Шекспир…
– Петрос, ты талант!
– Петрос, ты должен завтра же похлопотать, чтобы этот бедный парень не пострадал… К тебе прислушаются. Он жертва твоего мастерства!
– Сельчане его тут же увезли…
– Все равно ты должен справиться и вмешаться, – не унималась тикин Перчануш. – И фамилию его надо узнать. Для истории.
– За твой талант, Петрос!
Он кланялся, а мы все смотрели на него влюбленными глазами. В эту ночь впервые непревзойденный Папазян был оттеснен рядовым трудягой, актером Бакинского армянского театра.
Но я знаю, что сейчас где-нибудь в архивах театрального музея, может быть, в Баку, а может, в Ереване, лежат листки бумаги, исписанные рукой Перчануш Прошьян, запечатлевшие маленький эпизод в многовековой истории армянского театра.








