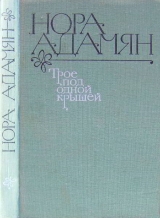
Текст книги "Трое под одной крышей "
Автор книги: Нора Адамян
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц)
Где он, былой франт, «одеколонщик», как звала его покойная Машина мама…
Товарищ сунул ему в рот зажженную сигарету.
– Тебя завтра выписывают? – спросил Петр.
– Нет, снимок еще делать будут, – ответил кособокий. – Да уж скорее бы. Осточертело тут. Дома и стены помогают.
– Смотря какой дом…
Кособокий пошел смотреть, как играют в шахматы, а Петр остался сидеть на скамейке, и его рука с восковыми неживыми пальцами напряженно тянулась за сигаретой и с трудом отрывала ее от губ, а глаза ни разу не поднялись посмотреть на зеленый мир.
Пришла больничная сестра в белом халате, строгая, недовольная.
– Я не обязана разыскивать вас по всей территории. Не маленький, кажется. Предупреждали вас, в котором часу витаминные уколы?
– Нужны они мне, ваши витамины, как лошади самовар…
– Нужны не нужны, я их обязана делать, а вы обязаны быть на месте!
Петр пытался встать, но это ему удалось только с третьего раза. Сестра взяла его сзади за локти и повела к дому. Если бы только она при этом не разговаривала, цены бы ей не было!
– Шагу ведь ступить не можете, а туда же… Вас много, а я на целый этаж одна… Если за каждым бегать да за руки водить, сил не хватит… Хотите воздухом дышать, пусть родные приходят, выгуливают…
– Я сам, – беспомощно твердил Петр, пытаясь освободиться от ее умелых рук, – я сам…
– Сам, сам! Отходили вы уже свое… Отгулялись…
* * *
…Сундук у Маши еще бабкин, а может, и прабабкин. Пахнет из него не нафталином, а слабо – махоркой и посильнее – апельсинами. Последние годы Маша прокладывает одежды апельсиновыми корочками – от моли.
Крышка у сундука откидывается тяжело, и сам он тяжелый, кованный железом. Дочки смеются, что его надо в музей сдать, а Маша не желает с ним расстаться. Оставшись одна, любит перебирать вещи, которые в нем лежат. Они для нее – дорогая память.
Сверху, правда, все новое, припасенное для будущей квартиры. Тюль на окна, скатерть льняная, белье постельное, ни разу еще не стиранное. А дальше старинный бархатный салоп, потершийся на швах, кружевная шаль, в которой молодая Машина мать в церковь ходила. Теперь такие снова носят. Танюша к этой шали уже подбирается, но Маша подождет еще ей отдавать…
Собственное Машино подвенечное платье из белого креп-сатина. С каким трудом его в те годы доставали! Зинка с трех часов ночи очередь в магазине заняла. Это сейчас глаза разбегаются на материи смотреть…
Скатерть ковровая – еще отец покупал. Дочки не разрешают на стол стелить: «Это из прошлого века!» – да и розы на ней пожухли, полиняли, а для Маши все равно дорогая вещь.
Кружевные подзоры на кровать – Маша еще девушкой крючком вязала, на приданое себе, три пикейных покрывала – белое, голубое и розовое. Куда их теперь, если у Маши вместо кровати софа?
Она перебрала все вещи, пока добралась до мешка, сшитого из старой простыни, вынула из него синий шевиотовый мужской костюм, рубаху белую в розовую полоску – точно такую, как сейчас модники носят. Все у нее лежало на дне сундука, даже мужское белье, шелковое трикотажное сиреневого цвета, и носки, конечно не безразмерные, а хлопчатобумажные, каких сейчас не достанешь.
Шла, торопилась к поезду, так нет, углядели все-таки…
– Куда это ты поехала? – закричала ей вслед бабушка Волошина.
– Куда мне надо, туда и поехала, – в сердцах ответила Маша. – За мужем своим я поехала!..
Так бабка и осталась с открытым ртом.
Мой друг Муса
Я открывала ей дверь с надеждой, что случится чудо: исчезнут десятки лет и я снова верну свое детство.
Но молодая женщина с большими глазами и хорошо очерченным ртом ничего мне не напомнила. Правда, глаза у нее были удлиненные, лицо смуглое. Четко проступали родовые, национальные черты, но не так, чтобы узнать. И я невольно сказала:
– Нет, не похожа…
Она огорчилась:
– Разве? Все считают, что я вылитый отец…
Я попыталась загладить свою бестактность:
– Может быть. Ведь я не видела его взрослым.
– Он часто вспоминал о вас.
Женщина держала в руках красные тюльпаны. Я еще почти ничего не знала о ней, но, подсознательно увязав смутные сведения с ее обликом, увидела широкие стеклянные проемы окон, снежные вершины за ними, острую солнечную прохладу зеленых предгорий. Вероятно, все это выглядело совсем иначе, но таким был в моем представлении научный центр, недавно воздвигнутый в горах.
– Далеко это от вашего дома?
Она улыбнулась:
– От маминого? Три часа.
– Поездом?
– Что вы! Самолетом. Поездом я езжу только к себе в Варшаву.
Женщина протянула мне тюльпаны. Я поставила их в вазу с водой. Шло время и давало нам возможность приглядеться и освоиться друг с другом.
– Расскажи мне о себе, – попросила я.
Причастная к ее судьбе, я не могла говорить с ней, как с чужой.
– Папа умер два года назад, – ответила она на мой главный вопрос.
…Дедушка приезжал домой неожиданно, никогда заранее не оповещая. Наверное, потому, что пароходы из Закаспийского края не всегда прибывали по расписанию и бабушка Оля изволновалась бы в ожидании. Она и так последние дни волновалась. Капала в рюмку валерьянку и почти ни с кем ни разговаривала. Только своей подруге тете Лусик говорила сдержанно:
– Закаспийский край – это еще совершенно дикое место. Кругом мусульмане. Узнают, армянин едет с деньгами, что им стоит: подкараулят на дороге.
Так с тех пор надолго для меня Закаспийский край – это огромная пустыня, степь с песчаными холмами, за которыми прячутся разбойники.
Приезжал дедушка обычно по утрам, когда я была еще в школе, но, открыв дверь, я уже знала, что он приехал, – по чудесным запахам, которыми наполнялся дом.
Остро пахли джутовые мешки, наполненные миндалем, орехами и зеленым изюмом, крупные апельсины, холщовые сумочки с сухофруктами, о которых нынче и не знают, как, например, коралловые унаби, прозрачная альбухара, пересыпанная кристаллами соли. Были торбочки с открытыми фисташками – крупными и будто выточенными из слоновой кости.
И этой снеди, которая вкуснее конфет и пирожных, можно было набирать полные пригоршни и даже делать небольшие запасы, до тех пор пока бабушка не опомнится от радости и не припрячет все в буфет и стоящий на веранде ларь.
А над этим необычным беспорядком – просмоленным шпагатом, мешками, ящиками, над всеми запахами и диковинками – мой дед.
Как мне рассказать о нем Марии, которая родилась много позже его смерти? Как воссоздать образ человека, которого достаточно было видеть всего несколько минут, чтобы понять его красоту и значительность? Но Мария должна знать о нем, потому что он изменил судьбу ее отца…
Я, взрослая, тринадцатилетняя девочка, тихонько визжала и пританцовывала на месте. Так в те годы выражалось мое счастье. Дедушка, большой, как Эльбрус, с серебряной головой и румяными щеками, чмокнул меня в голову и спросил:
– Оля, а где ребенок?
– Наверное, в своей комнате…
Бабушка сухо поджала губы, и я поняла, что она недовольна.
– Мусенька, – сказал дед, – я мальчика привез. Туркменский мальчик. Он хороший ребенок. Помогай ему.
Он сказал «помогай», имея в виду, что помогать нужно долго, повседневно. И я поняла его.
Мальчик! В нашем доме мальчик! Пока я бежала через две комнаты и коридор к маленькой каморке, освещаемой окном, прорубленным в крыше, мечты мои открывали мне блестящие возможности будущей жизни. Дикий мальчик, которым я буду руководить ласково, но твердо! Мальчик, выросший в степях, сильный и мужественный! Мальчик, для которого я стану высшим существом, который будет повиноваться каждому моему слову на зависть всем!
И вот я увидела Мусу.
Он не казался худым потому, что у него было очень круглое лицо, над которым топорщилась бахромка челки. Глаза узкие, спрятанные под припухшими веками. Вместо рта – небольшая линия. На острой макушке – тюбетейка.
Я стояла перед мальчиком, сразу разрушившим все мои радужные представления о будущем. Стояла и смотрела. Муса тоже смотрел.
Он первый мне улыбнулся.
У всех людей в улыбке глаза уменьшаются, а у него они расширились, стали коричневыми и блестящими. Муса протянул мне очень тонкую коричневую руку и сказал по-русски, тщательно выговаривая слоги:
– Здрав-ствуй…
Это слово я слышу так, точно оно прозвучало вчера. А все, что было потом, самые первые дни жизни Мусы в нашем доме и как мы с ним поначалу объяснялись, не сохранилось в моей памяти.
Помню недовольные интонации бабушкиного шепота, особенно когда у Мусы обнаружился стригущий лишай, и спокойный, полнозвучный голос деда:
– Что ты хочешь, жена? Сирота, заброшенный ребенок…
– А как же Мусенька? – сказала бабушка. – Это очень заразная вещь.
– Не бойся, своим делом займись. О плохом не думай. Ничего Мусеньке не будет.
Лишай ко мне не пристал. С ним дело как-то обошлось. Вылечили. А говорить по-русски Муса научился необычайно быстро. Учитель, который приходил готовить его в школу, несколько театрально выражал бабушке свое восхищение:
– Необыкновенно способный и, главное, усидчивый ребенок!
Недоверчивая бабушка светски улыбалась и качала головой, но в словах учителя не было преувеличения. Муса удивлял меня упорным познанием жизни через учение. А я считала все занятия в школе выдуманной, обязательной неприятностью, не имеющей никакого отношения к жизни, и черпала знания непосредственно из окружающего мира.
Про меня говорили:
– Очень способная, но ленивая…
Формула, которая стала для меня потом безошибочным предсказанием несостоявшихся талантов…
Часто среди дня, в разгар своего энергичного безделья, я врывалась в комнату Мусы. Он почти всегда читал. Читал увлеченно и напряженно. Для меня тоже исчезало все окружающее за страницами «Острова сокровищ» или «Голубой цапли», но Муса читал учебники! Шевеля губами, он вникал в грамматику или природоведение. Это было ему по-настоящему интересно. Он познавал!
– Я теперь всегда могу правильно говорить. Именительный – кто пришел? Собака. А кого побили? Я уже не скажу «собака», а скажу «собаку». Кому дали мясо? Собаке.
А я в свое время заучивала падежи механически, никак не проверяя ими собственную речь.
– Знаете, папа был настоящим ученым, – говорила мне Мария. – Раньше мы с мамой как-то этого не понимали. Профессор, завкафедрой, книги у него выходили. А для нас он – Мусиша и Мусиша. Очень мягкий, добрый был дома. Я как-то поддалась моде и косы отрезала. Очень боялась маме показаться. А главное – сама себе не понравилась стриженая. Иду домой из парикмахерской, чуть не плачу. Пошла прямо в сад – там у нас беседка над арыком. Папа в ней с аспирантами занимался. Вокруг него всегда молодежь толклась. Он вышел из беседки, посмотрел на меня, сразу все понял. «Ничего, дочка, не расстраивайся, главное – береги здоровье, береги здоровье…» Так с ним легко было!
Мне тоже было с ним легко. В его каморке стоял топчан, застланный толстой кошмой, которую он привез с собой. Спать на тюфяке Муса отказался. Подушка у него тоже была своя, тоненькая, в яркой сатиновой наволочке. В комнате еще был небольшой стол и тумбочка из бабушкиной спальни – серая на выгнутых ножках. Надо же было мальчику куда-то уложить свои вещи, и не покупать же специально для него шкаф.
Я отсиживалась в этом убежище в дни, вернее, часы черной меланхолии (по определению бабушки). Это бывало, когда наша классная руководительница Алиса Ивановна, подводя итоги четверти, наткнувшись на мою фамилию, патетически возглашала:
– О, тут у нас целый букет: алгебра, геометрия, физика, астрономия, – да, мы тогда проходили астрономию, – четыре предмета неудовлетворительно! – И поднимала кверху острый палец.
Или когда преподавательница математики Ольга Онисифоровна выводила мне очередной «неуд», приговаривая не без удовольствия:
– Нет уж, милая, твои литературные таланты на этот раз не спасут тебя от переэкзаменовки по геометрии…
В такие дни, примчавшись домой и швырнув сумку куда попало, я уединялась в комнату Мусы (его присутствие мне никогда не мешало) и писала стихи:
Пускай шипят встревоженные змеи,
Пускай клевещет червь, пускай язвит оса,
Мы к небу высоко свои знамена взвеем,
Приладим крепче руль и вздуем паруса…
И так далее. Куплетов на десять. Потом это публиковалось в нашей школьной стенной газете, и никто не смог бы доказать, что это стихи не о происках империалистов.
Дорогие мои, прекрасные педагоги! Ни разу за все годы моей учебы у меня не было ни одной переэкзаменовки именно по причине моих успехов в гуманитарных науках. Репутация лучшего поэта нашей школы придавала мне нахальную уверенность в безнаказанности.
Излив душу в творчестве, я отправлялась промыслить что-нибудь вкусное. Длительный период это было ореховое варенье в большой стеклянной банке. Как-то я обнаружила, что пергаментная бумага, покрывающая банку, легко приподнимается. Тут же я извлекла из банки большой черный орех, наполненный ароматным соком.
Надо сказать, что варенье из орехов редко делается дома. Его заказывают женщинам-специалисткам, которые срезают с грецких орехов младенческого возраста тонкую шкурку, вымачивают их в известковом растворе, – словом, возни тут на три недели.
В этом году бабушка заказала сто орехов. Я справедливо решила, что пересчитывать их никто не станет, и в грустные минуты услаждала орехами себя, а заодно и Мусу. Мы с ним съедали по ореху в его комнате, после чего я отправлялась познавать мир уже в улучшенном настроении…
Но все кончается. И однажды я долго бултыхалась пальцами в густом сиропе, прежде чем нащупала орех. А когда бабушка в ожидании гостей собралась открыть банку, то обнаружила всего десятка полтора орехов, сиротливо утопающих в соку.
Кого же заподозрили? Конечно, меня! Я отрицала вину с такой гневной горячностью, что сама почти уверилась в своей правоте. Но дедушка, недовольно морщась, негромко сказал:
– Хватит, Мусенька, не устраивай театр…
А бабушка, поджав губы, гремела связкой ключей, запирая дверцы буфета.
Но ведь Муса был тут же, за столом! По всем законам высокой литературы он должен был бесстрашно взять мою вину на себя, тем более что эти орехи ели мы вместе! А он молчал и даже с интересом вертел головой, наблюдая за моим позором.
– Предатель! – сказала я ему, вложив в свои слова глубокое презрение.
Он удивился.
– Не понимаешь, да? Ты не ел орехов, да?
– Я их не брал.
– А выручить товарища – ты это понимаешь?
– Ты сама не понимаешь, – сказал он. – Я один, без отца, без матери…
– Подумаешь! У меня тоже мама в Москве учится, папа в экспедиции…
– Ты своя. А я кто? Всем чужой…
И вдруг он заплакал.
– А зачем ты сюда приехал?
И я услышала имя, которое уже не раз повторялось в нашем доме:
– Меня Шох прислал…
Мой дед был специалистом по хлопку. В первые годы советской власти он часто ездил в Закаспийский край как хлопковод-практик, как человек, знающий азербайджанский, туркменский, фарсидский языки и имеющий личные дружественные связи с кочевыми племенами. Главой одного из крупных родов кочевников был Шох. А Муса – сирота, крошечное зернышко этого рода, которого не жалко послать в Россию, чтобы потом иметь в своем распоряжении грамотного, владеющего русским языком и поэтому полезного человека.
Нужно ли женщине, которая сидит сейчас напротив меня, знать о прошлом ее отца? Что связывает ее с прошлым?
– Папа был мелиоратор, а я стала геологом. В первый же год, как закончила институт, получила путевку в международный молодежный лагерь. Там встретила Стаса. И как-то очень быстро у нас все решилось. Мама в ужас пришла: в чужую страну не пущу, и все! А папа у меня был особенный. Ему не хотелось со мной расставаться, но он ни словом меня не удерживал. Только одно твердил: всюду оставайся сама собой, старайся поглубже понять людей, с которыми тебя свела жизнь… Сначала я поехала в Варшаву по приглашению. Вроде смотрин. Встретили меня приветливо, ласково. А вечером я вошла в комнату его матери – она лежит на кровати и плачет. Ну, просто рыдает. Языка я тогда еще не знала. Что делать? Села на кровать, обняла ее и тоже заплакала. Она говорит, что вот в этот вечер меня и полюбила…
Нет, вы не думайте, что потом уже все было легко и просто. Помню, когда я уже переехала и язык уже знала – не так, как сейчас, но все понимала, – слышу, моя свекровь говорит соседке: «Мало ему было девушек в Варшаве. За него любая пошла бы. Так нет, ему туркменка понадобилась…» А я уже беременная. Сгоряча решила – уеду к отцу. Чемодан стала укладывать. А потом поняла – не могу от Стаса уехать. Зато когда близнецы родились, свекровь с ними ночей не спала, сама и купала и пеленала… Так же самоотверженно, как у нас делается… И я тогда особенно поняла то, что не раз повторял мой отец: между людьми всех наций больше сходства, чем различия…
Шох сказал: «Выучишься, вернешься и станешь моей правой рукой». Эту единственную фразу, обращенную непосредственно к нему, услышал Муса из уст великого человека своего детства.
Мне он рассказал об этом много позднее. А пока всякое упоминание о Шохе заставляло его благоговейно настораживаться. А я в то время, во-первых, ниспровергала авторитеты, а во-вторых, Шох не мог быть более весомым, чем мой дед.
И вообще Мусу надо было перевоспитывать.
– Подумаешь, Шох! – Я выражала презрение не только голосом, но и брезгливой гримасой. – Вот объясни мне, что в нем такого особенного?
– Шох не знает счета своим верблюдам! – отбивался Муса.
– Он, может быть, только до десяти умеет считать?
– Шох очень умный. Его все слушают.
– Умный! Он, наверное, даже не знает, кто такой Пушкин!
– Шох читает коран! Шох был в Мекке! Шох святой!
Я злилась, но сломить Мусу в словесном поединке не могла. А мне хотелось воспитать из него нового человека, лишенного фанатизма, предрассудков и кумиров.
Надо было как-то действовать. Я его накормила свининой.
Дело в том, что запрещенная кораном свинина представлялась Мусе главным образом в виде колбасы, от которой его особенно предостерегали в Туркмении. И когда у нас на столе появлялась колбаса, он опасливо, бочком сползал со стула и удалялся в свою каморку. Мое возмущение ничуть не помогало.
– Да это телячья колбаса, пойми!
– Одно слово – колбаса, – говорил он, в ужасе растопыривая пальцы.
– Ну и что с тобой будет, если ты ее съешь?
Он закрывал глаза.
– Очень плохо будет.
– Это предрассудок, пойми!
– Мусенька, я не буду есть колбасу. Я умру.
Дедушка, человек прошлого времени, брал сторону Мусы:
– Не трогай его. Это все постепенно пройдет.
Но ждать было не в моем характере. Я сделала два бутерброда из буженины, которая по виду совсем не похожа на колбасу, и мы с Мусой, готовые поглощать пищу в любое время, съели их почти сразу после обеда.
– Очень вкусное мясо, – одобрил Муса.
Я все-таки немного побаивалась своего эксперимента и поэтому выждала полчаса, убедилась, что Муса в полном здравии, и спросила невинным голосом:
– Так правда, вкусное было мясо?
– Очень вкусное!
– А это была свинина! – с торжеством объявила я. – Свинина, и ничего с тобой не случилось. Вот теперь ты убедился, что это предрассудок?
А Муса вдруг с размаху упал вниз лицом. Он лежал на полу и не откликался на мои уговоры. В смятении я сперва убежала, потом вернулась снова. Муса перебрался на топчан, теперь он лежал лицом к стене и по-прежнему не хотел меня видеть. Его поразило горе. Он не открывал глаз, не зажигал света. Я тронула его худенькое плечо. Оно было напряжено и вздрогнуло от моего прикосновения. Он плакал.
Я пошла к дедушке. Спокойный и благодушный, он сидел за большим обеденным столом, раскладывал пасьянс «косыночка» и пел высоким тенором. У деда были три любимые песенки: «Сердце красавицы», «Пой, ласточка, пой» и несложный мотив, содержащий одну строчку непонятного текста: «Пури, пури, давай пумпури». Именно эту последнюю песню дедушка и выпевал, когда я подсунулась ему под руку.
Я была уверена, что Муса все расскажет, и, конечно, боялась. Но еще больше боялась, что он действительно умрет. Внушала себе, что у мальчика уже начались судороги. Так я дедушке и сообщила – «судороги», скрыв пока что причину внезапной болезни Мусы.
Дед пошел в каморку, а я пристроилась у двери, хотя подслушивать было бесполезно. Присев на топчан и положив мальчику на голову большую белую руку, дедушка заговорил с ним по-туркменски, на секунду прервав себя, чтобы внушительно крикнуть:
– Муся, закрой дверь!
Я приготовилась к худшему и подыскивала опору своему слабеющему духу. Прогрессивное и бескорыстное направление моих побуждений – вот в чем была моя сила. Люди всегда страдали за правду.
Но на этот раз мне страдать не пришлось.
Дедушка позвал меня в столовую и, собирая со стола маленькие карты несостоявшегося пасьянса, сказал не сердито, а даже просительно:
– Развлеки его чем-нибудь, Мусенька. Ты, если захочешь, придумаешь. Тоскует мальчишка. Он утром открывал глаза – кругом степь, свобода. Тоскует. Жалко ребенка.
Он вынул из кармана жилета три рубля – сумму по тем временам значительную.
– Может быть, в кино его поведешь…
В этот день идти в кино было поздно. Но на меня нахлынула радостная жажда деятельности. Муса поступил благородно. Он не выдал меня, и я должна была немедленно вознаградить его.
Я переворошила ящики своего шкафчика. Не дарить же ему модное кашне или флакончик духов – самые мои большие ценности.
Толстая тетрадь вся исписана моими стихами… Акварельные краски – остатки на донышке… Но я знала, что найду вещь, достойную внимания. И нашла. Черный листок копировальной бумаги. Муса еще не знал ее волшебных свойств.
– А что я тебе сейчас покажу!
Он повернул ко мне голову и покосился любопытным глазом.
– Можно в точности срисовать любую картинку из книжки…
Я вложила лист белой бумаги и копирку между страницами Брема и, встав на колени перед тахтой, быстренько перевела индийского слона.
Муса не умел притворяться. Черная копирка поразила его, как чудо. Он спрыгнул с тахты и пожелал сам воспроизвести именно того же слона. Весь вечер мы занимались копированием картинок из учебников. Муса не расставался с черным листочком. Он принес его даже к вечернему чаю.
– Ах, какой умный человек придумал такую бумагу! Он, наверно, был профессор!
В щелочках век счастливо сияли его глаза.
– Очень был умный человек, – серьезно подтвердил мой дед.
Ничего этого Мария не знала. Да ведь и что знать? Зато она рассказала мне, как женился ее отец. Рассказала трогательную семейную легенду, полуправду, созданную и любовно раскрашенную ее участниками.
История начиналась с появления на свет будущей жены Мусы, которая родилась от невозможного по тем временам союза юноши-еврея с чувашкой. Родители влюбленных жестоко преследовали молодую пару, разлучали мужа с женой, а их ребенка поочередно выкрадывали то еврейские, то чувашские родичи. И наконец мать Марии, тогда еще совсем молодая женщина, лишившись всех близких, нашла пристанище на должности уборщицы в Ташкентском сельскохозяйственном институте, где учился Муса.
– А у папы, представляете, был роман с одной пианисткой. Красавица была невиданная. Все думали, что папу оставят при институте – он был очень способный, – но вдруг его при распределении послали в Андижан. И она ему отказала! Представляете?
Уже в последние дни перед отъездом папа вышел в институтский парк, а мама с подругой вытряхивала там половики. Мама и говорит: «Вот вы уезжаете, а мы опять же тут остаемся». Папа в шутку возьми и скажи: «Поедем со мной!» А мама ответила: «Все вы так смеетесь, а жениться никто не женится». А папа сразу ей всерьез: «Пойдем завтра в загс». И пошли! Началось как будто с досады, а потом такой счастливый брак вышел…
– А почему его не захотели оставить при институте?
– Ох, это страшная глупость! Он был сыном бедного пастуха, рос сиротой, а ему все время приписывали богатого родича, бая. Очень долго за папой эта ниточка тянулась. Но он был такой талантливый! И докторскую защитил, и кафедрой заведовал…
Тратить деньги на кино не имело никакого смысла. Все ребята нашего двора взбирались на плоскую крышу, затем с некоторой опасностью для жизни перепрыгивали на крышу соседнего дома, карабкались по подставленным камням на высокую стену и оказывались прямо напротив летнего экрана кинотеатра «Горняк», в котором каждую неделю шли новые «боевики».
Так что зрелищем мы были сыты. А деньги частично истратили в магазине с вывеской, всегда будоражащей мое сердце: «Писчебумажные товары, Ииндержишек». Ииндержишек – это не сокращение, это фамилия владельца. Вероятно, главы фирмы, потому что, как мне помнится, в нашем городе было несколько магазинов с такими вывесками. Мы взяли несколько пачек копировальной бумаги – черной, синей, зеленой и красной, а также много ярких лакированных изображений цветов, скрещенных рук и ангельских головок, носивших название «налепки».
На остальные деньги мы ели мороженое в павильоне на Приморском бульваре. Каждому из нас подали полный двойной ассортимент – по два шарика ванильного, шоколадного, лимонного, фисташкового и еще клубничного. Получилось не меньше чем по полкило на брата.
А потом мы пошли бродить по вечернему бульвару. Постояли на пристани, прислушиваясь к тому, как равномерно, негромко шлепает море о деревянные сваи. К пристани шел пароход, увенчанный разноцветными огнями. Он двигался неслышно, только откуда-то из его глубин раздавалась музыка и мужской голос пел слова таинственной песни:
Есть в Батавии маленький дом
На окраине поля пустом…
На меня в этот миг налетело радостное предвкушение будущей жизни. Я словно услышала паровозные ночные гудки в шуме бегущего поезда, увидела березовые рощи, дорогу в овсяном поле, ледяные горы в синем небе. Все приметы будущего счастья, горя, красоты и боли.
Муса стоял рядом. Но, видимо, наши существа, ублаготворенные мороженым и осчастливленные тяжестью магазинных свертков, были одинаково охвачены высоким мироощущением.
– Мусенька, – сказал он, – в книге я читал, что есть люди, которые бросают свой дом и уходят в пустыню. Совсем одни живут. Черные сухари кушают. Зачем они так делают?
Я тоже не понимала – зачем?
Приехал Шох!
За месяц до его прибытия дедушка получил письмо в истрепанном желтом конверте с безграмотно написанным адресом. Само же послание было на тонкой рисовой бумаге, испещренной красивой арабской вязью. Дедушка читал его про себя за общим столом, потом что-то сказал бабушке по-армянски. И только закладывая конверт во внутренний карман пиджака, увидел напряженно ожидающее лицо Мусы.
– Шох поклон шлет. Интересуется, как твои успехи.
Не было этого в письме! Дед проговорил эту фразу неестественной скороговоркой. Но Муса просиял.
Еще не знали точного дня прибытия гостя, но хозяйственная бабушка заблаговременно перевела меня в столовую. Мою комнату готовили для Шоха.
Муса все свободное время сидел за учебниками. Он хотел поразить Шоха своей образованностью. Это желание было понятно и мне. Мы вместе обсуждали будущее торжество Мусы.
– Ты как начнешь читать, он и закачается!
Муса счастливо хихикал.
– Вытаращит от удивления свои лупоглазые глаза, скажет: «Ай да Муса! Настоящий профессор!» И будет тебя на «вы» называть.
Эти предположительные картины вызывали у Мусы такое восхищение, что он прощал мою неуважительность к персоне Шоха.
Он даже исхудал, истаял в ожидании своего повелителя.
Наконец пришла телеграмма.
Вечером мы с бабушкой перебрали десять стаканов тонкого «ханского» риса для плова. Утром дедушка отправился на базар и вернулся в сопровождении амбала, который нес зембиль с огромным ломтем свежей розовой лососины, бараньей ногой и другой провизией.
Потом дедушка и Муса уехали на пристань встречать пароход «Али-баба». А к обеду явились два моих дяди с женами.
Они были тогда совсем еще молодые – дядя Арто, ученый-географ, и младший – дядя Лева, врач-рентгенолог, «дамский угодник», как называла его бабушка.
Между их женами тут же началось вечное негласное соревнование на звание «любимой невестки». То и дело слышалось: «Мама, что надо помочь?», «Ничего не трогайте, только мне скажите», «Посидите, отдохните, я сама все сделаю…»
Но все уже было сделано – и стол накрыт, и кофе намолот.
Дядя Арто обозревал закуски.
– Где икра? – спрашивал он, изображая отчаянье. – Где паюсная, мешочная, зернистая икра? Неужели оскудел этот дом?
– Икры и не может быть, – лениво отзывался дядя Лева. – Закон ислама гласит: все, что живет в море и не покрыто чешуей, правоверным в пищу не годится.
Противень с кругом лососины вытянули из духовки. Бабушка беспокоилась, что подгорят кусочки лаваша под пловом.
– Этот далай-лама уморит нас голодом! – сердился дядя Арто.
Наконец в столовую влетел Муса. Запыхавшийся, очень взволнованный.
– Приехали… Сейчас дворник вещи принесет…
И снова кинулся на улицу.
Я поймала его взгляд и подмигнула ему в предвкушении будущей победы.
Внесли вещи, непохожие на наши чемоданы и баулы. Это были ковровые мафражи, тугие тюки, обтянутые парусиной, переметные сумы, вытканные из яркой шерсти. Все вещи пахли дымом костра, бараном, полынью.
Потом появился Шох.
Дедушка шел впереди, как бы пролагая ему дорогу. Я смотрела на Шоха с таким вниманием, что навсегда запомнила все до мелочей. На нем был длинный кафтан в серую полоску, темно-зеленая шелковая рубаха, подпояска из цветного платка. Будто сейчас вижу огромную в длинных завитках папаху и четки из черного агата в окрашенных хной пальцах. Красноватая борода Шоха росла ниже подбородка, а сам подбородок был не то чтобы гладко выбрит, а вообще начисто лишен волос – крупнопористый, коричневый, как все лицо. Только глаза Шоха я не запомнила, – может быть, потому, что никогда не могла встретить его взгляд.
Шох, высокий и тонкий, сделал перед бабушкой красивое легкое движение – поднял руку к глазам, к груди и как бы простер к земле. Чуть наклонил голову в сторону дядей. Молодых женщин просто не заметил. А я за все время его пребывания в нашем доме так и не попала в поле его зрения…
Вот таким был Шох. Не может быть, чтобы Муса не рассказывал о нем своей дочери. Но она вспоминала о другом.
– Папа был очень общительный, а мама нет. Она только любит, чтобы вся семья была около нее. А так не получается. Вот и моя семья сейчас раздроблена. Мы с мужем в экспедиции…
– А что за экспедиция?
– Совместная, международная. Советские геологи и польские. Выявляем горные ресурсы. Я как связующее звено – геолог и переводчик. Работа интересная, и к маме часто летаю, только по детям скучаем, особенно Стас. Он хороший отец. Но не всегда у нас с ним полное взаимопонимание. Представляете, образованный человек, а по воскресеньям и в праздники с матерью в костел ходит! Я в отпуск домой приехала – папа, говорю, что делать? Я ведь знала папины взгляды. А он меня удивил. «Мусенька, говорит, надо уважать чужие убеждения. Постепенно, говорит, своего добивайся, не сразу…» И вспомнил, как вы в целях воспитания накормили его свининой…








