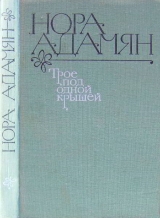
Текст книги "Трое под одной крышей "
Автор книги: Нора Адамян
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц)
– Правда, – подтвердила Елена Карповна, – ты была нетребовательная.
Она словно забыла о своих деньгах, которые Надя бессовестно взяла за квартиру. И когда, прощаясь, Надя подставила щеку, Елена Карповна поцеловала ее и даже прослезилась.
Домой она шла с неосознанным тревожным чувством. Что-то вышло не так. Это ощущение душевной неустроенности почему-то заставило ее перемыть оставленную с вечера посуду и даже подмести кухню, чего она никогда раньше не делала.
Семья Артаровых
Женщина рожала красиво, как, по справедливости, должны бы рожать все женщины. Она не мучилась, не кричала. Когда потуги охватывали ее молодое тело, она впивалась руками в краешки стола и напрягалась изо всех сил, так что по животу пробегали сокращающиеся мышцы. В эти секунды она стискивала зубы, и из ее груди вырывался не болезненный стон, а мощное трудовое кряхтенье. Потом, в короткое время перерыва, она откидывалась, расслаблялась и отдыхала, закрыв глаза.
Женщина рожала впервые. Лиля стояла рядом, давая советы: дышите, расслабьтесь, не дышите…
На миг роженица поворачивала к ней затуманенные серые глаза, легким движением век давала понять, что восприняла указание, и снова упорно принималась за свою неотвратимую работу.
Медсестра обтирала ей лоб и уговаривала:
– Ты покричи, покричи, легче будет…
Женщина только чуть усмехалась и снова углублялась в себя.
Рядом уже немолодая мамаша знакомо голосила:
– И что же меня заставило идти на такую муку… Ой, смерть моя пришла… Ой, мамочка родная, пять лет не рожала, и с чего это я снова затеяла…
– Раньше надо было думать. Теперь уже поздно каяться, – ворчала акушерка.
– Ой, правду ты говоришь, сестричка, дура я несусветная! Еще хоть дочку бы, а то четвертого сорванца рожу… Ой, умираю, ой, держите меня, держите…
Но опытная сестра подскочила не к ней, а к столу, за которым стояла Лиля, подставила эмалированный таз, и туда вывалился сложенный в кокон малыш, который при ближайшем рассмотрении оказался мальчиком.
– С сыночком вас, – сказала Лиля. – Посмотрите на него! Отличный ребенок. Кило четыре потянет.
На дне таза, судорожно раскорячивая ручки и ножки, орал багровый человечек.
Едва взглянув, молодая мать дремотно закатила глаза. Ее сморил глубокий сон непомерно потрудившегося человека.
А с той, которая хотела дочку, пришлось повозиться. Хорошо еще обошлось без щипцов. Девочка родилась с примятой головкой, маленькая, полузадохшаяся. Едва раздался ее первый пискливый прерывистый крик, как мать счастливо заворковала:
– Золотце мое, куколка моя, – и все время волновалась: – Вы уж не спутайте моего ребенка, доченьку мою не спутайте…
Акушерка рассердилась:
– Тридцать лет работаю, случая такого не было, чтобы спутали. А твою доченьку и захочешь – не спутаешь. Такой востренький носик у новорожденных один на тысячу. Копию по себе слепила!
– А пальчики посчитали?
– Да отдыхайте вы! Все в порядке.
– Сыновья мои как обрадуются, – сказала роженица. – Это ж надо подумать – девочка! – удивлялась она извечному чуду, тут же забыв свои смертные муки.
Как все нервные женщины, она после родов долго не заснет. И Лиля дала ей успокоительное.
Вернувшись в свой маленький кабинет, Лиля поставила на электрическую плиту джезве – крохотную удлиненную кастрюльку с водой, засыпала в нее две ложки тонко размолотого кофе и прилегла на диван. Скоро конец ее суточному дежурству. Дома она уберет квартиру, приготовит обед на завтра, а вечером с Гогой пойдет в кино. Вот такая ей предстоит жизнь.
В дверь легонько постучали, и вошла Галина Борисовна, хирург отделения, председатель месткома, женщина, у которой одной из жизненных задач было опережать хоть на час моду сегодняшнего дня.
Под врачебным халатом на ней был балахон из небеленой бязи, отделанный у ворота и рукавов вологодским кружевом. Бязь стоила пятьдесят копеек метр, но за это платье Галине Борисовне уже безуспешно предлагали пятьдесят рублей.
– Ох! – восхитилась она. – Ничто не сравнится с запахом черного кофе! Только мне без сахара!
Она уселась в кресло у стола.
– Поговорить с тобой пришла, лапочка.
Лиля предвидела этот разговор. На прошлой неделе она, в присутствии других сотрудников и даже посторонних посетителей, накричала на кастеляншу, которая не обеспечила отделение бельем. Кастелянша была виновата, но кричать на нее, а тем более употреблять слова «безответственность» и «распущенность» не следовало.
– Это твой восточный темперамент тебя подводит, – сказала Галина Борисовна. – Наживаешь себе врагов.
– В местком пожаловалась?
– Нет, она не жаловалась. Тут другой поворот. Слушай, какого черта тебе понадобилось выписывать из Грузии эту старуху?
– Какую старуху?
– Ну, мать твоего Артарова.
– Она из Армении. – Лиля была несколько ошеломлена переходом от конфликта с нерадивой кастеляншей к своей свекрови.
– Все равно. Выращивала бы там свои цитрусы.
– Она врач.
– Еще того не легче. Хуже нет образованных свекровок. Можешь мне поверить. Имела опыт.
– Да при чем тут она? Ты о ней пришла говорить?
– А при том, что по всему отделению сплетни идут. Будто ты свекровь со свету сживаешь, то и дело увозишь мужа к своей родне, бросаешь беспомощную старуху одну, а бедный доктор Гога Артаров вместе с матерью прямо в отчаяние от тебя пришел. Он бы и рад с тобой развестись, да неудобно второй раз жену из дома гнать.
– Откуда такие сведения? – спросила Лиля, чувствуя, как у нее каменеет сердце.
– Лично у меня – от нашей буфетчицы. А все идет от кастелянши. Она, оказывается, родственница первой жены Артарова. Поносила тебя в наше клубное обеденное время, в буфете. Нелестные характеристики, адресованные твоей внешности и твоему характеру, я опускаю, это непосредственно к делу не относится. Но свекровка твоя какова? Нашла кому жаловаться – первой жене! Ты понимаешь, что у тебя дома враг? Вот тебе мой совет: сразу поставь вопрос ребром: «Или я – или она!» Прямо сейчас. Придешь домой – с порога так и заяви. Не бойся, я тебе гарантирую – соберет свои шмотки и укатит в солнечную Грузию. Ты только не расстраивайся и твердо стой на своем.
Галина еще долго давала бы свои полезные советы, но ее позвали в отделение.
Пришла смена. Все делалось как обычно, только время будто шло мимо Лили и никакой уже жизни не было вообще.
Она стояла перед входом в метро, женщины протягивали ей розовые и лиловые астры. Гога никогда не приносил ей цветов. Цветы он не понимал, говорил: «Я не могу нести по улице эти веники!» Однажды он принес ей рыжего хомячка. Зверек жил у них больше месяца. Как-то они поехали за город и взяли его с собой, – «проветриться». Посаженный на траву, он моментально исчез на глазах. Это был какой-то непонятный фокус. Они обыскали всю лужайку. По дороге домой утешились тем, что, может быть, хомячку будет лучше на воле.
– Если он найдет себе подружку, – сказал Гога.
Цветы Лиля покупала сама. Она и сейчас взяла бы эти первые астры, они долго стоят в вазах. Но ни к чему. Сквозь каменное отупение уже пробивалось отчаяние. Она знала – теперь так и будет. Сперва будто бы ничего, но постепенно все больше нарастают гнев, обида, потребность доказать свою правоту. Мучительная потребность.
Сейчас ехать домой невозможно. Лилю внесло в вагон общим потоком и прижало к дверям. Поезд закружился по орбите. На остановках люди стремительно втискивались в вагон, как косяки рыб, захваченные сетью. И так же стремительно выталкивались. Через какое-то время вагон опустел. Лиля села, держа в руках хозяйственную сумку. По плану, разработанному с утра, она должна была купить хлеб, молоко, масло.
Невольно, неосознанно она разговаривала то сама с собой, то со старухой. «Как же после этого нам вместе жить?» Некуда ей уехать. Я ее ненавижу. «Гога не говорил вам, что хочет со мной развестись! Не мог он этого сказать!» Войду и спрошу: «С кем вы сплетничали о жизни своего сына? Вы же сами эту Надю какими только словами не обзывали!» Нет, все бесполезно, бессмысленно. Никто не скажет правду, даже Гога, который мог крикнуть для утешения матери: «Не могу же я развестись во второй раз!» Эти слова ничего не значат. Мало ли что мы говорим в запальчивости.
А если просто спросить: «Ты действительно хочешь со мной развестись? Только честно. Я такая, как есть. Лучше стать не могу. Я старалась. И хватит. Больше стараться не буду. Предупреждаю тебя».
Поезд, кружась по кольцевой, перевез за это время тысячи пассажиров, и, когда Лиля вышла на улицу, был уже поздний вечер, может быть даже ночь.
За эти часы утихло в ее душе бурление гнева. Трудно и скверно, но надо понять, что в ее жизни главное, что она может удержать и надо ли удерживать. И ничего не говорить сгоряча. С этим довольно неопределенным решением Лиля поднималась в лифте на свой этаж.
– Наконец-то, – закричал Гога, – наконец-то! Где ты была? Мы с мамой тут с ума сходим… Я всех знакомых обзвонил… Мама, Лиля пришла!
Он помог ей снять плащ, взял из рук кошелку, принес тапочки.
– Все-таки где ты была? В отделении тебя нет, у Тамары нет, неужели телефона под рукой не нашлось?
– Нет, – сказала Лиля.
– Мама одно твердит, что тебя на роды вызвали. Здесь, говорю, не деревня, какие роды! В очереди, говорю, за сапожками стоит. А после восьми и сам стал волноваться. Ну, пойдем обедать, мы тебя ждали, за столом все расскажешь.
– Дай мне опомниться. Я устала.
Она закрыла за собой дверь их общей комнаты и легла на тахту лицом к стене. Но тишины не было. Гога звонил Тамаре:
– Да, да, вернулась, все в порядке…
– Мама! – кричал он. – Разогревай обед, я голодный как собака…
Он вошел в комнату по праву мужа, по праву хозяина дома. Сел на краешек тахты, погладил ее ноги.
– Лиленька, ты что, и обедать не хочешь? Мама борщ сварила. Пойдем, миленький мой…
– Я не могу.
– Ты нездорова? Что с тобой?
– Здорова.
– Что-нибудь на работе?
– Нет.
– Ну, тогда нельзя так со мной поступать! Что я должен подумать? – И вдруг, озаренный прозрением любящего мужчины, тревожно спросил. – Мама?
Она могла ответить – да! Твоя мать предала меня твоей первой жене, облила ложью и грязью. Сделала объектом сплетен всей больницы. Больше я терпеть не могу. Выбирай между нами.
Лиля представила себе, каким беспомощным он сразу станет, как будет выискивать слова для оправдания своей матери и наконец выкрикнет отчаянную фразу: «Ты хочешь, чтобы я выгнал свою мать из дома? Этого я не могу!»
А если бы он это сделал, во что превратилась бы их жизнь? Разве могла бы она по-прежнему любить и уважать своего мужа? Нет! Дело не в матери, а в силе и крепости их отношений. Но ведь это почти целиком зависит от самой Лили…
Он положил голову на ее колени и, поджав длинные ноги, свернулся на кончике тахты.
– Ну и не говори, если не хочешь. Важно, что ты здорова, что ты пришла. Дом без тебя такой пустой, мы такие одинокие, а тебя все нет и нет…
Лиля заплакала – беззвучно, неслышно, про себя. Гога этого не заметил.
– Я-то думал, придет моя ласточка, поведу ее в кино, потом будем пить чай с пирожными, как в лучших домах Филадельфии. А тебя все нет и нет. И это было очень плохо. А пришла сердитая, молчаливая…
Лиля повернулась, увидела черные полоски густых, загнутых вверх ресниц и положила руку на его голову.
А Елена Карповна в это время сидела во второй комнате, которую называли столовой, хотя ели на кухне. Она и спала тут на тахте, рядом с которой стояли ее стол и шкафчик. Весь ее большой мир – горы и долины Заревшана, городок, где она жила, окрестные села, ее собственный дом, – все сузилось теперь до этого крохотного пространства. Стол, шкаф, тахта.
Они опять ушли в свою комнату и закрыли дверь. Невестка и не думает, что ни свекровь, ни муж до сих пор не обедали. Куда хочет ходит, когда хочет возвращается. Отчета никому не дает. Гога во всем ей подчиняется.
Это были привычные мысли, но в последнее время они рождали не праведный гнев, а скорее грусть.
Не такая уж Елена Карповна дура, чтобы не знать – в Москве на роды врачей не вызывают, а везут женщин в роддом. Где же все-таки Лиля была до девяти часов? Об этом лучше не думать. Разве можно сейчас, на ночь, есть жирный борщ? Елене Карповне, во всяком случае, придется ограничиться чашечкой ряженки. Но кому до этого дело?
Она открыла ящик своего шкафа. Здесь все ее ценности. Зеленая папка с документами, грамоты, ордена. Пачка благодарственных писем от родителей ее пациентов и от них самих. Письма покойного мужа. Красивый, очаровательный был человек, а счастья никому не дал. Письма Гоги – от самого первого, выведенного печатными буквами. В коробочке – драгоценности. Золотые часы с браслетом, цепочка с медальоном и кольцо с бирюзой, окруженной бриллиантами.
– Мама! – крикнул Гога. – Обедать! Лиля есть хочет!
«Лиля хочет, – неприязненно подумала Елена Карповна, – мы уже и не люди».
Она продолжала сидеть над открытым ящиком.
Чего она испугалась сегодня, когда невестка так запоздала? Почему у нее стало неспокойно, нехорошо на сердце? Не стоит в это вдумываться…
Она вынула из ящика кольцо с голубым камнем – семейную ценность Артаровых, переходящую из поколения в поколение. Все равно кольцо должно перейти к молодой хозяйке дома.
В кухне застучали посудой.
– Правда вкусно? – спрашивал Гога. – Мама, если захочет, умеет!
Елена Карповна положила кольцо обратно в коробочку.
«Подождет! Надену ей на палец в тот день, когда она родит мне внука».
– Что у меня за женщины? То тебя ждешь, то маму…
В кухне отодвинули стул. Донесся голос Лили:
– Я ее приведу.
Никаких объяснений, никаких требований. Лишние разговоры, лишние обиды. Выяснять ничего не нужно. Как из каменных глыб, из кирпичей, из бетонных блоков строили и строят дома, так внутренний мир семьи создается из мужества, терпения, а иногда и молчания.
Лиля не думала этого словами. Она это чувствовала.
Маленькая седая женщина нахохлившись сидела перед своим шкафчиком.
– Обедать, обедать будем, – сказала невестка. – В любом часу, хоть ночью, но за стол должна садиться вся семья…
После развода
В пять Вера Петровна задержала Любу на работе. Часа два они провозились, а в начале августа дни уже заметно укорачиваются, и домой Люба пришла, когда в комнатах стемнело.
В кухне стояла немытая посуда, постель Володи с утра не прибрана, сам где-то во дворе. И без того на душе тошно, а уж если в квартире грязь, так впору удавиться. Люба принялась наводить порядок. Она любила работу и даже самую грязную умела делать быстро и красиво. Пока кипели щи да жарилась картошка, Люба перемыла полы в кухне и в ванной, убрала с дивана Володину одежку. В комнатах было чисто, но Люба каждый день протирала шкаф и сервант шерстяной тряпкой. Поэтому мебель у нее была как новая и книги в стеклянном шкафу так и блестели переплетами.
Раньше, когда Виктор жил дома, Люба заставляла его обертывать книгу газетой, потому что читал он неаккуратно и даже мог засыпать страницы пеплом от сигарет. Сейчас книги стояли плотно в рядочек. И вдруг Люба увидела в верхнем ряду дыру! Первая мысль была, что без нее приходил Виктор. Потом пригляделась, разобралась, какой не хватает. Оказалось – первого тома сказок из «Тысячи и одной ночи». Второй том на месте, а первого нет. Издание академии, с цветными рисунками. Эту книгу сейчас ни за какие деньги не купишь.
Люба посмотрела у Володи на столике, посмотрела в ранце, накапала себе валериановых капель и немного полежала, чтобы успокоиться. Потом поднялась, оделась, вышла к подъезду и села на лавочке возле пенсионерок, которых считала бездельницами и сплетницами. Посидела она не больше пяти минут – появился ее Володечка, растрепанный, потный, на сандалиях, которые Люба купила неделю назад, уже все носки сбиты. В футбол гонял.
Люба схватила сына за руку:
– Куда ты книгу дел?
– Какую еще книгу?
А сам в глаза не смотрит. Знает!
Пенсионерки на лавочке примолкли. Любопытно им.
Люба вывела сына на улицу.
– Где книга?
– Товарищу дал почитать.
Вылитый отец! Того тоже всю жизнь товарищи обирали.
– Веди меня к товарищу.
– Не надо, мам, он завтра отдаст… Честное слово…
– Веди к товарищу!
– Мамочка, милая, не надо…
Потом заплакал:
– Я туда не пойду… не могу я…
– Я сама пойду. Ты только адрес скажи.
– Мамочка, я сам принесу, я сейчас же принесу!
Но Люба, не выпуская маленькой жесткой руки сына, заставила его указать дом, сказать, какой этаж, какая квартира. И позвонила. Звонок красиво теленькнул, дверь открыл мужчина, еще молодой, в джинсах и клетчатой рубахе.
Люба сказала:
– Извиняюсь, мне вашего мальчика нужно.
– Пожалуйста. – Мужчина позвал: – Славка!
Вышел мальчик. Володечкин ровесник. Люба попросила мужчину:
– Вы уж, пожалуйста, не уходите от этого разговора. Вам, как родителю, нужно послушать.
Мужчина пригласил войти в комнату, но Люба отказалась, сразу же обратилась к мальчику:
– Ты книгу у Володи Онина брал?
Тот не стал запираться:
– Арабские сказки взял.
– А ты знаешь, какая это дорогая книга? Как ты мог без разрешения Володиных родителей ее из дома унести?
Мальчик нисколько не смутился.
– Я только прочитать взял.
– А вам я прямо-таки удивляюсь, – обернулась Люба к Славкиному отцу. – Вы видите, что у вашего сына такая ценная книга, и не поинтересовались, где он ее взял!
– В самом деле, – огорченно сказал мужчина, – совсем не подходящее чтение для детей. Загруженность, знаете. Вот только что с работы, а жены до сих пор дома нет. Конечно, им надо адаптированное издание. Академическое на этот возраст не рассчитано.
Люба решила, что он над ней смеется. Для кого же сказки печатают, как не для детей? Люба очень хорошо понимала, когда ей что-нибудь в насмешку скажут. Но тут мальчик вынес книгу, а это для нее было главное.
Мужчина еще извинился, тоже, может быть, в насмешку, но Люба уже отошла душой и не сердилась.
Дома Володечка лежал на диване лицом к стенке. Щей есть не стал и разговаривать с матерью не хотел.
– Смотри ты у меня. Я, как одинокая мать, тебя в два счета в интернат определю!
Думаете, испугался?
– Я к папе жить пойду… Я с тобой не хочу…
– Очень ты ему нужен… Там его баба тебя, как шайбу в ворота, выбросит!
– Врешь ты все! Он у тети Кати живет. Я знаю.
Конечно, ребенок. Его обмануть легко.
– Эх, дурачок ты, дурачок, – ласково сказала Люба.
* * *
Гадалкам и ворожеям Люба сроду не верила. Даже смеялась над этим невежеством. Но вот так получилось – сама к гадалке пошла.
Сначала как будто помогло, – три месяца Онина не было, а тут заявился. На другой день после того, как Люба побывала у ворожеи. Пришел, сел, набычился и молчит.
Володечка только из лагеря подмосковного приехал и, конечно, футбол гонял, не было его дома. Виктор, видать, прямо с работы. Может, рассчитывал пообедать? Ну, это уж извините! Всю жизнь мечтала чужих мужиков кормить! А кто он ей сейчас? Пусть тринадцать лет прожили, а развели по суду – и чужой. Чаю, правда, предложила – отказался. Даже не спросил: черт, мол, дьявол, как здоровье? В чулан поперся, как у себя дома. Усилитель какой-то понадобился. А может, он Володечке пригодится, когда мальчик подрастет? Хотела не дать, побоялась скандала. Он все одно: «Постыдись! Я ведь нитки из дома не взял». Ей еще стыдиться! Сам бросил семью, такую травму ребенку нанес, что Володечка учиться плохо стал, ей жизнь разбил. А за что? Нет, если разобраться? Сама аккуратная, дома порядок, на работе ее одобряют. Чего не хватало? «Я, говорит, с тобой как в предбаннике живу». Это про отдельную двухкомнатную квартиру. Один румынский шкаф сто двадцать рублей стоит, сейчас, говорят, они еще подорожали. Сервантик чешский. Ну, диван старый, клеенчатый, так и то можно софу купить. Со временем. Вот Люба округлит сумму на сберкнижке, потом будет на софу откладывать.
Она встала в дверях кладовочки, где возился Онин. Уж пускай одним разом забирает свои штативы, аппараты, усилители. А то будет за ними ходить да каждый раз нервы мотать. Сердце же не выдерживает все это терпеть да любезно молчать. Но все советуют – терпи. Гадалка сказала: «Не обижай его злым словом». Раньше-то она его не обижала. Уходил с утра до ночи – верила, дура, что на работе задерживают. В командировки ездил, в дома отдыха по два раза в год – за вредность будто бы. Никогда не проверяла. Да и как проверишь? Туда и по телефону не сразу дозвонишься. Когда уже совсем ушел Виктор, добилась она прямого телефона директора. Сказала: «Очень извиняюсь, вы знаете, что ваш сотрудник Онин жену с ребенком бросил? Вы в курсе дела?» Он сперва вроде ничего не понял. «Разрешите, – сказала Люба, – я к вам приду и все объясню». Так он даже испугался: «Нет, нет, меня не касается, обратитесь в общественные организации». Очень обидно было. Конечно, мужчина всегда мужчину защищает. Секретарь парткома у них женщина. Люба решила к ней сходить. Мало ли что разведенные. А Володечка? Это же одни красивые разговоры: «Я ему отец был, есть и останусь». А на деле в лагерь к сыну только один раз съездил!
Люба это ему высказала, пока стояла у кладовки.
– Что ты от меня хочешь? Алименты получаешь, это для тебя самое главное.
– Тебе, прохиндею, еще бы и алименты не платить, чтобы твоей новой больше оставалось!
Думала обойтись с ним по-хорошему, но не выдержала. Стала все высказывать, что накипело. А он – в переднюю и молча плащ на себя натягивает.
Тринадцать лет жили, обшивала его, обстирывала, кормила, а теперь ты ему и слова не смей сказать. Унижайся перед ним.
– Погоди, Витя… Ты и Володечку ведь еще не видел, Витя…
Нет, повернулся и ушел.
Люба легла на клеенчатый диван. Спина холодным потом облилась. Чтобы успокоиться, она стала считать, сколько у нее денег. Это всегда приводило ее в равновесие. Три сберкнижки. Одна – куда алименты складываются, другая – в своей районной сберкассе, а еще одна – в центре города. Так пришлось раскидать деньги перед разводом. Виктор хотя ничего про ее сбережения не знал, а все равно Люба боялась, что по закону делить с ним придется. Разметала деньги по разным сберкассам – никто никогда и не узнает, а для алиментов отдельную завела.
Вся ее жизнь, все труды, все молодые годы – в этих деньгах. Рубль к рублю прикладывала. Ни копейки зря на себя не тратила. Мечта была – до пенсии такую сумму собрать, чтобы в месяц рублей двадцать процентов набегало. Тогда у нее та же зарплата до конца жизни. А умеючи жить и опять откладывать можно. Пенсионеркой возьмется с чужим ребеночком погулять, по хозяйству помочь. Она зря дома сидеть не будет. У нее руки к работе привычные.
Злые отцовы дети и доучиться не дали, когда мать умерла. Сбагрили девчонку приезжим дачникам в домработницы. Не посчитались, что она по отцу им кровной сестрой приходится. Это сейчас Люба им простила: и принимает и угощает. Но зло помнит. Она и добро помнит. Вот, светлая ей память, певица Сарафанова, у нее Люба два года проработала. Присмотрелась она к Любе и говорит:
– Ах ты, такая-растакая, – очень простой человек была и по-простому выражалась, – ты что, думаешь всю жизнь чужие тарелки лизать? В какое ты время живешь? Какие у тебя права сейчас есть!
Устроила она Любу мойщицей в столовую.
Но жила Люба по-прежнему у нее. И по хозяйству помогала. А еще время прошло, Сарафанова и говорит:
– Ты себя на работе зарекомендовала с хорошей стороны, теперь иди к начальству и объяви, что я тебя с квартиры гоню и тебе жить негде. Какой-никакой угол дадут. Да ты не реви! Я тебя в жизнь толкаю!
Правда, не сразу, но все по ее словам сделалось. Дали Любе жилплощадь. Закуток под лестницей чуть пошире ванной комнаты. А радовалась больше, чем когда эту двухкомнатную со всеми удобствами получила. Тоже ей, а не Виктору за хорошую работу ордер вручили. У нее хоть зарплата небольшая, а почти вся целая остается, потому что доход есть. Редкий день Люба без даровых продуктов домой идет. Бывает, шеф-повар Вера Петровна тихо так скажет: «Останься на часок после работы». Все уйдут – они вдвоем за дело. С головизны щеки поотрезают, пашину два раза через мясорубку прокрутят – приготовят заготовки на котлеты, на голубцы, на бифштексы рубленые! Любе с собой – филейный кусочек на килограмм. А уж что сама Вера Петровна берет – это Любу не касается. Ее дело маленькое. Ей дали. Она сама ничего не взяла. Бывает, Вера Петровна скажет: «Иди в кладовую, отрежь себе колбаски, сыру, чего тебе надо». Люба всегда отказывается: «Дайте своей рукой». А в конце недели, когда шеф-повар остатки снимает, тогда Любе и масла шматок, и сахару мешочек, а то и полкурицы.
Вот такая она жена была.
Только это все, конечно, не дружков-товарищей кормить. А тут, извольте, собирается чуть не каждый вечер компания, и всякий раз чаем их пои, сыру да колбасы на стол поставь. Для чего это надо? Ну, поговорили, покричали, пол пластиковый, чистый натоптали, исцарапали и шли бы себе до домам. Нет! Каждый раз один разговор:
– Сообрази нам, жена, чайку да пожевать что-нибудь.
Всю жизнь мечтала!
Люба ему высказала по-хорошему:
– А для чего это, Витечка, нам их поить, кормить, от своего ребенка отрывать? Они небось наше едят да над нами же смеются. Кто они нам?
– Товарищи мои, – говорит. – Неужели я на кусок колбасы не заработал?
Да за этот кусок Люба иной раз через проходную идет, у нее вся спина мокрая и руки от страха немеют. Только Витечка, конечно, ничего про это не знает. Он думает – с его заработка живут. Он принципиальный. А какой тут может быть принцип?
Другой раз, как приятели на порог, Люба все съестное попрячет да из дома. Иногда у подруги до десяти часов сидела. Онин сперва черной тучей смотрел, затем повадился вечерами уходить. Так и пошло. В будни его нет и в праздники нет. Всё его куда-то посылают, всё ему задании по работе дают. Сперва верила, потом забеспокоилась, да поздно. Распустился, разбаловался, наконец и ночевать дома не стал.
Это и была ее вина, что долго терпела, все надеялась – образумится, никаких мер не приняла, до развода довела.
Как перестал он домой приходить, Люба его в жэке выписала. Там сперва не хотели, так она всех соседей свидетелями поставила, что он месяцами не ночует и за квартиру не платит. Выписали его. Он либо узнал, либо почуял – пришел. Торт принес, портвейну бутылку. С Володечкой весь вечер сидел, уроки помогал делать.
Спать легли – все как полагается. А потом Люба возьми и скажи: «А ведь ты теперь и ночевать здесь права не имеешь. Я тебя выписала…»
Он как взорвется! Нехорошим словом обозвал, оделся – и уходит. Люба в дверях встала, он ее отпихнул, она в крик. Соседи милицию вызвали.
Вот после этого Онин на развод подал. Три раза дело откладывали. Один раз – не пошла Люба. Другой раз судья давал две недели на примирение. Онин отказался: «Не надо мне!» Люба сказала: «А мне надо». Третий раз Онин в командировке был. Вот тут бы ей к гадалке и пойти. Да ведь не знала. Это потом, когда уже развели, старушечка научила. Сидела на суде рядом, сочувствовала Любе, а потом дала адресок – далеко, в Теплом Стане. Час туда добираться. Не так чтобы очень верила Люба, однако поехала на всякий случай – судьбу свою налаживать, последнюю попытку сделать.
В Теплом Стане все дома новые – один в один. Высокие, белые, как меловые. Место еще не обжитое, деревца у домов маленькие, невидные – вроде голо все вокруг.
На четвертый этаж Любу повез лифт. Открыл ей парень. Лет двадцать ему, в голубом свитере. Черный, красивый. Люба и спросить ничего не успела, он сразу крикнул:
– Мама, к тебе! – И ушел.
Люба так и осталась одна. Даже неудобно. На вешалке одежда, на тумбочке флаконы какие-то. Пропадет что-нибудь – на нее подумают.
Наконец женщина появилась. Полная, черная. В цветастом кримпленовом платье. В руке луковица, и полотенце через плечо перекинуто. Повела Любу в комнату. На стене ковер, подоконники вазами хрустальными заставлены.
Вот как люди живут!
И опять Любу одну оставили…
* * *
Зина вернулась на кухню, выключила горелку под кастрюлей, в которой тушилось мясо. Сын налил кофе в большую чашку и пил без молока.
– Смотри, с молодых лет сердце расшатаешь! – Она была недовольна мальчишкой.
Сын напомнил:
– Тебя там человек ждет.
– Это мое дело. А не хочешь в ГИТИС, подавай в МАИ. Эх, глупая твоя голова…
Рука сама потянулась к слитым тяжелым кольцам его волос.
– Мне МАИ до фени, – сказал сын, – я эту математику ненавижу.
Вот так. Все хотят жить по-своему. Человек верное дело в руки взять может. Приятное, красивое дело. Ему прямая дорога в ГИТИС. Его оттуда в театр «Ромэн» с руками оторвут. Собой хорош, и голос есть. Ну, не такой, как у Сличенко, зато молодость. Не хочет! А на что ему филология? И что это за наука, чтобы на нее пять лет тратить? Девчонка его тащит. Любовь. А что потом будет, когда любовь кончится, а филология останется? Специальность не жена, с ней не разведешься. Мать знает, где его счастье, но свою голову ему не приставишь.
– Пустое дело, – сказала она, – цыгане никогда филологией не занимались.
– Цыгане веками посуду лудили и коней крали. Кстати, тебя там женщина ждет.
Нарочно сказал. С намеком. Щенок. А на какие деньги ты в замшевом пальто ходишь?
Зина знала за собой не поддающиеся разуму секунды гнева. Она с размаху ударила сына по щеке. Он закрыл глаза, и длинные ресницы легли ему на щеки.
А как ей, гневной и встревоженной, сейчас к клиенту выйти? Разум у нее должен быть спокойный, глаза зоркими, голос твердым. А сейчас что поймешь? Чем поможешь? Самой кто-нибудь помог бы.
Вздохнула несколько раз, высоко поднимая грудь, чтобы успокоиться.
Вообще-то это ничего, что ждать заставила. Женщина, когда ждет, больше растревожится и больше себя откроет.
Зина сняла с плеча полотенце, смочила водой и пригладила волосы надо лбом.
Сын подошел к крану – помыть за собой чашку.
– Брось, – сказала она примирительно, – сама вымою.
Вышла из кухни в комнату и молча оглядела женщину.
Не старая. Глаза бегают. Жадные. Губы скорбные. Что ее привело? А первые слова надо сказать такие, которые доверие и уважение вызовут.
– Пропажа у вас…
Женщина еще горше губы поджала, подбородок задергался.
Вздыхает, а держится. Сама ни нет, ни да не скажет. Значит, со своей стороны тоже проверяет.
Зина пригласила:
– Садитесь.
Устроила у стола, чтобы свет на лицо падал, сама напротив села, карты из ящика вынула. Этим картам лет пятьдесят будет. Еще мать Зины по ним гадала. Карты темные, набухшие, с мечами да желудями. Иногда действительно правду показывают.
Тасовала Зина карты не торопясь, чтобы дать женщине время расслабиться.
– Что-то мне ваша личность знакомая, – робко сказала Люба.
– Вполне возможно. Я газетным киоском заведую здесь за углом. И «спортлото» продаю. Газеты покупаете?
– Я в этом районе в первый раз.
– А раньше я у Октябрьского метро работала. Тоже в киоске.








