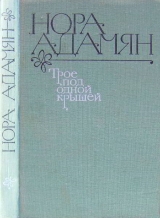
Текст книги "Трое под одной крышей "
Автор книги: Нора Адамян
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)
Бессмертные
В этот день произошло много событий. Началось с того, что перед третьим уроком в класс вошла француженка Алиса Ивановна и объявила:
– Собирать вещи и прочь-прочь домой…
Когда ученицы радостно взревели, она страдальчески заткнула уши:
– Без шум, без шум…
Никто не понял, в чем дело, но расспрашивать не стали. Все торопливо запихнули в сумки книги и тетради. По пустынному и тихому в этот час урока коридору навстречу девочкам двигались люди в белых халатах с баллонами в руках, за ними шла школьная нянечка с ведром и тряпками.
Разъяснила дело изгнанная с урока ученица параллельного класса. Свободная и одинокая, она слонялась по школе и все знала.
– У вас случай скарлатины. Приехала дезинфекция. А в черном городе начался нефтяной пожар. С чердака видно.
Скарлатина могла быть у Жени Маясовой. Она уже четыре дня не ходила в школу. Эта новость никого не взволновала. Болезни были редкими и желанными. Пожары случались чаще. Город у моря баловал своих жителей великолепными фейерверками с заревом в полнеба. Горящий газовый фонтан гигантской свечой озарял Приморский бульвар. Световые эффекты сопровождались музыкальным оформлением на низких зловещих нотах.
Два десятка благоразумных и нелюбопытных девочек разошлись по домам, а пятерым понадобилось лезть на чердак, чтобы определить направление пожара.
Замок на чердачной двери легко открывался головной шпилькой. Мимо изъеденных молью чучел зверей и птиц, истертых до деревянной основы классных досок, рулонов изорванных географических карт девочки добрались до треугольного окошка с торчащими остриями разбитого стекла.
С высоты пятого этажа они увидели на горизонте облако черного дыма с багровыми всполохами. Это выглядело особенно грозно при ясном блеклом небе поздней осени, при солнце, освещавшем бесконечные плоские крыши и сероватое пространство моря.
Пожар вздымался над черным городом, и знакомое гудение уже набирало силу.
Когда девочки добрались до промысла, толпа людей, сдерживаемая цепью пожарных, плотно окружала горящий фонтан. С высокого пригорка, куда вся компания стала проталкиваться, протискиваться – и наконец пробралась, пожар был виден, как сцена в театре из первого яруса.
Буровой вышки уже не было. С земли поднималось, опадало и снова вскидывалось ревущее пламя. На секунду оно прикрывалось густым плюшевым дымом, но потом вновь возникали малиновые, алые, оранжевые отсветы.
Мусю прижали к боку пожарника, и она сквозь плотный чад нефти и горящего газа, сквозь запахи, извергаемые из глубины земли, ощущала, как пахнет его мокрая одежда куревом, потом и почему-то супом.
С силой отталкиваясь назад, пожарник отодвигал любопытных прочь, но Муся вцепилась в его кожаный пояс. Из-под вытянутой руки пожарного ей было видно, как вокруг огня стремительно носились люди, как толстыми голубыми змеями низвергалась к основанию огненного столба пенная жидкость, от которой пламя вздымалось еще выше.
Лена и Таня держались рядом, Фанни и Клару отнесло в сторону, но все они видели, как вдруг оранжево-ало засияли на закопченном небе две соседние вышки и, мелко задрожав, опустились на землю углями больших костров.
Рядом закричала женщина:
– Чего же они смотрят? Чего они думают? Мы же все погорим!
Неподалеку от буровых стояли невысокие дома с прокопченными деревянными галерейками, на которых толклись встревоженные жители.
– Мамиконова нет, – сокрушенно сказал мужчина. – Я тебя спрашиваю, почему Мамиконова нет? – сердито прокричал он прямо в ухо пожарному.
– Я над ним не хозяин, – зло огрызнулся пожарник.
Потом нехотя добавил:
– В Сабунчах газ горит…
Еще одна буровая, которая стояла в отдалении, вдруг от основания покрылась маленькими розовыми лепестками. Живые и трепетные, они бежали все выше и выше, обгоняя друг друга и оставляя после себя оранжевые прозрачные контуры буровой.
Мусю охватило неизведанное еще чувство ужаса и вместе с тем восторга. Она впервые была частицей многоликой монолитной толпы, подверженной приливам и отливам в зависимости от всполохов огненной стихии. Хотелось, чтобы все это кончилось, и хотелось, чтоб не кончалось никогда.
А вокруг отовсюду зазвучало:
– Мамиконов, Мамиконов…
Это имя главного тушителя нефтяных пожаров знали все в городе. Говорили, что он закрывает горящие газовые фонтаны стальной плитой, говорили, что встречным огнем отрывает пламя от земли… Личностью он был легендарной и появился, как сказочный герой, сопровождаемый восторженным шумом толпы. Ярко-красный легковой автомобиль медленно проехал по коридору, образованному расступившимися людьми.
Усатый, смуглый, великолепный, он был далек от идеала, но в него можно было влюбиться, и Муся это поняла, потому что в душе начали сочиняться стихи:
И лепестками хризантемы
По черным брусьям лез огонь…
– Мамиконов приехал? – спросила она, хотя спрашивать уже было незачем.
– Граздан Мушегович его зовут! – гордо сказал пожарный.
Все пришло в движение, круг расширился, людей оттиснули с пригорка.
– Ну, теперь на огонь смерть пришел, – радостно сказал старик азербайджанец, – кончал пожар, совсем кончал.
Муся внезапно ощутила, что кончается волнующий праздник.
– Горит еще! – строптиво возразила она.
– Кончал, кончал, не боись, – успокаивал старик, ласково кивая ей головой.
Сразу стало неинтересно. Временами огонь еще вздымался и подвывал, но сила его иссякла. Непонятно, как этого добился хитроумный Мамиконов, но пожар был задушен, оторван от земли или загнан под землю – кто знает.
Пятерых девочек, вышедших на трамвайной остановке, томила невысказанная неудовлетворенность.
Домой не хотелось.
– Предлагаю поехать на бульвар, пусть нас ветерком обдует, – сказала Лена.
В переполненном трамвае они поехали на другой конец города. И конечно, никто из них, кроме Клары, не взял билета.
– Погубит тебя твоя порядочность, – сказала ей Ленка. – Не сберегла для общества нужную копейку.
– А у меня еще есть…
Клара виновато вытащила из кармана одну серебрушку и несколько медяков.
– Ура! – закричала Ленка. – Прибавляю свои двадцать. Кто больше?
У входа на бульвар они сосчитали деньги, которые не успели истратить, потому что школьный буфет открывался только после третьего урока.
– Семьдесят шесть копеек, почти рубль, – подытожила Ленка. – Что будем покупать?
Напротив бульвар, на набережной, в маленьких темных лавках торговали персидские купцы. Они продавали тонкий прозрачный рис, который назывался «ханским». В полотняных промасленных мешочках хранили зеленый изюм, пересыпанную кристаллами соли альбухару и сушеные абрикосы восковой ломкости. Там стояли мешки, наполненные крупными раскрытыми фисташками, соломенно-желтым арахисом и грецкими орехами с картонно-хрупкими скорлупками.
На многоярусных, выраставших одна из другой вазах возлежали невзрачные на вид серые лепешки первоклассной нуги, пласты фисташковой халвы и большие конфеты в ярких обертках.
Там было еще много неведомого – баночки с приправами и специями, склянки с благовониями, эссенции и эликсиры, которые продавались по каплям, по граммам и стоили баснословных денег.
Девочки ничего не могли здесь купить, кроме крепкого ароматного ириса, ценимого за то, что на один его квадратик приходилось почти полчаса удовольствия.
После дневного света они очутились в душистом сумраке. За маленьким низким прилавком сидел тощий старичок и читал книгу с желтыми страницами, изузоренными черной вязью арабского алфавита.
Он поднял глаза, вздохнул, оценив уровень платежеспособности покупателей, однако вежливо привстал с табурета и готовно вытянул в их сторону длинную шею.
– Полфунта ирисок, – независимо сказала Ленка.
Деньги были рассчитаны так, чтобы их хватило выпить еще по бокалу знаменитых «фруктовых и десертных вод Логидзе».
Из глубины лавки бесшумно возник человек в красной фетровой феске. Перебирая четки, он оглядел девочек и произнес короткую непонятную фразу, на которую старичок ответил быстрым покорным движением, приложив руку ко лбу.
Всех пятерых сковал оценивающий взгляд. Стараясь не замечать мужчину в феске, они все же косились в его сторону и видели лакированные остроносые туфли, шевиотовый костюм «индиго», пиджак которого, застегнутый одной пуговицей, еле сходился на сиреневой рубахе. Мужчина точно застыл, тяжелый даже рядом с тюками, мешками и ящиками. Двигались только длинные, темные пальцы, перебирающие янтарные бусы. И слегка раскачивалась черная кисточка, свешиваясь с фески.
В ту минуту, когда старичок снял с чашки весов покупку, человек в феске лениво сказал:
– Вы, барышни, называется… От барышни должно розой пахнуть, духами пахнуть. А от вас. – он глубоко вдохнул, – от вас копченой рибой пахнет…
Онемели все, кроме Муси. Воспитывающая себя на образцах Прекрасной Дамы и Незнакомки, она не могла стерпеть поношения.
– Мы на нефтяном пожаре были… В черном городе пять буровых сгорело… Три часа фонтан потушить не могли… А вы говорите… Сам Мамиконов приезжал…
Фанни изо всей силы дернула ее за рукав. Старичок с поклоном протянул Ленке сверток, и девочки кинулись к выходу с чувством преодоленной опасности.
– Хотите верьте, хотите нет, он выбирал из нас гурию для своего гарема! – выпалила Таня.
– Гурии – это в раю, а в гареме одалиски, – поправила Клара.
– А Муська туда же: пожар, пожар… Ну, чего ты вылезла? В одалиски захотела? Для этого нэпмана наш пожар – дорогой праздник!
Фанни недавно приняли в комсомол. Она была проникнута классовым самосознанием.
– Доложила ему: пять буровых сгорело! На блюдечке преподнесла!
Муся чувствовала себя виноватой и даже не огрызалась.
Днем на бульваре было пустынно. Гулял ветер. Море кудрявилось и било волнами о стену парапета, так что брызги обдавали девочек, устроившихся на плитах. Лена сорвала тонкую обертку с лакированных ирисок. Их было много. Два больших тяжелых пласта.
– Девочки, – сказала Ленка, – нам подали милостыню!
– Нас купили, – уточнила Фанни. – Толстопузый взял нас на содержание.
– Ну и отлично! Дайте мне ириску, – потребовала Муся.
– Лично я этот ирис есть не собираюсь, – холодно сказала Фанни.
– Я считаю, надо сейчас же отнести ему деньги за лишний вес, – решила Клара.
– А где мы их возьмем?
– Можно домой сбегать.
– Ну и что докажем? Толстопузый к тому времени уйдет, а хитрый старик деньги прикарманит и скажет: «Спасибо вам, дуры!»
– Во всяком случае, я есть не буду!
– А я буду, – взорвалась Муся. – Дайте мне ириску!
– Одалиска ты, а еще поэтесса.
– Подумаешь, конфеты в принцип возвели…
Все стало плохо. Фанни злилась, Танька ворчала, Клара непреклонно сжала губы.
Лена задумчиво смотрела в море на темную глыбу острова Наргина, возле которого, как всегда, не то стоял, не то шел пароход. Ее некрасивое, притягательное лицо стало задумчиво отрешенным. С первого класса она была отличницей, не зубрилой, но девочкой с разносторонними, обширными знаниями. У ее отца было революционное прошлое. Свет этого прошлого падал на Лену.
– Не бузите, девочки, – сказала она, – черт с ней, с этой подачкой…
Ленка привстала, размахнулась и швырнула ириски в воду.
– В набежавшую волну, – сказала она.
Фанни расхохоталась. У нее был особенный смех – басовитый колокольчик. Клара одобрительно кивнула. Муся чуть не плакала.
– Ну и что? Зачем? – твердила она. – Теперь все бычки будут пахнуть сливочным ирисом…
– Забудем этот ирис, наплюем на бычков, будем жить на вершинах. Читай стихи!
Напрасно некоторым Лена казалась слишком рациональной. Нет, она понимала своих друзей!
Но в душе Муси клокотало разочарование.
– Что мы этим доказали?
– Мы сохранили свое достоинство.
– Кто об этом узнает?
– Поэт! Ты сам свой высший суд! – сказала Лена.
Казалось бы, достаточно. Но Фанни потребовалось добавить:
– Вот и верно сказано: «Быть может, всех ничтожней он». Вот я теперь понимаю, почему декабристы Пушкина в свою компанию не взяли…
– Вон куда метнулась!
– Муська, не слушай ее, прочти про любовь, – кротким голосом попросила верный друг Таня.
Муся глубоко вздохнула.
Мне не дала моя любовь
Ни новых платьев, ни стихов,
Мне принесла любовь моя
Простую птицу – воробья.
Его держала я в горсти.
Он прочирикал «отпусти»…
Разжала пальцы я. Прости,
Прости меня, любовь моя!
– Вот тебе раз, – вскричала Лена. – Неожиданно! Это что-то новое!
– А кто – эта любовь? – заинтересовалась Фанни. – Это Шурик, который тебя по математике натаскивает?
– Муся творчески осваивает «танку» – японскую форму, – сердито объяснила Таня.
– Уже танки в ход пошли! – Фанни загрохотала.
– Нет, в этом что-то есть. Давай читай еще, – потребовала Лена.
– Все вы дуры! В этом есть и поэзия и настроение. А вам лишь бы выяснить, кто прототип. Типичное мещанство!
– Про-то-тип, – веселилась Фанни. – А он вовсе даже и не студент, этот знаменитый Шурик…
– Ну, читай, читай…
Разметал в пролетах улиц
Косы серые асфальт.
Люди все в домах уснули.
Мне уснувших жаль…
– Почему тебе их жаль?
– Жизнь проходит, – печально сказала Муся. – Они спят, а жизнь проходит.
– А ты сама не спишь, что ли?
– Никогда, – ответила она.
Муся не врала. Лежа в постели, она создавала в уме стихи и поэмы. Потом внезапно наступало утро. Ночные строчки воссоздать на бумаге никогда не удавалось, но оставалось ощущение прекрасного и совершенного. Так проходили Мусины ночи.
– И это у тебя от бессонницы щеки светятся, как помидоры? – ехидно спросила Фанни.
Клара молчала. С ней происходили чудеса еще и не такие. По вечерам, если она оставалась дома одна, к ней приходил Серый Человек. Он все понимал и все мог. Клара его ни о чем не просила. Он разговаривал с ней о жизни. Его появлению всегда предшествовал огненный кружок горящей папиросы. О его существовании знали только Таня и Муся.
Лена тряхнула головой:
– А я не жалею времени. Я его подгоняю. Мне не терпится поскорее узнать, что оно нам несет. А жизни нашей конца не будет!
– Будет, Леночка, будет. Вот послушай:
Однажды в срок взойдет заря,
Спадет листок с календаря
И засияет утро дня,
Но без тебя и без меня…
– Нет, я в это не верю!
Ленка вскочила на парапет. Ветер рвал ее клетчатую юбку, вздымал рыжие курчавые волосы.
– Девочки! Мы бессмертны! Ученые всего мира трудятся сейчас над нашим спасением. Рак и туберкулез нам привьют, как оспу. От всех болезней изобретут беленькие таблетки – вечером выпил, утром здоров. Я вам это обещаю! Я ручаюсь, верьте мне!
* * *
– Верьте мне, девочки, – сказала Муся, – я это слышала от очевидцев. В Эстонии, вот только забыла, в каком городе, живет врач, который излечивает совершенно безнадежных. К нему едут со всего Союза.
Она приготовилась разливать кофе по трем чашечкам – Кларе, Тане и себе.
– Знаю я этих очевидцев! – усмехнулась Таня.
– Нет, не говори. Открытия носятся в воздухе, – возразила Клара. – Мы же все слышали про биолога, который разработал диету – мел, тмин, отруби, травы. Тоже исцелял. Но против ополчились наши академики.
– Новое всегда подвергается гонениям. Муська, кофе мне только четверть чашки, остальное молоком долей…
– А мне молока совсем не надо, только кофе, – сказала Клара. – Что касается чудес, то я в них, к сожалению, не верю.
– Надо верить! – убежденно заявила Муся. – Без чудес нельзя.
– Смотря что считать чудесами, – Таня неторопливо помешивала в своей чашке едва окрашенные сливки.
– Для меня чудо – каждый наступающий день. Девочки, берите миндальные пирожные, они очень свежие. Я считаю, чудеса есть. Иногда вдруг вместо оплаченных двухсот граммов получаешь целое кило ирисок…
– И чаще всего бросаешь их в море, – сказала Таня.
– Верно! А когда это было, девочки? Вчера? Неделю назад? Год или вечность?.. Я сбилась со счета…
Они все сбились со счета, засмеялись.
А за дверью кто-то сказал:
– Вот веселятся, вот веселятся…
Вошла высокая тоненькая девушка, туго обтянутая джинсами и водолазкой.
– Здравствуйте, тетя Клара, здравствуйте, тетя Таня… Бабушка, за мной пришли, я ухожу…
– Надолго?
– Не знаю. Но ты не беспокойся. Если сильно задержусь, то позвоню.
Она улыбнулась и помахала на прощанье рукой.
– Прелестная девочка, – вздохнула Таня.
– На третьем курсе. – Муся тут же постаралась смягчить свою гордость. – Кошмар какой-то! Моя внучка – математик!
– А ты, конечно, хотела передать ей эстафету?
– Ну, хотя бы иметь общий язык. В ее книгах я не понимаю ни строчки. Одни формулы.
– Для чего тебе понимать ее учебники? Ты должна понимать ее сердце. Мы с тобой всегда были тупые гуманитарии. А ее книги, если понадобится, тебе разъяснит Клара…
– Ну, не уверена. Я ведь технарь, а там высшая математика… Ленка бы разобралась…
– А помните Ленкины пилюли? Вечером выпил – утром здоров…
Ленки уже много лет не было на свете. Фанни умерла год назад.
Стало очень тихо, и они услышали сквозь шепот и приглушенный смех юный голос:
– Кейфуют старушки…
Потом хлопнула входная дверь.
Презрев все врачебные рекомендации, хозяйка засыпала еще один кофейник свеженамолотым кофе, и по комнате снова поплыл аромат, в котором рождаются воспоминания…
А на улице пахло сброшенными листьями и по-осеннему – хризантемами. Бесконечной дорогой, ведущей к чудесам жизни, шли наши внуки – еще молодые, еще бессмертные…
Неродная дочь
– Я с тобой совсем разговаривать не буду, потому что, если хочешь знать, ты мне вообще никто, – сказала Аленка.
Алексей никогда не думал, что так могут ранить слова семилетнего ребенка.
Когда они с Марой решили пожениться, то о девочке как-то не очень думалось. Но вскоре Алексей обнаружил, что Аленка – существо с независимым характером, совсем не похожа на свою мать и полюбить ее не так-то легко.
Мара удивилась, когда он ей сказал:
– Ты совершенно не воспитываешь своего ребенка.
Девочка была ухоженная, хорошо одетая, вовремя говорила «спасибо» и «здравствуйте», знала наизусть множество стихов. Что еще нужно?
– Капризная она, недоброжелательная…
Мара огорчилась. Алексей не хотел этого. Но он считал, что девочка должна быть подготовлена к сложностям предстоящей жизни.
Конечно, Алексея радовало, когда Аленка визжала от счастья и скакала на одной ножке. Ему нравилось быть добрым – разрешать ей не есть суп, бегать во дворе, соорудить из ночной рубашки балетную юбочку. Разрешать было легко и весело. Но – опасно.
Аленка торжествующе кричала матери:
– Ага, ага, вот ты не позволила, а Леша разрешил!
– Я не знал, что мама не позволила, – отбивался Алексей.
Аленка отлично использовала сложности семейной иерархии. Кто решал вопрос в ее пользу, тот был в данный миг главнее и сильнее.
Алексею не приходилось общаться с детьми, и сейчас многое в девочке его удивляло. Ему казалось, что существуют рубежи, которые отделяют один этап детства от другого, что, например, когда приходит время учиться в школе, то девочки перестают заниматься куклами. Но в Аленкином углу все еще царил кукольный младенец, которого звали Шурик Владимирович Абрикосов. Потрепанный, с облупленным носом, с туловищем, набитым опилками, он лежал на игрушечной кровати, укрытый атласным одеялом, а две роскошные куклы с нейлоновыми волосами, возведенные в звание его нянек, восседали по обе стороны кровати. В этом углу Аленкой и ее подругой Ниной создавалась обособленная жизнь с крупными противоречиями, интригами и компромиссами. Предметом соперничества и особых забот были не нейлоновые красавицы, а невзрачный Шурик Владимирович.
– Мой хорошенький, – голосом материнской любви ворковала Аленка. И тут же со вздохом сообщала: – Ему три года, а он у меня все еще не умеет говорить.
Нина, расчесывая волосы куклы Жанны, рассудительно отвечала:
– Наверное, он у вас дебил или даун…
Ее мать, врач-педиатр, работала с неполноценными детьми.
– Сама ты дебил! – взрывалась Аленка. – Не буду я с тобой больше играть!
Нина с мрачным достоинством отправлялась в переднюю. Аленка бежала за ней.
– Уходи, уходи, пожалуйста! – кричала она. Но когда за подругой захлопывалась дверь, заливалась отчаянным ревом.
– Почему ты такая неуступчивая? – спрашивала Мара. – Ну, успокойся, успокойся, завтра помиритесь.
– Не помиримся! – орала Аленка, захлебываясь рыданиями. – Она со мной теперь никогда в жизни не помирится!
Плакать она могла часами. Примолкнет, отдохнет и заревет с новой силой.
Мара боялась этих изнуряющих слез и шла на уступки.
– Мама, я буду стирать…
– Нельзя, ты простудишься.
– У Шурика все ползунки грязные…
– Перебьется твой Шурик.
– Да, ты небось свои колготки каждый день стираешь, а Шурику разве приятно в грязном ходить…
В голосе назревали слезы. Приходилось отступать.
– Делай что хочешь, стирай, простуживайся, не ходи в школу…
Начинался рев.
– Ну, что ты плачешь? Я же тебе позволила.
– Ты неласково позволила…
Ей не хватало душевного комфорта.
В такие минуты Алексею хотелось выдрать девчонку, но он знал, что не имеет на это права, потому что недостаточно ее любит.
Но чаще она была ему мила и интересна, он радовался, что между ними все больше устанавливается доверчивая близость.
Однажды она пришла из школы со своей первой отметкой в дневнике – взволнованная, напряженная. Спросила:
– Как ты думаешь, единица – это горе или неприятность?
С тех пор прошло много лет, но все невзгоды и неудачи Алексей теперь расценивал по этой шкале – горе или неприятность?
В первые годы совместной жизни молодой семье было не очень легко. Алексей еще не имел ни опубликованных трудов, ни научной степени. Мара каждый месяц сшивала книжечку из тридцати листиков и на каждую страницу закладывала денежную купюру – расходы данного дня. Светлой мечтой было что-нибудь сэкономить, но получалось иначе – к концу месяца последние листочки оказывались пустыми: распределять расходы равномерно никак не удавалось.
И все-таки Мара не хотела уходить с маленького заводика, где она работала сменным инженером, в солидный НИИ, хотя ее соблазняли возможностью защитить кандидатскую диссертацию. Рассуждала она вполне резонно:
– С семи до двадцати трех я училась, потом год ходила беременной и три года выхаживала Аленку. Теперь снова учиться, снова экзамены? На четвертом десятке защищусь – усталая, измочаленная. Нет уж, спасибо! Я хочу быть женщиной!
Когда в доме собрались гости и друг детства Алексея, молодой, но уже набирающий имя врач Сергей Сурский, спросил Аленку, кем она собирается стать, ответ прозвучал неожиданно:
– Женщиной! – твердо сказала Аленка.
Гости, замерев на какую-то секунду, зааплодировали.
А какая уж из Аленки женщина. Маленькое бесплотное существо с прямыми палочками-ногами, с бледно-оливковым личиком, на котором только и видны серые глаза. «Слишком много глаз», – подумал Алексей, когда впервые увидел Аленку.
В душе Алексея часто возникала досада, когда рядом с Аленкой была Нина, явно обещающая стать красавицей.
Дружба между девочками крепла, хотя Аленка часто подвергала ее тяжким испытаниям.
Приехавший из заграничной командировки сослуживец предложил Алексею в дар на выбор – газовую зажигалку или набор цветных фломастеров. Алексей вспомнил об Аленке и взял фломастеры, хотя его очень манила зажигалка «ронсон». Он был вознагражден радостным визгом и заявлениями о том, что такой прелести больше нет ни у кого в классе. Тут же по вызову явилась Нина, и началось опробование фломастеров. Никаких художественных способностей у девочек не было, но рисовать они любили и чаще всего изображали большеглазых безносых принцесс в немыслимо ярких одеяниях, с желтыми коронами на голове. И вот теперь у ног очередной принцессы Нина увлеченно мазала бумагу краской, призванной изображать траву.
Аленка искоса поглядывала на ярко-зеленую полосу, грозившую распространиться на весь лист, потом, перестав рисовать, вытянулась на стуле и выждала несколько секунд.
– Ты очень сильно мажешь…
Увлеченная работой, Нина сопела от удовольствия.
– Она стоит в саду на траве.
– Фломастер портится…
– Ты тоже сильно мазала, когда небо рисовала.
– Я могу мазать, это мои фломастеры, а ты не можешь, потому что они не твои.
Алексей с интересом наблюдал за девочками из соседней комнаты сквозь приоткрытую дверь.
Покраснев и напыжившись, Нина сползла со стула и молча пошла в переднюю. Аленка сперва скакала вокруг оскорбленной подруги с воплями: «Не уходи, не уходи, я пошутила…», потом, когда, застегнув все пуговицы на пальто и натянув беретик, Нина непреклонно пошла к дверям, Аленка стала беспомощно задираться:
– Подумаешь! Ну и отправляйся, пожалуйста… Очень нужно, я не буду плакать… Все равно первая придешь мириться…
Но едва хлопнула дверь, зарыдала отчаянными злыми слезами, побежала в столовую, в ярости разорвала все рисунки, расшвыряла по комнате фломастеры.
Поднявшись с тахты, Алексей подошел к ней:
– Ну и что ты теперь плачешь?
Аленка зарыдала в голос.
– Сама обидела подругу, а теперь ревешь…
– Я не обидела, я только сказала ей: «Ниночка, пожалуйста, не нажимай так сильно на фломастеры».
– Я слышал, как ты сказала. Нетактично. По-хамски.
Из кухни пришла Мара. Руки у нее были в тесте, фартук в муке. Стоя в дверях, она молча переводила взгляд с дочери на мужа.
– Ты хоть на минутку поставь себя на место Нины. Как бы ты себя чувствовала? Вот подумай и скажи мне.
– Я тебе ничего говорить не буду!
– Почему?
Вот тогда-то и прозвучали эти слова:
– Если хочешь знать, я с тобой вообще разговаривать не буду. Потому что ты мне вообще никто!
Хорошо она его саданула! Полтора года усилий – и все напрасно, все пошло прахом!
– Ты паршивая девчонка, – закричала Мара, – подругу обидела, Алешу обидела… Я даже не знаю, как мне тебя любить…
– Пусть он забирает свои паршивые фломастеры!
– Давай их сюда. Ты совершенно не заслуживаешь, чтобы тебе делали подарки.
– А ты меня давно уже не любишь! Тетя Ира сказала, кто любит своих детей, тот не приведет им чужого папу. А ты привела! Легкой жизни захотела!
Мара подняла измазанную руку к дрожащим губам. Алексей почувствовал, что пришла минута, когда вмешаться необходимо. Он подхватил невесомое тростниковое тельце Аленки, жмурясь от пронзительного вопля, потащил ее в коридор, оторвал ее от себя в темной ванной, запер дверь на задвижку и вернулся в комнату.
Мара стояла у окна и смотрела на серый двор. Алексей растянулся на тахте и демонстративно взял газету. Букв он не видел. Через две комнаты и переднюю рыдания доносились вполне явственно.
– Мамочка моя родненькая, мамочка моя дорогая, пожалей ты меня, заступись за меня… Мамочка моя родная…
После этой мольбы последовала выжидательная пауза.
«Если это ее проймет и она побежит спасать своего ребенка – тогда вся наша жизнь насмарку. Поработит нас эта девчонка», – думал Алексей с тем большей горечью, что и его самого пронзил этот жалобный вопль, выраженный по всем канонам русских классических сказок.
Но Мара от окна не отходила. Что она там чувствовала, он представлял себе не очень отчетливо. В напряженной тишине он ждал от нее хоть одного слова, но она молчала. Тогда заговорил Алексей бодрым и ровным голосом:
– Пойду погляжу, может быть, хватит.
Открыв дверь темницы, он миролюбиво спросил:
– Ну как, кончила плакать?
Рев внезапно прекратился, и вполне деловитый, хотя прерывающийся голос ответил:
– Нет еще… приходи попозже… только недолго…
Мара прошла на кухню и принялась за свои дела. Она очень аппетитно месила на столе большой ком желтого теста. Алексей погладил ее по плечу.
– Ничего, ничего, Алешенька, все правильно, – сказала она.
В ванной было тихо и темно.
– Ну, теперь кончила?
– Кончила, – с глубоким всхлипом ответила Аленка и взволновавшим его жестом полной доверчивости протянула навстречу руки. На него пахнуло жаром разгоревшегося от слез лица. Он отнес ее на кухню, внезапно растроганный этой незлобивостью до сжатия в горле, и чуть было не наговорил каких-то расчувствованных слов, но Мара трезво ввела их жизнь в нормальное русло:
– Я тебе оставила кусочек теста. Если хочешь, слепи Шурику пирожок.
– С яблоками или с вареньем?
Алексей не успел дочитать газету, как липкие от варенья руки обхватили его за шею.
– Я нечаянно сказала, что твои фломастеры паршивые. Они очень хорошие.
Он не стал выяснять, было ли это скрытое извинение или просто страх потерять фломастеры. Он и Маре не позволил «поговорить по душам» с Аленкой.
– Лучше ничего не фиксировать. Это ведь не ее слова. Она их от кого-то услышала и носила в душе как занозу.
– Придумываешь ты, – сказала Мара. – Какая там заноза. Отлично знаю, кто при ней высказывается. Это Ирина Павловна, Ниночкина мамаша. Она героиня. Она своего ребенка воспитывает без всякой помощи. Носит свое одиночество, как орден. Между прочим, красивая женщина. А моей дуре пора бы уже понимать, что к чему.
Все-таки не стоило смиряться с тем, чтобы кто-то безнаказанно внушал девочке чувство ущербности. Изорвав несколько черновиков, Алексей написал письмо:
«Уважаемая Ирина Павловна! Я вас очень прошу никогда не высказывать мнений и суждений по поводу нашей семейной жизни в присутствии Аленки. Алексей Камнев».
Он отнес это письмо в дом, к которому раза два провожал по вечерам Нину, и бросил его в дверную щель двадцать третьей квартиры. Ответа он не ждал, но Ирина Павловна ему позвонила:
– Я достаточно взрослый человек, чтобы кто-то мне делал замечания. А меньше всего – вы! – И хлопнула трубку, оставив последнее слово за собой.
А почему, собственно, меньше всего он? Чем он хуже других? Алексей был уязвлен и ничего не сказал Маре ни о письме, ни о телефонном разговоре.
Случайно найденные «воспитательные методы» оказались действенными и были приняты на вооружение. Теперь, когда у Аленки случались истерические взрывы, достаточно было спросить: «Может быть, тебе хочется посидеть в ванной комнате?» – и девочка иногда сразу затихала, а иногда с вызовом орала: «Хочется, хочется!» Но едва Алексей сбрасывал ее с рук, раздавался вполне трезвый голос:
– Только поскорее приди и спроси – ты перестала плакать?
Алексею во что бы то ни стало хотелось завоевать душу этой девчушки, этой пигалицы, завоевать ее доверие, чтобы создать настоящую семью. Он верил, что любовь рождает любовь. На помощь пришел незначительный случай. Буфетчица выдала кое-кому в институте «из-под стойки» по коробочке сливочных помадок, ставших почему-то редкостью. Вечером Мара стала звать Аленку ужинать, и Алексей услышал из своей комнаты обычные пререкания:
– Я тебе приготовила бутерброды с сыром.
– Хочу котлеты.
– Ты отлично знаешь, что их сегодня нет. Будешь вареное яйцо?
– Хочу что-нибудь вкусное.
Тут Алексея осенило. Он сунул коробочку под ковер тахты и позвал Аленку.
– Хочешь, я наколдую тебе любую вкусную вещь? – спросил он таинственным шепотом.
– Как наколдуешь? Ты, что ли, волшебник?
– А ты разве не знала?
– Ну, Лешенька, ты обманываешь! – А сама вся затрепетала от восторженного предвкушения.
– Ну давай, что бы тебе сейчас хотелось съесть?








