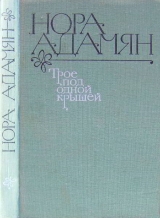
Текст книги "Трое под одной крышей "
Автор книги: Нора Адамян
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 17 страниц)
* * *
Я любила приходить к Прошьянам пораньше, до съезда гостей, когда в передней еще сидят клиенты, Эачи отдыхает «во внутренних покоях» и в столовой горит только настольная лампа.
Но поговорить с тикин Перчануш наедине удавалось не часто. Почти всегда в эти часы за столом перед стаканом остывшего чая сидел высокий худой старик – тот, который увидел в картине Эачи «нирвану». Меня удивляла тихая заботливость по отношению к нему со стороны тикин Перчануш. Хотя он на моей памяти ни разу не прикоснулся к своему стакану, она как-то особенно беспокоилась, чтобы чай был крепкий, чтоб на гостя не дуло из балконной двери, чтобы он сидел в кожаном кресле.
Удивляло и почему-то сердило меня отношение к этому человеку Папака. Выйдя из кабинета, он наскоро присаживался к столу и спрашивал:
– Значит, ты мне советуешь добиваться слушания этого дела в Нахичевани?
Или заговаривал еще о чем-нибудь сугубо юридическом, не подвластном моему пониманию. И выслушивал очень внимательно. Даже почтительно. А гость позволял себе строго отчитывать хозяина за какие-то ошибки.
Мне он не нравился. Он всегда смотрел мимо меня, беседой не удостаивал. Но один раз я в его присутствии по какому-то поводу заклеймила «гнилую интеллигенцию» – эпитет, который в те годы был очень в ходу, – и вызвала его сильный гнев.
– Вы понимаете, о чем говорите? – сказал он, выпрямляясь и угрожающе вырастая в своем кресле. – Вы знаете, что такое интеллигенция? От какого понятия это слово происходит?
Я не знала.
– Вы, кажется, студентка университета? – В этом вопросе было сплошное презрение. – Запомните: это слово означает «думающий», «мыслящий». Интеллигенция – лучшее, что создает народ. Это его цвет и гордость. Только ограниченное невежество может поносить дух народа!
Я была молода, нетерпима и изучала «Манифест».
– Но тем не менее буржуазия превратила интеллигенцию в своих платных наемников…
Старик встал и, опираясь на палку, пошел к двери. Перчануш бросилась за ним. Я ощущала униженность и активную неприязнь к этому сухому, злобному человеку.
Тикин Перчануш вошла встревоженная и грустная. Это меня не удержало.
– Тоже мне патриарх выискался, – срывающимся голосом начала я.
Но она строго подняла вверх указательный палец:
– Ни слова! – И повторила еще строже: – Ни слова никогда! Иначе…
Она не докончила. Меня поразило ее лицо, ее незнакомый голос. Опустившись на тахту, тикин Перчануш стала быстренько завязывать узелки на бахроме своей шелковой шали.
– Это мой муж, – тихо сказала она.
Я была поражена. Я никогда не задумывалась над ее судьбой. Мне казалось вполне естественным, что она живет у братьев, спит на тахте в столовой, где постоянно толкутся люди. Я думала, что так было всегда и будет всегда.
Кончил работу Папак. Затащил меня к себе, чтобы «посоветоваться» насчет своих новых стихов.
В его темноватом кабинете было все, что положено известному адвокату, – резной письменный стол, заваленный бумагами, с тяжелым чернильным прибором, фигурами чугунного литья, бронзовой женщиной, держащей абажур.
Я сидела в непомерно большом кресле. Папак читал стихи. Перед ним стоял вопрос – рифмовать их или нет? Срифмовать для него ничего не стоило. Но пока что стихи выглядели так:
Разметав асфальтовые косы,
Спит над морем распростертый город,
И гуляет свежая моряна
По пустынным коридорам улиц…
Стоило изменить последнюю строчку – «по его пустынным коридорам», – как получилось бы, по моему мнению, гораздо лучше. Но со мной происходило то же, что в мастерской Эачи, – страх оказаться не на уровне современных требований. Кроме того, я неотступно думала о тикин Перчануш. И я молчала.
В столовой собирались гости. Звякали чашки. Даже в кабинет вкрался запах чайной колбасы, которую тогда делали с вкраплением зеленых фисташек. Тикин Перчануш предостерегала кого-то от вторжения в кабинет:
– Там работают поэты…
– Ты мне сегодня не нравишься! – сказал Папак. – Ты не думаешь о том, что я тебе говорю.
– Я думаю о тайнах жизни, – ответила я.
* * *
В жизни Перчануш Прошьян не было тайн. Просто прошло уже много лет с тех пор, как она с одним чемоданом ушла из своего благополучного дома, от любимого мужа.
Своего поступка она никому не объяснила. Поселилась с братьями – Папак был еще студентом, Эачи – школьником. По-прежнему целые дни работала, ездила по районам, организовывала начальные армянские школы, преподавала, обучала грамоте взрослых.
Говорили, что муж просил ее вернуться и был согласен на любые условия. Родные уговаривали хотя бы взять что-нибудь из ее бывшего дома. Тикин Перчануш не шла ни на какие уговоры.
Все объяснилось, когда у женщины, которая вела хозяйство в ее доме, родился ребенок, и бывшая кухарка заняла место жены в хозяйки в квартире одного из лучших адвокатов города.
Я ставила себя на место тикин Перчануш, и мне казалось, что я поступила бы так же независимо и гордо. Мне нравилось, что она ушла из своего лживого дома с одним чемоданом. Вместе с нею я задыхалась от обманутого доверия и поруганной любви.
Но дальше она поступала вразрез с мстительной направленностью моих мыслей.
Она приняла прямое участие в воспитании детей своего мужа. И его новая жена послушно и даже с почтением принимала заботы и наставления своей бывшей хозяйки.
Дети росли, родители старели. А бывший муж каждый вечер на протяжении многих лет приходил в этот дом и часами сидел над стаканом остывшего чая.
Я старалась не попадаться ему на глаза, не оставаться с ним в комнате, И только один раз осторожно спросила;
– А почему он у вас чай не пьет?
Перчануш добродушно засмеялась:
– Что ты! Ему дома готовят чай – как в Китае на чайной церемонии. Специальная смесь, подогретый чайник, сырая вода, я как-то насчитала десять условий, теперь все позабыла…
Называла она его «мой родной». А он, приходя и уходя, целовал ей руку.
* * *
Кроме своего, университетского, я посещала все литературные кружки города. И самый «передовой» – университетский «Бакинский рабочий», и самый разноликий – литгруппу при редакции газеты, и самый престижный – заседания русской группы Азербайджанской ассоциации пролетарских писателей – АЗАПП.
Русской группой руководил поэт Михаил Юрин, приехавший в Баку из Москвы. Его поддерживали два столпа – прозаик Михаил Камский и добродушный немолодой поэт Тарасов.
Вероятно, эти трое были правлением, официальным руководящим ядром группы. Я не вдавалась в организационные подробности и беззаботно снимала поэтические пенки и с идеологически выдержанных творений пролетарских поэтов и с сомнительных формалистических изысков лидеров университетского кружка.
Русская группа АЗАППа собиралась в выходные дни. И легкий на подъем Папак Перчиевич отправился со мной на одну из очередных пятниц. Точно не помню – хотелось ли мне прихвастнуть перед руководством поэтом Прошьяном или, наоборот, придать себе вес в его глазах знакомством с литературными правителями города, – вероятно, и то и другое. Я была очень довольна, когда привела Папака к прекрасному бакинскому дворцу «Исмаилие», где – уж не помню, на каком этаже, – была отведена комната для литературных заседаний.
Но с первой же минуты у меня не оказалось никакой роли. Мне не пришлось ни знакомить, ни представлять кого-то кому-то. Палак Прошьян естественно и просто шагнул к столику, где восседали наши руководители, подтянул к себе стоящий в отдалении стул и назвал себя с небрежной простотой, которая должна была откинуть прочь все сомнения в его праве принадлежать к ареопагу верховных.
И, к моему удивлению, они потеснились и приняли его в свой круг.
Заседание шло обычным порядком. Какие-то малограмотные юноши, которых выискивал ездивший по районам республики Михаил Юрин, робея и запинаясь читали свои стихи, а наш мэтр, потрясая своими откинутыми от высокого лба волосами, разбирал каждую их строчку.
– Вот автор пишет: «Мы ходили по полям с гармошкой». Что говорит нам эта строка? Она говорит, что у человека еще нет поэтических навыков. Иначе он написал бы так… – И он запел, протяжно и монотонно, как всегда читал стихи:
Ходили мы с гармошкой по полям…
Молодой поэт схватывал карандаш, но Юрин останавливал его движением руки:
– Я сейчас говорю не об отдельной строке, а об общем поэтическом восприятии.
Поэт сникал, но, обласканный выраженной тут же надеждой насчет его одаренности, оснащенный советами осваивать классику и учиться у Маяковского, снова восставал духом и уже с некоторым торжеством слушал разбор творений своего товарища.
Потом читали стихи завсегдатаи кружка. Суровый юноша потребовал, чтобы обратили внимание на его особые, редкие рифмы, из которых я запомнила одну: «трюм – угрюм». Он на нее особенно напирал, прокатывая голосом букву «р», как оперный баритон.
Рифмы Юрин похвалил, но общее настроение вызвало у него неудовлетворенность.
В этот день он, побуждаемый взглядом «извне», старался быть особенно красноречивым и остроумным. Папак, верный себе, отмечал удачные образы, обороты, рифмы благожелательным кивком, коротким восклицанием: «Браво!»
Так им был одобрен поэт с редкими рифмами, который уселся на свое место с отрешенно-невидящим взглядом, «хвалу и клевету» приемля – якобы! – равнодушно.
Обычно в завершение вечера читал стихи Михаил Юрин. Критике его стихи не подлежали.
Эрудированные и рафинированные университетские таланты, ученики знаменитого Вячеслава Иванова, который недавно покинул наш университет, относились к творчеству Юрина настороженно, молчаливо. Изредка какой-нибудь не в меру осмелевший юнец поднимался, чтобы выразить недоумение, почему его за подобные же образы и рифмы… и так далее… На что внушительный Камский давал суровый отпор в том смысле, что «Юпитеру позволено».
Но сегодня Юрин предоставил трибуну последнего стихотворения «нашему гостю». Вот где замерло мое тщеславное сердце! Я боялась, что Папак выступит со своей любовной лирикой, в которой он ощущал особую силу. Но он прочел неизвестное мне стихотворение, из которого я запомнила только последнюю строфу:
Кому сейчас отдам свои стихи я,
В раздоры века брошенный поэт?
Мир созидает разума стихия.
Покоя нет. Но счастья тоже нет.
«Все плохо», – поняла я. Сомнение, упадочничество. Самые неподходящие стихи. И почему «счастья нет»?
Как это нет, когда именно есть! Недавно в этой же комнате один молодой поэт утверждал, что оно, счастье,
Брызжет из каждой щели,
Радует каждым днем,
С нами шагает к цели
Гордым, большим путем!
И этого поэта объявили талантливым и перспективным именно за вот эти простые и, как сказал Камский, «чеканные строки».
Что же теперь будет? Лица наших руководителей были серьезны, но никто не брал слова для выступления. Молчание затянулось. Юрин покачал головой и сказал негромко с легкой усмешкой:
– Вторичные стишки-то. Еще Пушкин сказал, что счастья нет, но есть покой и воля…
Папак ничуть не смутился. С доброжелательной улыбкой он легко ответил:
– Все мы после Пушкина и Блока вторичны. Даже гениальный Есенин повторял своих предшественников. Помните, его строчки:
Я читаю стихи проституткам
И с бандитами жарю спирт…
А до этого было:
Я читаю стихи драконам,
Водопадам и облакам…
– У кого это было? У Блока, что ли? – спросил мрачный Камский.
Папак засмеялся, и это вызвало гневное раздражение Камского.
– Надо учиться приравнивать перо к штыку, а не бандитов в стихах прославлять!
– Что же делать, – сказал Папак, – не все могут наступать на горло собственной песне. Для меня, например, это равносильно убийству. И пока человечеству будет светить солнце, пока женщины будут зачинать детей и юность приходить на смену старости – поэты будут писать о природе, о любви, о смерти.
– О социальной борьбе они будут писать! – закричал Камский. – Земля сотрясается от классовых боев, народы стонут от голода и угнетения в цепях капитала. Пролетариат идет на свой решительный штурм. Кому сегодня нужно ваше щебетание?
– Мне! – ответил Папак. – Ей, – он кивнул на меня. – И им, – он обвел рукой насторожившуюся аудиторию.
– А мы сейчас это выясним, – с угрозой сказал Камский, – мы это сейчас проверим…
– Голосованием? – грустно спросил Папак.
Юрин положил руку на плечо Камского.
– Остынь, Миша, – сказал он весело. – Время покажет, о чем будут писать поэты. Вот соберемся лет через тридцать…
И без предупреждения, встав у стола, он напел стихи, откидывая над куполом лба легкие, прямые, как нитки, волосы:
Но я пока и молод и здоров
И весь во власти моего призванья.
Есть у меня в запасе много слов,
Чтоб не просить у жизни подаянья…
Он читал, глядя на Папака, проверяя его реакцию и готовый в любой миг принять бой.
Но увидел он искреннее сопереживание и высокое одобрение. Папак одарил его аплодисментами, которые подхватили все присутствующие. Это не было принято на наших собраниях и потому прозвучало особенно празднично.
* * *
Дула легкая моряна. Вечер не потемнел, и городские фонари блестели, еще не давая света. Тревожащий меня день кончился вполне благополучно, и чего бы еще желать? Но Папак замедлил шаги перед деревянными воротами на одной из центральных улиц.
– Думаю, ты достаточно взрослая, чтобы посидеть со мной в этом ресторанчике?
Он толкнул дверцу, и тотчас – будто только нас ждали – ударила заунывная музыка восточного оркестра, обдало роскошным чадом бараньего жира, стекающего на раскаленные угли, ароматом зелени и острым запахом вина.
Ресторан помещался во дворике, по углам которого в больших кадках обильно цвели розовые олеандры. Столики стояли на утоптанной земле. У одной стены, на небольшом возвышении, сидели музыканты в бешметах с серебряными поясами.
Это был мой первый вечерний ресторан, первый официант, толстый и полный достоинства, протянувший мне меню, с которым я не знала, что делать.
– Какой сегодня кябаб? – осведомился Папак. И заказал: – Два кябаба, два шашлыка.
– «Шамхор»? – почтительно утвердил официант сорт вина.
Быстро и красиво над нами взлетела чистая скатерть. На ней расположились тарелки с зеленью и розовой редиской, хрустящий чурек, источающий слезу зеленоватый сыр.
А музыканты, закончив свои любовные причитания, которые выпевал горловым голосом юноша, бивший одновременно в бубен, вдруг заиграли на своих древних инструментах залихватские «Кирпичики». И это было так странно, как если бы араб пустыни взялся плясать гопака.
Я все это принимала с восторгом, но Папак был необычно молчалив и задумчив.
– Так протекают дни, – он бессознательно отбивал ногой такт диких «Кирпичиков», – люди всерьез занимаются поэзией, а я защищаю в суде интересы своих клиентов. А нужно ли мне это? В искусстве то, что не сделано сегодня, не будет сделано уже никогда.
– Бросьте вы своих клиентов, – щедро посоветовала я.
Он усмехнулся:
– Я уже взвалил на плечи ношу, которую мне не скинуть. Дом, ответственность за близких, мастерская Эачи… Он, при своей талантливости, пока еще не вполне признан…
– Но у него ученики.
– Бог мой! Голодные мальчики. Эачи их всех кормит. Но нельзя зарывать в землю талант. Это не прощается.
«Кирпичики» наконец кончились. Нам принесли шашлык и кябаб. Мне налили темное вино. Все было удивительно вкусно, но, чтобы не показаться неискушенной, я щедро похвалила только редиску, которая действительно имела тот особый вкус, которого почему-то не бывает у редиски дома.
Папак оживился:
– Какое совпадение! Вот и Бэлочка говорит то же самое.
– Ах, Бэлочка, – сказала я, осмелев от выпитого «шамхора», – ваша поклонница…
Он улыбался, довольный.
– Та, что «закутанная мехом», – не унималась я.
Папак погрозил мне пальцем.
– Нет, то другая, – его настроение явно улучшилось, – то совсем другая. Но, понимаешь ли, все это тоже отнимает у меня время…
– Ну, знаете, – нравоучительно сказала я, утверждаясь в своем праве давать советы, – бросайте вы всю эту бузу с клиентами и поклонницами. Лучше откройте новое направление в поэзии!
Я несколько кривила душой, приписывая Папаку такие возможности, но мне хотелось его подбодрить.
– Поздно, – ответил он, – поэзия дело молодое. Я подошел к возрастному рубежу не с пустыми руками, но и не осуществив того, что мог. Поэзия должна быть главным делом всей жизни. У меня это не получилось.
Будь же ты вовек благословенно,
Что пришло процвесть и умереть…
Мне было хорошо и чуть-чуть грустно…
И еще запомнился мне этот вечер взрывной скрежещущей музыкой, в которой временами прорывалась хабанера из оперы «Кармен». Этим незабвенным впечатлением одарили нас на прощанье тар, саз и яростный бубен.
* * *
Эачи Прошьян передвигался шаркающей, развинченной походкой. Я часто встречала его на нашей улице и узнавала издалека. Иногда мы обменивались только кратким приветствием, но в тот день он подошел ко мне и сказал со своей вялой усмешкой:
– Мусенька, у меня сегодня день рождения, я тебя приглашаю, – и церемонно, склонив набок голову, прошествовал дальше.
В те годы люди не дарили друг другу ценные, дорогие подарки. Приглашая, обычно старались не упоминать о торжественных датах и поводах, чтобы дать возможность гостю воскликнуть:
– Как же так можно! Ничего не сказали! Я же не знал!
Но я была приглашена недвусмысленно. Не очень задумываясь, я истратила трешку, предназначенную на уплату за телефон, и приобрела небольшую коробку шоколадных трюфелей, которые тогда были новинкой и, как мы теперь знаем, прочно удержались в нашей действительности.
На празднование дня рождения Эачи я пришла пораньше, движимая благородным стремлением помочь по хозяйству. Я всегда любила предпраздничную суету на кухне, умела красиво оформить блюдо с винегретом и вынуть из селедки все косточки.
Но, видимо, все было приготовлено заранее. Перчануш лежала на тахте с газетой. Виновник торжества ходил по столовой небритый, в халате и, получив от меня коробку, с каким-то веселым любопытством открыл коробку, поднес ее сестре, мне, и мы съели по трюфелю, которые в тот период своего существования были несравненно полновеснее и вкуснее, чем сейчас.
– Восхитительно! – одобрила тикин Перчануш. – Сейчас Папак кончит прием, и будем пить чай.
Эачи удалился к себе, а я не успела выложить и половину своих новостей, как явились первые гости – веселая художница со своим строгим мужем – администратором театра, известный врач с молодой супругой, артистка Азербайджанского театра драмы Ситара Ханум.
– Простите, дорогая моя, – сказала она с очаровательным мягким акцентом, – муж сегодня играет, он после спектакля придет.
Я уже говорила, что гости в этом доме бывали каждый вечер и радостное – «О! Кто к нам пришел!» – встречало каждого переступившего порог. С приходом нового посетителя Папак выскакивал из своего кабинета с раскинутыми точно для объятий руками – радушный и благожелательный.
– Сейчас, сейчас, – обещал он, – я уже заканчиваю!
Тикин Перчануш благодушествовала в обществе педагога – организатора и директора школы глухонемых. Она слушала его рассказ о том, как учатся объясняться его питомцы, восхищалась и требовала восторгов от всех присутствующих.
Гости прибывали. В столовой они уже разделились на группки. Одного центра притяжения стало недостаточно. Вторым сделался Папак Перчиевич. Сгруппировав вокруг себя молодых женщин, он негромко рассказывал что-то предназначенное только их кругу. Его глаза блестели лукавством. Это ему шло.
Я ощущала тревогу. Во-первых, не появлялся сам «новорожденный». Вообще-то он приходил и исчезал из общей комнаты по своему желанию и удостаивал гостей вниманием не всегда. Но сегодня его отсутствие было неприлично. Во-вторых, гости все прибывали и прибывали, а на столе сиротливо лежала моя коробочка трюфелей и, как я понимала, ничего больше не предвиделось. Тикин Перчануш раза два вспоминала:
– Где же Шурочка? Она нам сейчас даст чаю, – но затем ее отвлекал очередной гость, интересный поворот беседы, и она забывала о своих хозяйственных порывах.
Для разведки я выбралась на кухню, где Шурочка, горько рыдая, накачивала примус.
– И где я столько посуды возьму, – причитала она, – и примус гореть не хочет… И все идут, и все идут… И чайника такого у нас нет… И сахару на донышке осталось…
Раздался еще один звонок и еще одно радостное приветствие. Но появление одной из ведущих артисток русского драматического театра, воспринятое тикин Перчануш как абсолютно естественное, наконец-то смутило ее более трезвого брата. Тем более что артистка принесла три розовых бутона на длинных, как пики, стеблях.
Я возвращалась из кухни, когда, сияя улыбкой: «Секунду! Одну секунду!», Папак ускользал из столовой, увлекая за собой кого-то из гостей. С той же улыбкой, сумев облечь свой вопрос в наиболее деликатную форму, он спросил:
– Пришли ли вы сегодня к нам только по велению сердца?
– Как всегда, – ответил галантный гость. – Но и по приглашению.
– Я так и думал. – Папак все еще улыбался. – Мой брат?
Гость наклонил голову.
– Благодарю вас, – сказал Папак, – все в порядке.
Он открыл гостю дверь в столовую, а сам торопливо прошел в комнату брата. Я – за ним. Мне было любопытно, как поведет себя рассерженный Папак.
Эачи спал на своей широкой тахте. Папак тронул его за плечо.
– Вставай, побрейся, выйди к гостям.
Эачи открыл глаза, но продолжал неподвижно лежать, еще теснее вдавливая голову в подушку.
– Я поеду в «Гранд-отель», организую ужин. А ты иди занимай приглашенных тобой гостей!
– Пусть Муся уйдет, – хрипло сказал Эачи, – я буду одеваться.
Он появился в столовой помятый, встрепанный, улыбающийся своей виноватой улыбкой и был встречен радостными восклицаниями, поздравлениями и приветствиями.
Тикин Перчануш, которая вначале принимала все эти изъявления чувств как должную дань своему талантливому брату, вдруг уяснила себе происходящее и, обведя гостей лучистыми глазами, удивленно проговорила:
– Эачи, дорогой, но ведь сегодня совсем не твой день рождения!
Он взял со стола стебли роз, увенчанные острыми бутонами, и, держа их вертикально, как жезл, сказал медленно, церемонно поворачивая голову во все стороны:
– Я сегодня утром вышел из дома, увидел солнце и синее море… Дул такой прелестный ветер… Мне захотелось сделать себе что-нибудь приятное… Себе и всем людям тоже… Вот я вас всех позвал на свой день рождения… Было такое прекрасное утро, что мне захотелось родиться в это утро…
Гости решили, что все это было запланировано.
– Ах, какая прелесть! – сказала актриса русского театра.
Все захлопали в ладоши.
Тем временем в комнате возникли два совершенно незаметных человека в черных костюмах. Никому не мешая, ловко передвигаясь между гостями, они неслышно раздвинули массивный стол, накрыли его белой скатертью и с волшебной быстротой расставили приборы, бокалы, бутылки и тарелки с закусками.
Появился Папак – оживленный, довольный, включился в общее течение вечера, дал пройти времени и воззвал к сестре:
– Перчануш, проси гостей к столу!
– Будем пировать! – радостно предложила тикин Перчануш, нисколько не удивленная возникшей скатертью-самобранкой. С тем же призывом она обращалась к гостям в иные дни, предлагая порой только сухари да стакан чая.
В этом доме гостей не приходилось особенно уговаривать. Я не знаю почему, но вся еда уничтожалась словно в каком-то спортивном соревновании. Через десять минут на столе не осталось даже ломтика колбасы. Официанты подали два блюда с цыплятами табака, которые тут же разлетелись по тарелкам, и тот, кому не хватило, стал жаловаться, как маленький, пока с ним не поделились. И хотя есть было уже нечего, тикин Перчануш приветливо предлагала: «Угощайтесь, угощайтесь!» – и гости пили натуральное кизлярское вино, закусывая вкуснейшим чуреком.
Постоянный тамада доктор Белубеков произнес тост в честь Эачи, который, «являясь образцом красоты человеческого духа, настолько высок, что для нас, простых смертных, как бы витает в облаках…».
На что Папак, наклонившись ко мне, сказал, будто продолжая или даже завершая ранее начатый разговор:
– Вот так, Мусенька, когда один в облаках, другому надо крепко стоять на земле…
Потом выпускница консерватории играла на рояле медленный танец «Наз-пар» композитора Маиляна, музыка которого обладала свойством обострять и радость и горе – ее играли и на свадьбах и на похоронах…
Артист армянского театра исполнил традиционный монолог Пэпо, исступленно обличая социальную несправедливость старого мира. Артистка русского театра прочла «Песню о Буревестнике». И все они были признаны и оценены.
Я сидела, разрываемая между желанием заслужить свою долю восторгов и опасениями насчет того, что не получу их сполна. Но тикин Перчануш властно сказала:
– А теперь послушаем Мусю.
Папак захлопал в ладоши, призывая к тишине.
Охваченная жаром и счастьем общения с аудиторией, я читала свои лучшие стихи:
Зарыдала зурна недаром
Звоном звуков золотых,
Загрустила чинная чинара,
Тополь трепетный затих…
– Великолепно! – прошептала тикин Перчануш. – Какая музыка!
Но я-то помнила, что, выслушав эти стихи на заседании университетского кружка, наш верховный критик Ака Корнев сделал брезгливую гримасу:
– Ну, знаете… аллитераций вы там напустили – слушать невозможно!
– Талант! – провозгласил Папак Перчиевич, заглушая аплодисменты.
– Какая прелесть! – сказала артистка русского театра.
– Иди ко мне, я тебя поцелую, – требовала тикин Перчануш. Она шепнула мне: – Ты наша надежда…
Как приятно быть надеждой! Как это окрыляет! На другое утро, едва проснувшись, я сразу принялась писать стихи.
* * *
У нас в квартире начался ремонт. На беленые обшарпанные стены клеили красивые обои. До половины гладкие, а выше бордюр из крупных цветов того же оттенка. Циклевали полы. Все бы это ничего, но когда начали красить двери и окна, то жаркие августовские ночи, пропитанные духом олифы и краски, начисто лишали сна. Ночевать дома было невозможно. Старшие пристроились у дедушки, а меня приютили Прошьяны.
И не то чтобы приютили, а просто потребовали:
– Муся ночует у нас, только у нас!
И тикин Перчануш деятельно принялась устраивать меня в маленькой комнатке-чуланчике.
Она отвергла мое предложение принести свою постель.
– Что ты! В каждой армянской семье должны быть тюфяки и одеяла для гостей. Я сейчас выясню, где они у нас.
Теплота и радушие искупали и окаменелую бугристость тюфяка, и плоскую слежавшуюся подушку. Но в те времена я не замечала особого преувеличения в стихах Некрасова:
Дай хоть камень в изголовье,
Ляг он – и заснет…
К тому же я была окружена нежной заботой. На стул у тахты положили большую гроздь моего любимого розового дербентского винограда с крупными, мясистыми и не очень сладкими ягодами.
Папак несколько раз влетал в каморку, озабоченно справлялся, удобно ли мне будет спать, и наконец принес мне для чтения на ночь роман Оливии Уэдсли «Пламя».
В первом часу ночи в столовой еще сидели гости. Тикин Перчануш посередине фразы вдруг замолкала и толчком роняла голову. Наступившая тишина мгновенно будила ее, и она как ни в чем не бывало продолжала разговор. Но я не могла погружаться в секундный сон и откровенно зевала, пока Папак не сказал:
– Ты уже хочешь спать, иди к себе.
Тикин Перчануш, во избежание кривотолков, объяснила:
– Муся у нас ночует, она пройдет к себе, а мы еще посидим.
Не свой дом, чужие шорохи, чужие запахи да еще такой роман! Я заснула не сразу, но крепко – камешком, брошенным в воду.
В глубоком сне я услышала, как меня зовут по имени, но проснуться не могла. Потом меня не то чтобы потрясли, а ткнули в плечо, и я очнулась. Была самая глубокая, предутренняя ночь.
В темной крохотной комнате надо мной возвышалась большая бесформенная фигура.
Я знала, что я не беззащитна. За стеной кабинет Папака, в двух шагах в столовой спит Перчануш. Вероятно, поэтому охвативший меня ужас был сродни тому трепетному восторгу, с каким в детстве слушаешь страшные сказки. Я натянула на себя одеяло, готовая пружинкой соскочить с тахты.
– Мусенька, – негромко позвал Эачи, – ты любишь яичницу с помидорами? Я ее приготовил, а есть одному скучно…








