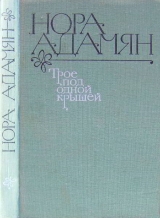
Текст книги "Трое под одной крышей "
Автор книги: Нора Адамян
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 17 страниц)
Вина непрощенная
Иван Ногайцев умирал. Его жена Ольга говорила в клубе:
– Ой, надо нам, девчата, торопиться. Доктор Ване не дает больше десяти дней. Значит, если пятнадцатого спектакль сыграем, восемнадцатого Ваня умрет, а уж двадцатого я уеду.
Никого это не удивляло, потому что все привыкли и к Ольгиным разговорам и к болезни бывшего директора леспромхоза Ногайцева. Еще полгода назад врачи сказали, что жить ему осталось не больше недели.
Ольга тогда уже распродала всю хозяйственную утварь.
– На что мне все это? Уеду в родной Ростов.
Женщины осуждали Ольгу, но украдкой бегали к ней покупать посуду и барахло.
Доторговалась Ольга до того, что не в чем было вскипятить Ивану Семеновичу молоко.
Соседка Ногайцевых Варвара Федотовна укоряла мужа:
– Друзья, товарищи, а как дело дошло – и нет вас. Собрались бы проведать Ивана Семеновича. Уморит ведь его Ольга.
– А я что сделаю? – хмуро отвечал Федотов. – Там не очень сунешься помогать.
Но он сговорил Рябова, Свободина, Первова. Это все были старые работники леспромхоза. Они давно знали Ногайцева, работали и с ним рядом и под его началом. Для них он был и Иваном Семеновичем и Ванькой, смотря по обстоятельствам.
Все они побрились, надели новые костюмы и долго топтались, вытирая ноги перед крыльцом маленького домика Ногайцева. Такие особнячки строили для рабочих в годы первых пятилеток. В поселке вытянулась длинная улица этих домиков с палисадниками, в которых росли высокие, ядовито-розовые мальвы и лиловые граммофончики. Зеленели грядки с укропом и редиской. В редком дворе не было пристройки для поросенка или отгороженного закутка, где бродили куры с цыплятами.
В палисаднике у Ногайцева не росло ни травинки. Серая земля была крепко прибита. «И при Анне Захаровне так было, – подумал Федотов, – нехозяйственные все бабы ему попадались».
В передней их встретила Ольга. Видно, собралась уходить из дому. Губы крашеные, на волосах капроновый шарфик.
– Ой, Ваня! – крикнула она в комнату. – Смотри-ка, гости к тебе!
Федотов вошел первый. Он увидел, как метнулся на кровати Иван Ногайцев, резко поднялся, сел, опираясь руками на матрац. Глаза его, прежние, острые глаза, вскинулись навстречу Федотову, устремились поочередно к Рябову, к Свободину, к Первову. И когда все они уже вошли, неловко толпясь у порога, Иван Семенович еще смотрел на дверь, а потом, поняв, что ждать больше некого, подломился в руках и сполз на подушки.
– Вань, Вань, тебе доктор не велел подниматься, – заверещала Ольга, втаскивая новые, свежеобструганные табуретки – черт знает, где она их взяла, комната была совершенно пустая, только кровать да тумбочка у изголовья.
Иван Семенович обессилел от своего минутного порыва. Он лежал с черными провалами у глаз и у носа, плоский под зеленым плюшевым одеялом.
– Вы садитесь, садитесь, – суетилась Ольга, подтягивая табуретки к кровати.
Гости по очереди подошли, осторожно подержали большую, вялую руку больного.
– Птица, ты нам сообрази, – хрипло распорядился хозяин, но Федотов предостерегающе поднял руку и отрицательно мотнул Ольге головой.
– Они не хотят, – сказала Ольга, – они с тобой так посидят, а я в клуб сбегаю.
– Иди уж, иди…
Мужчины проводили ее глазами и молчали, пока не хлопнула входная дверь.
Федотов сказал:
– А не лучше тебе обратно в больницу, Иван Семенович? Там все-таки медицина.
– Належался я в больнице, – медленно, с расстановками ответил Ногайцев, – от одного запаха помрешь. Мне только уколы помогают, а уколы Ольга умеет.
Гости молчали. Иван Семенович уловил в этом молчании неодобрение.
– А на кой мне надо, чтоб надо мной раньше времени слезы лили? Она молодая, пусть живет как хочет. Наплачется еще.
«Как же, заплачет она по тебе, жди», – подумал Федотов, но согласно закивал головой.
Дальше повелся обычный разговор. Поругали нового директора леспромхоза, человека чужого, присланного. Ругать его было не за что, но и хвалить при Иване Семеновиче казалось неудобным. Один простодушный Рябов высказался, что в отношении лесопосадок Мокеев вроде подвинул дело, но на него дружно накинулись:
– А работа? Так ли работали в прошлые годы…
Говорили напряженно, неискренне. Каждый боялся сказать лишнее слово. Свободин начал было:
– А вот в будущем году… – и замолчал. Мог ли Ивана Семеновича интересовать будущий год?
Но он сам сказал:
– Эх, лет через пяток да при мне бы… Большие я дела замысливал.
Пугаясь своих слов, Федотов утешил его:
– Встанешь еще.
– Хорошо бы. Я в двадцатом году так же в тифу лежал. Думал – ну, все. А там день за днем – и пошел. Сегодня вроде полегче, завтра, глядишь, еще полегчало…
– Это бывает, – сказал Свободин.
Рябов убежденно доказывал:
– Сюда бы мою бабку, покойницу, она бы тебя враз на ноги подняла. Такая бабка была, всякую болезнь рукой снимала.
Помолчали. Все знали, что Ногайцев по целым дням лежит один, но уйти, не дождавшись Ольги, было невозможно. Она пришла, когда уже совсем стемнело, притащила конфет, печенья, зашумела, завертелась, заставила гостей выпить по стакану чая.
Потом, переминаясь с ноги на ногу, каждый на прощанье говорил:
– Ну, поправляйся.
– Будет тебе лежать.
– Подымайся.
Иван Семенович устало закрывал глаза в ответ и едва улыбался темными губами. Но когда посетители, осторожно ставя ноги, выходили из комнаты, он забеспокоился, заметался, сбивая подушки, и прохрипел:
– Федотов, Гриш…
Федотов вернулся.
Комкая руками одеяло, обдавая наклонившегося к нему Федотова тяжелым дыханием, Иван Семенович с трудом говорил:
– Друг, прошу, Уварову Николаю Павловичу скажи – пусть придет на час. Я прошу. Мол, дело есть. Непременно. Сходи. А?
Федотов попробовал успокоить его:
– Ну что ты, Иван Семенович, какой труд! Конечно, схожу, не сомневайся.
Но больной все метался и, уже не глядя на Федотова, повторял:
– Главное, скажи, что дело есть. Ждать буду. Непременно…
Ольга набирала в шприц лекарство, ласково приговаривая:
– Ванечка, ты только не волнуйся, тебе доктор не велел волноваться…
Дома Федотова допрашивала жена:
– Ну как там у него? Подушки-то хоть есть? Белье на нем чистое?
Федотов отвечал угрюмо:
– Есть подушки.
Варвара сердилась:
– Слова от тебя не добьешься. Расскажи толком – что вы там делали?
– Что, что… Ну, говорили, чай пили.
– Эх, у тебя спрашивать! Ты даже того не увидел, что из своего стакана чай этот пил. Ольга-то сюда прибегала. И стаканы ей дай, и заварку займи. Как хочешь, а я Аннушке писать буду.
– Пиши, пиши. Он тебе спасибо скажет.
– Может, и скажет. Не чужая она ему. Двадцать лет жили. А делить ей с Ольгой нечего. Теперь ему жена – земля.
Федотов отмахнулся.
На другой день он пошел в механическо-ремонтные мастерские. Ему повезло. Уваров сидел в своем закутке. Вокруг было полно людей, но легче переждать, чем бегать за главным механиком по всей территории.
Николай Павлович приветственно приложил руку к седеющей голове и спросил:
– Ко мне?
– Ты кончай, кончай.
Федотову неловко было передать просьбу Ногайцева на людях. И когда механик всех отпустил, он тоже не сразу изложил все дело.
– Вот, понимаешь, пошли мы проведать Иван Семеныча…
Уваров слушал, положив кулаки на стол. Григорий не мог передать тоскливое волнение Ногайцева. У него не было в запасе таких слов. Он только повторял:
– Непременно велел прийти. Наказывал не медлить. Совсем плох.
Уваров сдвинул брови, стал искать что-то на столе, посмотрел на часы.
– Значит, передам, что зайдешь, так?
Николай Павлович встал.
– Зря не обещай.
Федотов изумился:
– Ты что?
– Я к Ногайцеву не пойду.
– Это как же не пойдешь? Помирает он, Николай Павлович. Перед кончиной тебя желает видеть.
– А я не желаю. Все.
Уваров сосредоточенно и угрюмо смотрел в сторону.
– Николай Павлович, ты, может, не понял…
– Разговору об этом больше не будет, – сухо отрезал Уваров.
Анна Ногайцева никому не сообщила о своем приезде. С маленьким чемоданом в руках она шла по улице поселка к своему дому. Варвара как посмотрела в окно, так и ахнула. В чем была выскочила на улицу, обхватила Анну руками, заплакала. Так они стояли обе, покачиваясь, превозмогая волнение. Анна Захаровна первая отстранилась и спросила, глядя в сторону:
– Живой?
– Живой еще. Не сегодня завтра. Врачи надежды не дают. Ты-то как, Аннушка? И не изменилась совсем.
– Она там?
Варвара вытерла слезы.
– Не больно она там сидит. Бегает, поди, где-нибудь. То в клуб, то еще куда. С утра поставит ему стакан молока: «Я, Ванечка, в сберкассу пойду, ты уж без меня не помри». И закрутила хвост. Все подчистую продала, размотала.
– Ладно, – оборвала Анна, – пойду я.
Она подошла к крыльцу, открыла калитку. Все было как восемь лет назад. Разболтанная щеколда, сучок в деревянной перекладине. Отсюда вынесли гробик с ее покойным сыном. Здесь она прощалась с мужем, уходившим на войну, здесь встретила его после победы. А в последний раз, уезжая в гости к сестре, у этой калитки давала Ивану наставления, как жить месяц без нее. И не знала, что вдогонку ей полетит письмо:
«Сознаю, что я перед тобой подлец. Прости, не вини, если можешь… Я тебя глубоко уважаю и ценю как человека и товарища, но любовь между нами кончилась и никогда не вернется».
Она думала доживать с ним жизнь тихо, строго, по-стариковски. А ему в сорок пять лет еще нужна была любовь.
У двери Анна помедлила. Вдруг ослабели ноги. Она постучала, никто не отозвался. Тогда ей показалось обидным стоять у порога и стучать в двери своего дома. Она рванула створку.
Громко и гулко отозвались ее шаги в пустой кухне. Анна поставила чемодан на холодную печку, сняла пальто, размотала платок с головы, провела ладонями по седоватым, затянутым в тугой пучок волосам.
До сих пор, в поезде, в машине, Анна крепилась и старалась не думать о том, как она встретится с Иваном. Долгие годы она не позволяла себе думать о муже. Только иногда, в бессонные ночи, на ум приходили горькие и тяжелые слова, которые ей хотелось бы сказать ему. Но никогда ничего не писала она Ивану. Первое время он посылал деньги. Анна брала. Ей надо было освоиться в новой жизни. Потом устроилась на работу, отослала очередной перевод обратно. Она и думала о нем как о двух людях. Первый – Ванюша, верный друг ее молодости. Он всегда был немного у нее в подчинении, всегда тянулся за ней, всегда она была у него на первом месте.
А потом незаметно, понемногу он переменился. Похоронили мальчика. Появились у обоих седые волосы. Анна горевала тяжко и долго. А ему все некогда. У него лесхоз на руках. Он в командировку в краевой центр, он в Москву на совещание. У него жизнь заново открылась…
Анна постояла, решительно вышла в коридор и отворила дверь в комнату.
Ногайцев лежал на спине, согнув ноги. Из-за поднятых колен не было видно его лица.
– Птица, ты что, вернулась? – спросил он, и Анна испугалась его натужно-хриплого голоса.
Неслышно ступая, она быстро подошла к кровати, жадно глядя на мужа. От его измученного лица, от глаз, видящих и невидящих, все перевернулось в ее сердце. Ушли и обида и гнев. Единственный родной, дорогой человек лежал перед ней. Анна опустилась на край кровати.
Иван Семенович уже плохо видел. Его глаза точно возвращались издалека. Он пристально рассматривал жену.
– Смотри-ка, Анюта, – тихо сказал он.
Не отвечая, она кивнула головой.
– Анюта, – еще раз назвал он ее именем далеких молодых лет. Потом спросил: – Прощаться приехала? Хоронить меня?
– Будет тебе, по делам приехала. За справками. Пенсию хлопочу.
– Похоже и на правду, – Иван закрыл глаза, – только врать ты и тогда не умела.
Она отпустила его руку. Иван Семенович точно проснулся.
– Ты не уходи. Скоро Ольга придет. Это ничего. От нее вреда нет. Люди плетут, будто она за мной не смотрит. Брехня это. Она уколы умеет делать.
На крыльце застучало, затарахтело. Вбежала Ольга.
– Ой, вы уже здесь! А мне сказали, что вы приехали, я на автостанцию кинулась – да оттуда бегом, бегом.
Анна привстала. Она не смотрела на Ольгу. Отчужденно сказала:
– Я еще дорогу домой не забыла.
Ольга ответила с обезоруживающей простотой:
– Я боялась, что вы у кого другого остановитесь. А зачем же? Места много.
– Птица, – позвал Иван Семенович, – человек с дороги.
– А ты молчи, молчи, Ванечка. Лежи себе. Мы сейчас все сами.
Только когда они сидели в кухне за чаем, Анна Захаровна разглядела Ольгу. Совсем еще молодая. Легкие, светлые кудерьки, глаза голубые, навыкате, нос круглый, стан прямой, точно сбитый.
Вот она, Ванина любовь.
Женщины в поселке лесхоза судачили о том, что живут у Ногайцева две жены, спят на одной кровати, одним одеялом укрываются. Где это видано?
Допытывались у Ольги:
– Ну, как вы там ладите?
Ольга охотно отвечала:
– Ой, Анна Захаровна такая культурная женщина! Ванечка очень доволен, что она приехала. Ему даже легче стало.
Бабы посмеивались:
– Тебе тоже, поди, полегче?
– Конечно! – соглашалась Ольга.
А по существу для нее ничего не изменилось. На другое утро после приезда Анны Захаровны Ольга предложила:
– Я сбегаю в магазин, возьму мяса, а вы сготовьте.
Анна спросила:
– Иван что ест?
– Ванечке ничего, кроме молока, нельзя. Кашку жидкую и то не принимает.
– Ну и мне ничего не надо. Я смолоду от кастрюль бегала, а сейчас и вовсе разучилась. Чаю попью – и ладно.
Она подолгу сидела у кровати мужа и, надев очки, ровным голосом читала ему газеты. Больной никогда не прерывал чтения, лежал с полузакрытыми глазами, и было непонятно – слушает или нет.
Когда, тяжело всхрапывая, Иван забывался, Анна вставала и бродила по пустому дому. Из окон была видна улица и горные склоны, покрытые лесом.
В поселке многое изменилось. Виднелись многоэтажные белые корпуса. Маленький домик отделения связи, где Анна проработала почти двадцать лет, исчез с лица земли… Над одним из высоких домов блестели золоченые буквы «Почта, телеграф».
Это был новый поселок, которого Анна не знала. Но ей и не хотелось посмотреть, каким он стал. Пройдешь по улице, встретишь знакомого, начнутся расспросы. А что отвечать? Здешние люди связаны с ее отошедшей жизнью, а она хоронила эту жизнь восемь лет.
Был здесь один человек, который сам должен был прийти.
Больше чем дружба, больше чем родство связывало их троих – Анну, Ивана, Николая. Они были первыми комсомольцами поселка, первыми работниками лесхоза. Вся молодость прошла рядом, одни мысли, одни желания.
– А Уваров не проведывает Ивана?
– Это какой, механик? – переспросила Ольга. – Грубый он человек.
И по ее словам Анна поняла, что эта старая дружба разорвалась.
Каждое утро Ольга меняла Ивану белье, обтирала его высохшее тело. Делала она все быстро, ловко и при этом всегда весело болтала.
– Некоторые такую глупость выдумали – жалеют меня, что я свою молодость гублю. А я за Ваней всегда должна ухаживать, потому что он мне много хорошего сделал. Мы дома совсем бедно жили, поверите, у меня платьишка сменить не было. Иван Семенович меня в одну минуту по своему вкусу как картинку одел. И куда мы с ним только не ездили! И в Москву, и в Сочи. Ведет он меня, бывало, в ресторан, я только глазами хлопаю, а он меня все учит, как ступить, как сказать. Сам такой представительный, жена молоденькая, все на нас внимание обращали. Как же мне теперь его бросить? Это совсем неблагодарной надо быть!
Она трещала, расчесывая серые волосы больного, вкатывая под него чистую простыню, обмывая лицо.
По временам спрашивала:
– Ведь правда, Ванечка? Верно я говорю?
Анна никогда не была ни в Москве, ни в Сочи. Никогда ни одной нитки не купил ей Иван по своему вкусу. Это он, бывало, заглядывал ей в глаза, спрашивая: «Так ли я сказал? Так ли сделал?»
Когда за Ольгой захлопнулась дверь, Анна подошла к кровати. Она уже привыкла к переменам в муже. Темные тени и худоба не мешали ей снова видеть знакомое широкоскулое, губастое лицо. Ей захотелось сказать что-нибудь обидное, но она сдержалась и только спросила:
– С Колей-то чего не поделили? Или при новой жене и друзья не нужны стали?
Иван повернул к ней серые с желтизной глаза.
– Анна, – голос его прозвучал громко, совсем по-прежнему, – сходи за ним, он тебе не откажет.
– Это зачем? Захочет, так и сам придет.
– Не придет. Приведи Николая, прошу. Одно мне осталось – повидать его. Анна, недостоин я тебя просить, пойди. Тебя он послушает…
Иван Семенович затосковал. Он отбрасывал одеяло, перекатывал по подушке большую голову. Анна взяла его руку с бледными ногтями.
– В чем не поладили? Да пойду я, ладно, пойду.
Поселок и вправду сильно вырос. Раньше все здесь знали Анну и она всех знала. Новый человек был приметен. А теперь она шла мимо больших белых домов, вокруг сновал народ, и Анна никого не узнавала. Появилось много молодых парней, девчат. Воскресное утро – все на улице. Изредка кто-нибудь останавливался: «Анна Захаровна…» Она кивала головой и проходила мимо.
Уваров жил в собственном доме у самого леса. Анна не любила его жену. В девках та была слишком бойкой, а потом быстро обабилась, раскисла.
Анна сдвинула брови, готовясь встретиться с Таисией. Та уж обязательно слезу уронит. Но дверь раскрыла молодая женщина с удлиненным смуглым лицом и светлыми волосами.
– Верочка, что ли? – У Анны дрогнул голос. – Забыла меня? Не помнишь тетю Аню?
– Тетю Аню? – неуверенно повторила Верочка. – Ногайцева тетя Аня? – вдруг радостно вспомнила она и неловко ткнулась головой Анне в грудь.
Вера была на год моложе умершего сына Анны. Раньше ее в шутку звали «Митина невеста».
– Как живешь-то? Замужем уже, поди?
Вера кивнула. Анна удержалась от слез.
– Мать дома?
– Ой, мама в город уехала!
Больше Анна ни о чем не спрашивала. В дверном проеме показался хозяин. Гостья отстранила Верочку и пошла ему навстречу.
– Тебя и время не берет…
Голос ее прервался.
Николай Павлович неумело раскинул руки.
– Анна, Анна…
Он повел ее в свою комнату и усадил в жесткое креслице у стола.
– Приехала, значит? Мне говорили…
Крикнул дочери:
– Вера, чаю нам подай.
Анна воспротивилась:
– Не надо ничего. Я ведь за тобой, Коля.
Уваров точно не расслышал. Темными пальцами скрутил папиросу.
– Все у сестры живешь?
– Давно уже перебралась. Комнату мне дали. Одной лучше.
Он согласился:
– Свой угол всего дороже.
Анне надо было спросить про Таисию, про детей, про здоровье. Но она молчала. Вдруг почувствовала усталость от бессонных ночей, от напряжения духовных сил, в котором жила все эти дни.
Все здесь было ей знакомо, все напоминало прошлое. В комнате по-прежнему пахло табаком и металлической пылью. Так же, со строгой мужской аккуратностью, были сложены журналы на столике и инструменты на подоконнике. Даже голубоватое, истонченное временем пикейное одеяло на узкой кровати то же, что и много лет назад.
Сколько раз она бывала в этой комнате с Иваном!
Анна сказала:
– Что же ты о дружке своем не спросишь? Или не интересуешься?
Уваров скороговоркой ответил что-то нескладное, вроде «будет уж тебе, будет», и спросил с наигранным оживлением:
– Поселок наш видела? На город тянет!
– Не заговаривай меня, Николай, – жалобно попросила она, – устала я. Собирайся лучше, пойдем.
Уваров встал.
– Не зови. Разошлись наши дороги с Иваном и никогда не сойдутся.
– Кончилась его дорога. Забывать надо старые счеты.
Она подождала, но Уваров ничего не ответил.
– Высоко себя ставишь, Николай. Ты оглянись на меня. Уж наши ли дороги не разошлись? А я вот здесь. Так неужто твоя обида больше моей?
– Не в обиде дело. Я хотел бы и вовсе забыть, что он есть на свете.
Тяжело падали его слова. Вконец измученная Анна крикнула:
– Да что он такое сделал? В чем его вина непрощенная?
Николай Павлович смотрел в окно. Он слишком все хорошо помнил. В глазах точно живой стоял Иван, как, бывало, взбегал он по крутой дорожке к этому дому.
Бежал, прятал глаза и все же не мог не идти.
Смолоду это было у Ивана. Натворит что-нибудь – и нет ему покоя, пока не вырвет у друга признания или, на худой конец, прощения своему поступку. Убедит, улестит, уговорит.
И когда приехал он из отпуска с новой женой, в тот же вечер явился.
Таисия увидела его в окно.
– Идет… Хорошо, один догадался. А с ней не пустила бы, ни за что не пустила бы. Прямо от двери поворот бы дала. Аннушке-то, Аннушке каково…
– Хватит! – прикрикнул Николай Павлович и ушел в свою комнату.
Минут через пять дверь без стука открыл Иван Ногайцев.
– Судишь? – спросил он сдавленно-счастливым голосом.
Уварову показалось, что Иван выпил. Но он был трезвый. Сел на табурет, полы его шинели разошлись, брюки на нем были новые, серые в голубую полоску.
– Коля, друг, пойми, я Анне уже не нужен. Для нее это лишняя нагрузка – сготовить, постирать. Рассказываешь ей что-нибудь – никакого интереса. Сейчас ее удовольствие – книжку почитать, радио послушать. А материально я ее всегда обеспечу.
Уваров рассердился.
– Тебя послушать – осчастливил ты Анну. А это надо у нее спросить. Ты лучше о себе скажи.
– А я себя виноватым не считаю. Что, мне доли на земле нет? Или про любовь только в книгах пишут?
Вот этим он и сшиб своего дружка. Николай Уваров и вправду думал, что о любви больше пишут в книгах. И этих книг он читать не любил.
– Не поздно о любви-то?
– Не поздно, – твердо ответил Ногайцев. – Ты точно с Анной спелся. Она тоже – чуть что: «Нам не по восемнадцать лет». А в восемнадцать лет люди как кутята глупые. Ничего понимать не могут.
И пошел, понес Иван про море, про пароходы, про чаек, про пальмы.
Таисия сперва стояла в дверях, потом очутилась в комнате.
– Шубу это ты ей купил? Хвалилась она в булочной. Дорого, поди, отдал?
– Не дороже денег.
– Панбархату на платье набрал, верно?
Любопытная Таисия все выспрашивала. Иван отвечал охотно, как всегда немного бахвалясь.
Уваров не мог поговорить с другом как должно. Ему мешало счастливое возбуждение в голосе Ивана, в блеске его глаз, в заливчатом смехе.
– Бесноватый какой-то, – проворчал хозяин, когда Ногайцев вышел из дома и побежал, прыгая с камня на камень.
– Вот закрутила его баба, вот захороводила, – с завистливым восхищением причитала Таисия, – денег-то, денег сколько на нее извел!
И уже рассудительно оправдывала Ивана:
– И то – дома у него чисто могила была. Анна и патефон в клуб отдала. На что, мол, нам после Митеньки. А Иван все же не старик. Живое о живом думает.
Не с этого ли времени начался разлад между друзьями? Нет. Если уж все вспоминать, то надо начинать много раньше, еще с войны.
Темной ночью первого военного года часть, где служили старший политрук Уваров и лейтенант Ногайцев, отошла за реку Сомную и укрепилась в наскоро вырытых окопах. Пользуясь затишьем, усталые люди заснули.
Уваров сидел в пещерке, оборудованной под временное жилье. Настроение было тяжелое, и много душевных сил уходило на то, чтоб скрывать это от бойцов, от товарищей, от самого себя. Потом эти дни вспоминались как самые трудные за всю войну.
От непривычной тишины стали путаться мысли. Уваров еще не спал, но был на той грани бодрствования и сна, когда пробуждение особенно болезненно.
Ему показалось, что в пещеру вкатился огромный темный клубок. Уваров очнулся.
На полу лежал человек в серой шинели. Он обхватил голову обеими руками. Лица его не было видно. Над ним, большой и плечистый, стоял Ногайцев.
– Мразь, гадина…
Человек на полу еще больше наклонил, прятал голову.
– Выхожу, понимаешь, я на него с берега, из камышей, а он бросает оружие – и от меня. Испугался, думал, что немцы реку перешли. А если бы и вправду немцы… Трус, паскуда…
Ругаться Иван умел.
Политрук сказал хриплым от дремоты голосом:
– А ну, встань.
Боец поднялся на ноги. Парень совсем молодой, курносый. Губы от страха белые.
– Фамилия как? Имя?
– Красков Алексей.
Уваров задал еще несколько вопросов и приказал:
– Ступай пока.
Парень скрылся в темноте. Ногайцев не мог успокоиться.
– Воюй с такими. Как шарахнется от меня! И винтовку бросил. Я, мол, думал – немцы. Дезертир!
– Необстрелянный, молодой, – неохотно отозвался политрук, – однако трибунала не избежать.
– Сукин сын, – охотно подтвердил Ногайцев, – а насчет трибунала – ты это, Николай, брось.
Уваров молчал.
– Брось. Сам видишь – мальчишка. Целый день под огнем был. Легко это? Ну?
– Как сказал, так и будет. Не такое время, чтоб нянькаться.
– Колька, – угрожающе сказал Ногайцев, – кто тебе это рассказал – я? Ну так вот знай, что я отопрусь. Не было ничего. Слышишь? Не было…
– Ты дурака не валяй, – устало отмахнулся политрук, – ты лучше ляг отдохни, пока музыки нет.
– Коля, я тебя как друга прошу. Ну, поучили, пробрали. Ты думаешь, он забудет? Никогда! Я за него ручаюсь. Мое слово знаешь? Мне веришь?
И пошел, и пошел. Битых полчаса говорил. Слюна на толстых губах кипела. Договорил до того времени, когда грохнула вражеская артиллерия.
Выбегая, Ногайцев споткнулся о мягкое. Алексей Красков лежал у самого входа в пещеру. Иван легко поднял его за ворот и крикнул прямо в ухо:
– За мной следуй. Чтоб на моих глазах был! Чтоб я тебя каждую секунду наблюдал!
С тех пор Лешка Красков всюду следовал за Ногайцевым. И войну прошли они вместе, и в леспромхоз Иван привез его за собой. У обоих грудь в орденах, оба целые, невредимые.
А Уварову не повезло. В том бою у реки Сомной его тяжело ранило в грудь. Простреленное легкое не дало дослужить до победы. Года за полтора демобилизовался.
При первой же встрече Иван похвастался Лешкой:
– Каков крестничек?
И еще добавил:
– А ведь это Красков тебя тогда в медпункт доставил. По моему приказу, конечно.
Лешка, раскормленный, чистый, затянутый в ремни, губ не мог свести от улыбки.
Встречу праздновали у Ногайцевых. Красков со стаканом вина подсел к Николаю Павловичу.
– Вы, так поглядеть, сухощавый, а на деле тяжелый. Я вас тащил, думал – не дотащу. И так прилажусь, и этак. Если бы вы еще в сознании, а то никакой помощи от вас. Все ж дотащил. Доктор сказал: чуть бы позже – и конец.
Немного пьяный, он значительно таращил большие голубые глаза.
– Еще бы немного – и пиши похоронную.
Уваров сдержанно благодарил:
– Ну, спасибо.
Дочка Вера, ей тогда только семнадцать исполнилось, открыв рот глядела на парня. Еще бы – отцов спаситель!
Иван кричал с другого конца стола:
– Ты хвали, хвали его, Лешку, он это любит. Он за ласковое слово в огонь полезет.
И все же не лежала душа у Николая Павловича к Лешке.
Назначенный директором леспромхоза, Ногайцев сделал Алексея начальником Затонного участка, самого богатого строевым лесом. Работал парень весело, не придерешься, но при встречах с ним Уваров отводил глаза и в беседу не вступал. А встречаться приходилось частенько. То прохаживался Лешка возле их дома, то бежал по тропинке от крыльца, а раза два заметил его Николай Павлович со своей Верой.
Он сказал дочери:
– Рано начала с кавалерами ходить. Не об этом надо думать.
Впервые Вера посмела возразить отцу:
– Он не кавалер вовсе.
– Кто б ни был. Нечего ему у дома околачиваться.
На время Лешка исчез. Месяца через два Николай Павлович снова увидел его с дочерью. Не прячась, не таясь, оба стояли у дома. Уваров молча прошел мимо, но Вера побежала за ним.
– Пап, погляди-ка. Здесь про Алексея Васильевича пишут.
Она сунула отцу под нос газету.
Лешка стоял напыжившись от удовольствия. Пришлось позвать его в дом. Не читать же на холоде.
За столом Алексей старался держаться скромно.
– Я считаю – про меня преждевременно написали. Действительно, это было мое предложение, что на опушках и после порубок сразу корчевать и засаживать. Ну, меня здорово поддержали. Иван Семенович поддержал, ученые приезжали. Главное, я обращал внимание на посевной материал. Другим все равно, что в землю ткнуть. А я выбирал семена от лучших экземпляров. Это дело, конечно, совсем меня не касалось, но я его на себя взял. Тут это все описано.
Вера тут же хватала газету и торжественно читала строчки, подтверждавшие Лешкины заслуги.
И все равно, когда люди стали плохо говорить о Краснове, Николай Павлович слухам поверил.
Первую весть принесла Таисия:
– Лешка-то Красков затонного леса продал на большие тысячи. Иван в отпуску, вот у него руки и развязаны.
– Что же он, дурак, что ли? – усомнился кто-то из домашних.
– То-то, что и не дурак. Лес был какой-то незаприходованный. Объездчик Рябков сказывал: «Слышу, говорит, машины гудят, гляжу, говорит, волковцы лес возят. „Откуда?“ Молчат. А лес-то приметный. Затонный лес. И ехать машинам больше неоткуда». Теперь Ногайцева ждут.
Потом у себя в мастерских Уваров слышал, как люди говорили о Краскове:
– Тысяч пять в карман положил.
– Гляди, не десять ли…
А Лешка не таился. Ходил посмеивался. Вечерами провожал Веру из кино. Николай Павлович вышел ночью к калитке, подождал, пока они появились на дорожке. Веру шугнул домой, а у Лешки спросил:
– Что это про тебя люди болтают?
Ничуть Алексей не смутился.
– Не слушайте вы людей, Николай Павлович. Никто и ничего не знает. Кроме меня, конечно. И как это у людей получается: чуть что – деньги взял! Будто уж лучше денег нет ничего. Не понимают!
– Не доросли еще, ты всех умней, – сказал Уваров. – Лес отпустил? Не виляй только!
– Вот и вы тоже! Ничего сейчас сказать не могу. Время придет, все откроется.
Ушел он, весело насвистывая. А Уваров впервые в жизни не знал, что ему думать о человеке.
Из отпуска Ногайцев приехал с молодой женой. О Краскове на время забыли. Не до того было.
Вера на зимние каникулы уехала с экскурсией в Москву. С тех пор Лешка не показывался. Увидев его у крыльца, Николай Павлович отмахнулся:
– Не приехала, не приехала еще.
– Мне с вами поговорить надо, – попросил Алексей.
Прежней веселости в голосе не было. Он похудел, осунулся и сразу стал похож на того парня, каким его увидел Николай Павлович первый раз в землянке.
В комнате Красков опустился на стул.
– Вы один можете, – сказал он, – внушите Ивану Семенычу – пусть он оформит лес, обелит меня.
Он замолчал, ждал вопросов. Но Уваров не стал ему помогать. Лешка глубоко вздохнул.
– Он мне по междугородному телефону позвонил, когда в отпуску был, чтобы я волковцам лес отпустил. Без документов. По одному слову. Я вам скажу: у нас естьтакой лес, заготовленный на случай, если план не выполним, чтобы пополнить. Незаконно, но все же не преступление, сами видите, из лесу бревна тайно не вывезешь. Вот из этого фонда.
– Деньги брал?
Уваров слушал нахмурясь.
– Ни копейки, – твердо ответил Лешка. – Я от вас и не ожидал, Николай Павлович, что вы такой вопрос мне зададите. Я вам…
– Ладно, – почему-то чувствуя неловкость, оборвал его Уваров. – Что ты плакаться пришел? Иди к директору. Он что, отказывается от своего приказа?
– Не отказывается он. «Ладно, говорит, завтра оформлю». А потом – опять «завтра». А сам недовольный. Мне уже говорить неловко. Каждый день в глаза ему засматриваю. Конечно, у него дела, но ведь люди на меня валят.








