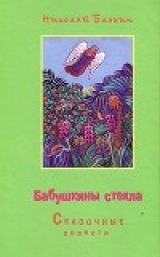
Текст книги "Бабушкины стёкла"
Автор книги: Николай Блохин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 19 страниц)
– Да будь он тогда неладен ваш этот обряд, "таинство", вишь ты!.. Коли приходится видеть вас,.. бред... мне еще все кажется, что все это во сне!.. Да нет, не во сне, вот она, вы, как вы изволили выразиться, танками не утащишь. Что вы в конце концов хотите, бабушка?
– Я уже говорила ему, – кивнула старуха в сторону Антоши, – я хочу только одного – очищения.
– Ну так снимайте ваши тряпки, в конце-то концов, да полезайте в ванну!
– Я сделаю это. Только дело за малым. Нужно наполнить ванну слезами раскаяния вашего сына... Да и ваших бы, родительских, тоже туда накапать не мешало бы.
– Да вот ты, футы-нуты, да не в чем мне каяться! – опять взъярился папа.
– Да хоть "футы", хоть "нуты"! – не менее яростно крикнула тут старуха. – Не в чем им каяться! Да вам уже в том есть каяться, что у вашего сына такая вот совесть! А вы об этом ничего не знаете.
– Да что ж он в конце концов натворил такого?! А ну-ка признавайся! – приступил он к сыну.
Ответила старуха:
– Я не ябеда, как я уже сказала, а он вам ни в чем не сознается. Да и вам сознаться – это не раскаяние.
– Это как это? Я ж все таки отец!
– Вы не тот отец.
– Это как это?!
– Каяться надо Отцу небесному, тогда и толк будет.
– Опять заладила... Кстати, вот вы говорили, что вы и он, мой сын, одно и тоже, вы, мол, его совесть , а он и слов-то таких – Бог, Отец Небесный – не слыхал в нашей семье. А вы только и талдычите их!
– Совесть последнего безбожника верит в Бога, – грозно отрезала старуха. И все опять почему-то вздрогнули. – А сейчас, – столь же грозно продолжала старуха, я все-таки уйду отсюда, но вместе с ним, мучителем моим...
– Еще кто кому мучитель, – буркнул Антоша.
– Правильно, отозвалась старуха, – как аукнется, так и откликнется. Так вот я ухожу и утащу с собой его. Вон тут, напротив, в храм, где ждет его Антоний Римлянин. Вот только дождется или нет – не знаю. Только там и возможно мое очищение. Всю жизнь вашу кресты эти вам в окна смотрят, а вы не видите. Ух!.. Творческие работники! "Соблюл! он русский обряд!.." Молчать и не перечить!! Нечего вам сказать! Ждите нас и знайте, что коли вернусь я вместе с ним, вот тут-то и будут вам и "футы", и "нуты", и "соблюл"; вот тут-то и узнаете вы на шкуре своей, что есть человек с черной страшной совестью, отвернувшийся от своего небесного покровителя и от Небесного Отца. И узнаешь ты! – старуха подняла руки и надвинулась на папу (тот в страхе отпрянул), – узнаешь ты, сморчок творческий, что человек, отказавшийся от Отца Небесного, тебя вот, плотского отца, растопчет и разотрет. Ты для него, что жук по дороге ползущий, топ! – и брызги одни! – и старуха при этом так топнула ногой, что все не только уже вздрогнули, но и вскрикнули.
– Пошли! – старуха схватила Антошу за шиворот, открыла дверь и выкинула его из квартиры. И вышла сама, захлопнув дверь. В каком состоянии остались за дверью папа с мамой, можно себе представить.
Однако, оставим их и последуем за Антошей.
Едва удержался он на ногах от старухиного швырка и обалдело и со страхом ждал дальнейшего, когда она захлопнула дверь.
– Пошел! – рявкнула старуха. – Или опять за шиворот брать?
– Не надо за шиворот?! – промямлил Антоша, – сам пойду. А куда?
– Так еще и не понял?! В храм, где тебя крестили, который ты десять лет не замечал, к священнику отцу Антонию, который тебя крестил. Один у вас с ним небесный покровитель. К небесному покровителю своему!.. – тут старуха не сдержалась и ткнула его в шею, – который стоял за твоей спиной и плакал, когда ты деньги из серванта тягал, когда с пьяного часы хотел снять!.. Что таращишься-то?! Да тот очнулся не вовремя!.. Когда отметки свои в дневнике подделывал! Когда учителям врал, что мать при смерти ,что тебе надо к ней в больницу ехать, а она жива-здоровехонька и не знала ничего... Да ты так к смерти и мать-то родную приговоришь! Когда у слабого деньги отнимал и в лицо его бил... Когда перед родителями юлил, корчил из себя благочестивого. У-у!.. – и опять досталось по шее Антоше.
И вдруг перед ним возник храм. Дотолкала старуха. Бессчетное число раз ходил мимо него Антоша и даже головы не поднимал. Голова его всегда была занята мыслями, далекими от созерцания золотых куполов с крестами и тем более от того, чтобы в храм войти. Последнее, например, время она (голова) разрабатывала операцию по вскрытию двери "Жигулей", стоящих в квартале от дома, чтобы вынуть оттуда магнитофон, за который он уже с одного великовозрастного лоха деньги взял. А магнитофон-то еще в "Жигулях" и возьмешь ли его, нет ли, кто ж его знает, одному Богу известно.
"ОДНОМУ БОГУ ИЗВЕСТНО!" – вдруг гулко повторилось в Антошиной голове, и даже в висках заломило от этого гула. И как-то совсем по-другому взыграло в голове это гулканье. Это была уже не проходная фраза. "Да Бог его знает" – весьма часто повторял Антоша и не думал вовсе никогда, что она вообще чего-то значит.
Ломящая боль возникла неожиданно в плече Антоши. Он со вскриком обернулся. Старуха держала его костяшками за плечо. И тот голос ее, от которого вздрагивали недавно он и папа и мама был ничто в сравнении с тем, что сейчас исходило из ее вонючего рта. Вот только ни вздрагивать, ни шевелиться не мог Антоша от придавливающей боли в плече.
– Да, недобрый человек, да!.. – Ему известно все, Одному Богу известно все. И про тебя, как и про всех, Ему известно все! И пока я жива, пока ты не избавишься от меня, магнитофон из чужих "Жигулей" ты не получишь! Это говорю тебе я, твоя совесть!
Как он очутился в храме, Антоша не помнит. Видимо все-таки пинка он от старухи получил, ибо сопротивлялся он вхождению в храм. Однако страшная боль прошла сразу. Служба в храме давно кончилась, все пребывало в полумраке, лишь несколько свечей горело около разных икон. Какие-то старухи в халатах терли швабрами пол. Антоша резко обернулся сначала направо, потом налево. Его старухи-мучительницы не было. Не было! Исчезла. Но тут же что-то (ох уж это "что-то") толкнуло его назад, к выходу. Он выбежал из храма – и сразу ощутил на своем плече железные костяшки его вонючей старухи-совести.
– Не мельтеши, недобрый человек, не мельтеши. Я здесь. Просто в храме, дабы не смущать добрых людей, я снова растворяюсь в тебе. В храме каждый должен находиться со своей совестью. На чужую, тем более на такую, как я, нечего смотреть. Люди тайно несут свои грехи, свою совесть Богу. Когда отвечаешь за себя – отвечай, а за чужую совесть чужой и ответит. Ступай назад.
– Что это ты, отрок, беготней занимаешься? – услышал над собой голос Антоша, когда вновь оказался в храме. Сюда бегом, отсюда бегом. В храме не бегают.
– Вы это... поп? Ну, священник? – спросил Антоша.
– Точно, поп я, священник.
– Вас не Антонием зовут?
– Антонием. Так что тебя привело сюда бегом?
– Вы меня крестили. Я – Антон. У нас с вами один этот... небесный покровитель, хотя я не понимаю, что это такое.
– Что не понимаешь – вижу. А покровитель точно один. Вот он за моей спиной на тебя сейчас смотрит.
Священник чуть отступил и совсем близко, на сводчатой стене, Антоша увидал нарисованного в полный рост бородатого человека в длинной одежде с золотым кругом вокруг головы. Нет, не увидал, а взгляды их... Нет, они не встретились, не скрестились, они врезались друг в друга. Антоша привороженно застыл. Со стены на него смотрел живой взгляд, даже больше, чем живой – именно так определил Антоша (на большее языка не хватало) то, что глядело на него из нарисованных глаз на стене. А и как сказать о взгляде, на тебя направленном, на стене нарисованном, что он больше, чем живой? Что есть больше жизни? Нет, на языке человеческом слова, чтобы определить его, чтобы сказать о нем что-то. Может, правда, и есть, но Антоша ничего этого не знал. Но оно – вот оно! Било! Стреляло из глаз на стене в глаза Антоши. И отвести свои глаза невозможно. И будто что-то вынимают из нутра твоего эти взыскующие глаза, оно, вынимаемое этими глазами и ты наполняешься чем-то таким, чего никогда в жизни не испытывал...
Боднул туда-сюда Антоша головой, как недавно папа бодал, когда старуха Антошина предстала перед ним, и отворотил-таки свои глаза от взгляда нарисованных святых глаз на стене.
– Ты чего это бодаешься, отрок, яко козел? – услышал Антоша ласковый голос батюшки.
– Глаза у него страшные, – сказал Антоша.
– Страшные? Ишь ты!.. М-да... Однако, проняло? Уже хорошо. Не зря, значит, прибежал.
Антоша снова поднял глаза на изображение и сам утяжелил свой взгляд. Его первое смущение прошло. "Чего это буду я теряться перед каким-то нарисованным?.." А и то – с чего это? Перед живыми-то взрослыми никогда не терялся Антоша. Уж на что серьезно смотрит милицейский участковый, ежишься, когда он вперяется, но ничего, и его перевзглядил позавчера Антоша. Как стоял насмерть, что не он сжег кнопки лифта, так и остался стоять, хотя почти с поличным его застукали.
– Однако, ты и фрукт уже, – сказал тогда участковый, причмокнув и почесав голову.
Много взрослых объегорил Антоша и ни перед кем не робел. Одному недавно бутылку крашеной воды за французский коньяк впарил, так и не поморщился. "А ну-ка?.. – Антоша подошел ближе – А глазки-то у этого покровителя почти как у того объегоренного простачка – добренькие... Чего это вдруг меня заразнюнило?.."
– Однако, как живой, – вслух сказал совсем успокоенный Антоша, – а взгляд как у лоха, – совсем тихо добавил он.
Но священник услышал. Все это время он внимательно изучающе вглядывался в Антошу. Вздохнул тяжко.
– Как у лоха, говоришь? А лох– это тот, кого надуть не просто легко, но и необходимо? Хорошо, что хоть покраснел, чуть-чуть, правда...
А между тем дело это было неслыханное и невиданное. Антоше, сколько он себя помнил, никогда не было стыдно, а сейчас он действительно чувствовал тепло краски у себя на щеках. И очень это ему не понравилось.
–Да, ты прав, – продолжал священник тихим и жестким голосом. Никакой доброты уже не чувствовалось, он явно волновался. – Они, святые наши, добры, просты и доверчивы. Но они, друг ты мой, отрок дорогой, не лохи! Обмануть-то их просто, да в этом смысла нет. Они тебе сами все отдадут, чего попросишь. И даже чего не попросишь. Потребуешь верхнюю одежду – они тебе и нижнюю рубашку отдадут. Но ведь страшно их обижать, подумать даже об этом страшно, – священник надвинул свою огромную бороду на лицо Антоши и даже слегка за волосы взял. – Вот ты посмотри, вот стоит он, наш с тобою небесный покровитель Антоний Римлянин. Видишь, он изображен стоящим на камне. Он же в Италии жил... и вот там обижали православных... да их всегда и везде пытаются обижать. И вот, однажды ночью, когда задумали наутро его убить, так вот, ночью, а ночевал он на куске скалы у моря, кусок оторван был от скалы страшной силой и перенесен за одну ночь к нам на Русь в Новгород, где он и жил потом до конца дней своих. А ну-ка, представь мощь этой силы, которая покровительствует нашему с тобой покровителю! И если Тот, Кто владеет такой силой, если Он дал нашему покровителю свою такую помощь, представляешь, что за человек наш покровитель Антоний Римлянин! А сила эта страшная благая и непобедимая, вот у Него, вот, гляди... да не туда, вот, над Царскими вратами.
И тут то ли от рук, за волосы его держащих, то ли от бороды, которая щекотала шею, снова не по себе стало Антоше. Тот, Кто смотрел не него, действительно обладал силой и на лоха вовсе не походил. И смотрел он точно Антоше в глаза, хотя был резко сбоку. "Умеют рисовать церковники", подумал Антоша, отводя глаза от лика и пытаясь освободить волосы Глаза отвел, а волосы освободить не удалось.
–Это Спас Вседержитель, Царь царей и Владыка всяческих. Твой Царь, твой Владыка!
–А-а -это тот, который Христос, что ли?
–Именно так.
–Ну, а чё ж Он, Вседержитель, обидчиков его, Антония Римского не "замочил" всех там, не разметал? А на камне утащил. Камень отрывать-переносить неужто проще?
–А Он их, обидчиков его, пожалел. Он ведь не только Владыка, всех и всяческих, но и Отец их и твой тоже. А ты ведь ох! многих обидел. У тебя младший брат есть?
–Есть.
–Ну, положим, отнял ты чего-нибудь у брата, побил его, угрожал ему...Разве бы отец твой стал бы "мочить" тебя?
Легкая дрожь пробежала по телу Антоши. Ведь все время Антоша только и занимался тем, что перечислил священник– отнимал, бил, угрожал.
Антоша таки освободил свои волосы от рук священника и опять глянул на изображение на стене.
–Да вранье все это, – устало сказал Антоша– на камне...
–Вот чего здесь нет, так это вранья– старухин грозный гнев послышался Антоше в этом ответе.
–Ну, да, кругом вранье, а у вас нет?
–Кругом вранье, а у нас нет! Нужды нет во вранье, коли они здесь с нами, – священник кивнул на стену и на икону Вседержителя.
–Как это нет нужды? Охмурить да деньги содрать.
–И много я сейчас с тебя спрашиваю денег за охмурение, много ты их принес?
–А вот, когда охмурите, тогда, может, и принесу. Вон, богатство у вас какое! Лампадки, поди, серебряные... Откуда? Охмуренные, небось и принесли, на их денежки.
–На их. А скажи-ка мне, можно ли вообще кого-нибудь охмурить? Чего это вдруг задумался? Да можно, конечно. А что для этого нужно? Да– обещать! Обещать, обещать с три короба! "Тащите ваши денежки в концерн "МММ", будет в мильон прибыли! Потащили, притащили, по носу получили. Охмурить, значит обещать дорогую вещь по дешевке. Ну, и ,естественно, надуть. А я, охмуряя тебя, ничего не обещаю, никакой в мильон прибыли. И ничего от тебя не прошу.
Я предлагаю обмен. Да и не я, а вот Он, – священник простер руку в направлении иконы Спаса Вседержителя и Антоша невольно тоже перевел глаза на взыскующие очи Царя царей, – через меня. Вот уже тридцать лет, с тех пор, как служу, Он мне приказывает, ибо я раб Его добровольный, чтобы я от Его имени предлагал обмен. Вот я предлагаю тебе. Баш на баш. Помажем без понтов! Ты Ему – свои грехи, всю грязь твоей совести – Он тебе – Царство Небесное... Что вздрагиваешь? Может, совесть у тебя чистая?.. Да вот, смотри, вот тут некоторые из охмуренных, вон, видишь, седой, старый... да, который с палочкой. На лоха, по-моему, не похож, чувствуешь, сколько силы в нем?
– Чувствую, – прошептал Антоша.
Старик, действительно, впечатляюще выглядел – взглядом птицу сшибет, рукой подкову разорвет. Старик стоял перед каким-то металлическим столом со вделанными в него маленькими подсвешниками. Все они были пусты, из одного только торчала горящая свеча, освещавшая лицо старика. Старик что-то шептал. Взгляд его был совершенно отрешен. И в то же время страшно сосредоточен. Нет, ни мыслью, ни созерцанием, ни воспоминанием был занят старик, но чем-то таким... таким грандиозно важным для себя, что Антоша, когда вгляделся в него все забыл, только глядел во все глаза. Никогда еще в моей жизни, ни у кого с кем он соприкасался, не видел он такого лица. Старик был занят, он не просто, стоял, он был занят каким-то деланьем, которое не мог ни понять, ни языком выразить Антоша.
– Что это? – спросил Антоша. Он так и сказал "это", а не "что он делает".
– Это – молитва, – ответил священник, – он молится. В 43-ем году, когда наши войска форсировали Днепр у Киева... ты видел Днепр у Киева?.. Другого берега не видно. На самой середине бревно его перевернуло и он оказался в воде. В шинели и в сапогах. Ноябрь месяц. И он доплыл.
– Но это невозможно.
– Конечно, невозможно. Но он тогда взмолился в воде. Впервые в жизни. Только и успел сказать: "Господи, помоги!" и ко дну пошел, захлебнулся, намок, да и холодюга жуткая. Сам рассказывал, что будто кто за шкирку его – р-раз и на поверхность выкинул. Стал барахтаться, а за шиворот так будто и держат его. Так и добарахтался. Он ведь тоже Антон. Тут, считай, треть прихожан Антоны, придел у нас Антония Римлянина. Думаю, что сам он и дотащил нашего Антона до берега, как когда-то его самого Господь на камне от злодеев сюда, на берег спасения, на Русь святую...
– А чего?.. О чем он молится?
– А это он у кануна стоит, где мы мертвых поминаем. Жена у него недавно померла. Вот за упокой души ее и молится.
– А чего за покойников-то молиться?
– А вот, когда помрешь, тогда узнаешь! Что б тот, кто умер, оказался бы в том самом Царстве Небесном, которое я тебе только что в обмен на грехи твои предлагал. И самое страшное для человека – если он не оставил по кончине своей ни одного молитвенника живого о себе, ведь за себя молиться умерший уже не может.
Сразу вспомнился Антоше его недавний друг. Знает он и родителей его и остальных родственников – ни у кого из них и мысли не возникнет стоять вот так перед кануном и просить для умершего какого-то Царства Небесного.
– Ну, а все ж таки, отец Антоний, – впервые Антоша назвал священника по имени, – Царство-то это, которое на обмен, оно где вообще? Глянуть бы, пощупать.
– Вот Он, Вседержитель, Основатель и Царь этого Царства, и книге, которую Он подарил людям, Евангелие называется, вот там Он сказал, что Царство эту внутри нас начинается.
– Чудная геометрия получается. – Антоша усмехнулся. – Царство Небесное, а внутри меня. В кишках, что ли?
– А у тебя что, внутри кишки только?
– Нет, еще печень, селезенка, легкие, желудок, а в нем – желчь!
– Грамотный. Желчь, я вижу, у тебя не только в желудке. А там еще и душа, которая уже вон как изгаляться научилась. Что ж, по твоему, чего не пощупаешь того нет? А совесть, основа души, и ее что ли нет?! Чего это ты все вздрагиваешь, когда про совесть речь заходит?
– Так, ничего.
– Ничего? Думаю, что очень даже "чего". Ладно... Ну, а Америка есть?
– То есть как? Конечно, есть.
– Это где ж это есть? Ну-ка, дай пощупать.
– Чего?
– Да Америку, вот чего!
– Да как же?
– Да так же. Раз не могу ее сейчас пощупать, так и нет ее.
– Да Америку сколько людей видели.
– И Христа много людей видели.
– А космонавты летали – не видали!
– Низко летали.
– Да вон. Америку по телевизору каждый день показывают.
– Это не Америка, это какие-то бегающие картинки в ящике. За шнур дернул – и нет Америки!
– Да, ну есть же она! Туда и слетать можно.
– Слетать? Ну, лети. Чего ж не летишь? То-то, чтоб туда слетать, надо кучу разрешений от разных чиновников получить, 100 порогов обить, прорву всяких заявлений-биографий написать, сколько раз из разных кабинетов выгнанным быть – де не то, и не так сделал, все нервы истрепать, уйму денег заплатить, визу, наконец, получить, на самолет сесть, да еще и долететь надо, а то ведь и в океан свалиться можно... И все это что значит? А то значит, что это ты по-тру-дил-ся! Чтобы увидеть-то... Вот так и Бога – увидеть чтобы – потрудиться надо! Только труд другой. Вот он, Антоний Римлянин, покровитель наш, он потрудился. Доб-ро-де-ланием! Лохов искал не для того, чтоб объегорить, а свое последнее отдать, утешить и защитить. Чистые сердцем и совестью – Бога увидят. Ишь, ты, опять вздрогнул. Ну, ладно. А ты просто поверил учебнику географии, что Америка есть, поверил, не летая. Поверил! На вере вся жизнь держится. А жизнь вся на Боге держится. Ну, скажи, такой вот храм-красавец, диво-дивное, зачем бы строить, коли нет Его? Охмурять, чтобы деньги сшибать? Ой, не то! Ой, не так! И сам ведь это чувствуешь, хотя все время рожу свою воротишь. Очень не ожидал Антоша услышать из уст о. Антония это "рожу" и даже рот открыл от удивления. О. Антоний же, не обращая внимания, продолжал.
– Да-да, и на лампадки серебряные сами несут. Только не охмуренные они, наши несуны, а ве-ру-ю-щи-е! В Него вот, – снова простер руку о. Антоний в сторону Спаса Вседержителя. – Счастлив человек, в него верующий и эта вера только и есть настоящее счастье, никакого другого счастья нет в этом мире. Да и миру самому взяться неоткуда, как только быть Им созданному. Да и то, – откуда все взялось, вообще все мир наш, в котором мы живем?! Что? Само? – Рассмеялся о. Антоний так, что старухи, подсвешники протиравшие и пол мывшие, оставили работу и на него обернулись. – Это как же что-то само может получиться? Уроки у тебя сами учатся? Ну, да, глупость спорол, уроки ты давно уже не делаешь. А вот, лежит разобранный велосипед, на детали, вплоть до винтика. Когда эти винтики сами соберутся в велосипед?
– Как это? Когда я их соберу.
– Это не ответ. Ты не при чем.
– Как это? Ну... да никогда.
– Правильно! Только когда ты своей сторонней силой соберешь его, совершишь акт творения, будет велосипед. Несчастный велосипед без акта творения не получится, а тут целый мир, вселенная грандиозной сложности! Сама?! И это при полном отсутствии животворящей силы в мертвой материи?! Это я тебе о Боге, космическом Творце. А Он же еще и Бог-Отец. Вот, если ты откажешься от отца, ты просто подлец, но если ты скажешь, что отца у тебя не было вовсе, то ты явно ненормальный. Вот все неверующие, по большому счету, если хочешь, _ ненормальные подлецы. Да, если договаривать до конца, до логической точки, то именно так. А почему они живы, почему не карает? Ну, а как карает родной отец? – плеткой да увещеванием. А Отец Небесный до последнего вздоха несчастного ненормального подлеца ждет, ждет просветления души и очищения совести. И очень часто не дожидается...
Опять зашумело внутри Антоши, опять вспомнился умерший приятель.
– А все потому, что мир во зле лежит– так с печалью сказал Он в Евангелии. И в жизни всех, кто вне Христа, как бы внешне благополучно они не жили, обязательно– морду вынул– хвост увяз. И конец у них у всех страшен. А что после конца, то просто ужас. И вот он, Антоний Римлянин, приставлен к тебе при крещении, чтоб отколоть тебя от скалы из слипшихся в копошении ненормальных подлецов, и чтобы ты поплыл, наконец, в страну спасения. Глянь-ка снова в глаза ему, он ведь неотрывно в тебя смотрит.
– Вообще-то как живой смотрит, – пробормотал Антоша.
– А он и есть живой. Живее нас, коли в Царстве Небесном он. Оттуда ведь и смотрит. И то, если я гляжу на нарисованную доску и прошу у нее чего-то, говорю: помоги, то я или кретин полный, или... – о. Антоний снова взял Антошу за волосы, приблизил его лицо к своему и отчеканил проникновенно... – или это не доска! Или я с живым говорю! Да и то, если нет Царства Небесного, если не чувствуешь ты его в себе, – о. Антоний весьма больно ткнул Антошу в сердце, – то Он – Вседержитель– есть крупнейший за все времена обманщик, а книга Его – вреднейшая из всех книг, прости, Господи! – о. Антоний повернулся к лику Спаса и истово перекрестился. – Ибо если нет воздаяния, то и толковать не о чем, живи, как хочешь – бей, отнимай, обманывай. Но оно есть. Царство Небесное и книга Его – самая великая из всех книг, ее придумать нельзя. "Войну и мир" и любую другую, хоть какую разумную книгу придумать можно, а Евангелие – нельзя, оно могло быть только Богом дано, ибо там – благодать. Оно открывает нам в нас Царство Небесное, оно говорит, что в нас не только селезенка с желчью, но и – жизнь вечная.
"А ведь не охмуряла он, ох, не охмуряла!" – тюкнуло у Антоши где-то около затылка, он уже и не различал взгляда Антония Римлянина от взгляда о. Антония. Они слились, они были одно и то же и ему теперь казалось, что у Антония Римлянина был точно такой же голос, как и у о. Антония. И почувствовалось тут Антоше, что ведь он, о. Антоний, да просто забоится охмурять, даже если захочет, потому что (ну, а вдруг!!!) ОНИ все-таки действительно здесь! И они, такие вот, какие нарисованы, действительно последнее свое отдадут и не надо им ничего по дешевке. И если в самом деле веришь, что вот у этого Вседержителя сила, способная оторвать от скалы камень с человеком и перегнать его сюда – не станешь охмурять. Да и попробуй охмури вон этого старика, воина днепровского – все зубы враз потеряешь. И старухе его вонючей, воплощенной, здесь места нет. И здесь, действительно, островок без вранья. Эти нарисованные врать не позволят.
– Ну, так что же тебя все-таки привело сюда бегом? – услышал тут Антоша.
– За мной старуха ходит, – не узнал Антоша своего голоса, – грязная, вонючая, не убежишь от нее, не убьешь, говорит, что она – моя совесть... – и дальше Антоша рассказал все, что с ним было.
– Вот ведь... вот это оборот, вот это явление, – теперь и у о. Антония голоса не узнал Антоша. – Представляю, каково тебе было. А ведь какая милость это, представляешь? Ты у нас выходишь меченый Богом. Даже завидно.
– Вы это серьезно?
– А разве я похож на шутника?
– Вот уж... век бы не видать такой отметки. А милость-то Его это чем же я заслужил?
– Да судя по старухе, как ты ее обрисовал, ничем. Да видно милость Он не по заслугам раздает.
– А как же?
– Да по милости, – улыбнувшись, сказал о. Антоний. – А совесть, она брат, у всех почти такая, как у тебя.
– И у вас?!
– Да у меня, наверное, хуже.
– Не может быть.
– Очень даже может, – вздохнул о. Антоний. – Мы ведь больше гадим в жизни, а потом, в лучшем случае, нам бывает стыдно, а стыд – это ведь вовсе не раскаяние, он ведь даже может помешать раскаянию, стыдно нам каяться, во как! – о. Антоний опустил голову и вздохнул еще более горько. – Ну, а теперь, – вновь совсем близко привлек он к себе Антошу, – слушай внимательно, отрок. Судя по тому, чему ты сподобился, кончилось твое детство. Столь велико чудо, тебе посланное, столь же велико должно быть и осознание твое, что ответ надо держать. Слукавишь, увильнешь – лучше б тебе не рождаться вовсе, старуха вонючая сладким сахаром покажется...
– Скажите, – перебил Антоша, – а у вас было что-нибудь, ну, что-нибудь... явление... вот такое вот.
– Вот таково вот, увы, не было, а чудо маленькое... хотя чушь сказал, чудес маленьких не бывает, раз чудо, так вот было. В тюрьме.
– В тюрьме?! Вы в тюрьме сидели?
– Ну, а как же не сидеть? Как же можно православному священнику моего возраста, да тюрьму миновать! Вот этот самый храм тридцать лет назад закрывать собирались власть имущие, а я воспротивился. Опять, говорю, ключи отнять можете, а сам не отдам. И народ созвал. Ну, ключи отняли, народ разогнали, меня– в кутузку. Однако, храм не закрыли. Вот. Милость Божия была.
– Милость? Что-то у вас... вонючая старуха – милость, тюрьма – милость.
– А то как же? Скорбями, милок, грехи наши списываются, хотя полтряпочки грязной, а сгорает на старухах наших. Так вот: орало в камере радио за решеткой – не заткнешь, какие-то дурные песни орало, а я сосредотачиваться плохо умел, а сейчас еще хуже. Так вот, ну не могу молитв вечерних, положенных прочесть, хоть ты что тут. Ну и взмолился я, прямо заорал, да еще с упреком – да заткни, Ты, Господи, эту железку хоть на десять минут, дай молитвы Тебе закончить! И заткнулось. И ровно на десять минут.
– Да ну-у... – разочарованно буркнул Антоша, – тоже мне, чудо.
– Ну, а как же не чудо, чудо и есть. Мне больше не нужно, да, видать и не положено... Ну, а теперь о твоем чуде, иди-ка ты сюда, отрок, усек, что я тебе о тебе тут загнул? Только я ведь не догнул. Слов нет на языке человеческом что б чего-либо доходчивое тебе сказать, – о. Антоний встряхнул за плечо Антошу. – Не отвлекайся, слушай! В натуре... Или я тебе щас для профилактики просто сначала рыло расквашу... – и Антоша понял, что действительно, расквасит, – Так вот нет доходчивого языка, чтоб растолковать тебе... да и никому! про ту грань, на которой ты стоишь. За спиной – пропасть и тьма кромешная, впереди – свет неизреченный. И все теперь зависит от тебя! Вот представь себе – камера... ну, то есть... а в общем-то – камера. И стоишь ты в ней голый и вот начинает она наполняться чудной, чистой теплой водой – вот уже и по колено. Ты начинаешь радостно плескаться и радуешься, что вода прибывает и прибывает. Вот уже и нырять можно. И когда ныряешь, вдруг обращаешь внимание на какой-то свет призывной, свет в окошке, которое уже под водой. Но ты только глянул и снова – плескаться. И вот в одно из выныриваний вдруг – бац! – головой о потолок. Оказывается, чуть-чуть осталось, чтоб сомкнулась вода с потолком. Вот тут ужас охватывает тебя, ты прижимаешься ртом к потолку, лишь только так можно дышать. Но разве эти судорожные вдохи можно назвать дыханием? Вот уже и губы захлестывает. И вот ты совсем вминаешь губы в потолок в последней дурной истерике, вот ты делаешь последний-последний судорожный вдох и начинаешь метаться уже целиком под водой с последним глотком воздуха в легких, метаться – выход искать. А выхода нет, ты вспоминаешь про свет в окошке, но уже не доплыть. И вот тебе уже не до чего, вытаращенные безумные глаза уже ничего не видят... И вот – все! Рот распахивается в предсмертном крике, но и крика нет, удушающим потоком устремляется вода в нутро, несколько конвульсий и труп с застывшим на лице ужасом опускается на дно. Такова наша жизнь. Мы бултыхаемся, пустякам радуемся и не думаем, что нас несет к потолку жизни, не видим света в окне. А свет этот – вот Он, Вседержитель... И может статься так, – о. Антоний своим пальцем почти в глаза ткнул Антошу. Они у того и так были ошалевшими, а тут он просто зажмурил их, – что ты уже башкой своей в потолок бухнулся, уже, может, губы сжал, может, тебе последний глоток остался, может, от того тебе и совесть твоя явлена... Это хорошо, что ты дрожишь, тебе и должно быть страшно... Но вот чего ты должен не устыдиться и не убояться: сейчас будет исповедь. Исповедываться будешь ты. Вот Ему – Вседержителю и Милостивому Отцу. Он здесь, – холодок пробежался по костям Антоши от того, как это было сказано, Антоша даже обернулся вокруг себя.
– Не крути головой. Он здесь невидимо.
– А почему невидимо?
– Потому что ты не сможешь вынести Его прямой благодати, испепелит. А испепелить должно грязные тряпки твоей совести. И что Он здесь – не сказочка это, не мои охмуряльные фантазии, это – реальность, как реальность твоя вонючая совесть, которую от тебя не оттащишь всеми танками мира. И не будет больше за тобой таскаться старуха, если ты сейчас Ему, – о. Антоний повернул Антошу к лику Спаса, – перечислишь все до единого грехи, грешки и грешочки свои, которые вспомнишь. А вспомнить ты должен все. Проникнись и ужаснись мысли даже что-нибудь утаить или слукавить. Он здесь и Он все про тебя знает и без твоих слов.
– Тогда зачем же?..
– Исповедь нужна не Тому, Кому ты исповедуешься, а тебе. Очень легко каяться невидимому Богу. Нагадил, вышел в чистое поле, крикнул в чистое небо – нагадил я, Господи, прости уж, и – все в порядке, беги дальше гадить. Не-ет, ты все свои гадости мне скажешь, я вроде уполномоченного у Него. Когда сан священства получал я от Него, Он и дал мне такое право: слушать грешников и прощать их от Его имени. Сегодня самый страшный, но и самый великий день в твоей жизни и, мало того, это последний твой шанс жить дальше!..






