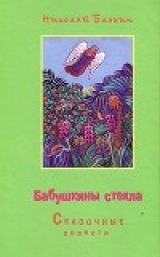
Текст книги "Бабушкины стёкла"
Автор книги: Николай Блохин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 19 страниц)
– Как это успения? – спросил Федюшка.
– Для грешников – смерть и по мутной, смертной, греховной реке уносит их в геенну, где плач и скрежет зубовный.
– А ты откуда знаешь? – воскликнул Федюшка.
– Так в Евангелии записано.
– А я был там... да, и плач, и скрежет...
– А для избранных – успение, – продолжал слепой, положив руку на плечо Федюшки, – слово-то какое замечательное, усыпают, значит, избранные, а душенька ко Христу, в Царство Его.
– А кто они, избранные?
– Избранные? А это те, кто на зов Христов явятся. А званые, – это всей земли люди, много их, званых. А вот избранных мало, не все на зов Христов идут, – вздохнул слепой и перекрестился.
– Да я знаю, Он сказал: «Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас...» Я видел это, слышал от Него.
– Что ты, что ты! – испугался слепой, – не говори так, где тебе видеть Его!
– То есть это... А вот и слышал и видел! Он это говорил! – не сомневался теперь Федюшка, что не удалось Постратоису его превращение. Именно Его, Самого Христа видел и слышал Федюшка.
– Ну, ладно, тебе, наверное, виднее, – сказал на это слепой, – вижу, что за словами твоими не упрямство стоит, а правда. Ну, дай Бог. Я вот тоже видеть Его хотел и через хотение это упрямое глаз лишился. И нет слов моих благодарности Христу Богу за это.
– За то, что глаз лишился?! – изумился Федюшка.
– Ага, за это. Допекло, было дело, меня мое желание одержимое видеть воочию Христа Бога. Вот, а в Евангелии сказано, что Бога чистые сердцем узрят. Вот и возомнил я о себе, что очистился, только о том и молился, что б явился Он мне. И даже вера моя стала шататься, что ж это думаю, не является Он мне, может быть, и вовсе Его нет?!
Такие вот даже страшные слова говорил про себя. И стою я однажды в храме, вот в этом самом, служба идет, хор как раз запел: «Блаженны чистые сердцем, ибо таковые Бога узрят». И чувствую я, как меня на воздух поднимает. Обомлел я, растерялся, а меня уже от пола оторвало, только обратил я глаза к небу, как вижу: купол разверзся, и оттуда таким светом в меня брызнуло, что закричал я от боли, так резануло мне глаза. И среди света как бы мелькнул, прости Господи, лик Спасителя нашего. Скорбный лик, взыскующий, так вот сподобился я видеть Его, но с тех пор больше ничего вокруг не вижу. Ослеплен светом неизреченным.
Поначалу озадачился я, рассердился... эх, какие мы все-таки дураки... Все-то нам пощупать хочется, увидеть, а ведь сказал Спаситель апостолу Фоме: ты уверовал, потому что увидел раны Мои, блаженны же те, кто не видя, уверуют. Я в число тех блаженных не вхожу, мне, вишь ты, увидеть надо было. Увидел. А потом такое умиление на меня снизошло, что до сих пор плачу от радости. Да и как же не радоваться, самим Господом вразумлен, в вере укреплен...
– А если сейчас вам глаза? – перебил Федюшка, – сейчас бы не ослеп ты? Сейчас ты очищен?! – Не заметил Федюшка, что враз отчего-то на «ты» перешел. Слепец этого тоже не заметил, ему это было, видимо, вообще все равно.
– А сейчас бы и в мыслях не возникло у меня ропота, явись, мол, мне, Господи, ублажи мою блажь!.. Нынче у меня и без того тепло на сердце и без того знаю, что Он есть и что нет у меня чистого сердца, чтобы видеть Его.
– А Он не прячется? – спросил Федюшка; спросил и вспыхнули щеки его краской.
– Как прячется?! – поразился слепой. – Что ты говоришь? Грешной, наглой душе, которой лень потрудиться, чтобы верой обогатиться, которая одного своего разнузданного «хочу» слушается, такой душе и кажется, что Он прячется. А ты понудь себя. Верую, Господи, помоги моему неверию!.. И откроется тебе Господь в том даже, мимо чего ты стократно проходил, позевывая... О, снег пошел. Ты на снежинку глянь, какая она красавица, сколько в ней причудливости всякой, затейливости. Как вглядишься в любую махонькую малость, поражаешься, как сложно все в ней и при сложности как все слаженно. Неужто это все могло само получиться, без Бога? Так думать – безумие есть. Вот и я зрячий был. Да безумный. А ослеп, так и ум обрел. С крупицу малую, но – обрел. Милость его была, когда не являлся Он мне, глаза мои жалел. И с какой же скорбью, гневом и жалостью слушал мои идиотские взывания! И явление света ослепляющего – тоже милость мне, жало в плоть!.. Плоть моя уязвлена, а дух к вере вознесен. Что же делать, если без этого самого жала дух наш жалок. Ты вон, пока по лбу не получил, все за нечистой силой гонялся... Да уж, знаю, знаю, брат твой поведал мне немного, насколько я понять смог. На уродин ты смотрел, а уродства не видал. За жизнью вечной бегал, а к погибели вечной чуть не прибежал!
– Не хочется умирать, – грустно сказал Федюшка.
– Так и не умрешь. Никто из нас не умрет, но все мы изменимся, – так сказал апостол Павел, ученик Христа. Душа наша освободится от тела, вот тебе и изменение. Да какое! И полетим мы в Царствие Небесное на языках небесного огня. А представляешь, вот такие, какие мы есть сейчас, да вот с теми глазами моими тогдашними, с воплем моим дурным «явись», являемся в Царствие Небесное, а там этот свет, от которого я тут ослеп, везде разлит... И что мне там делать?! А огненные языки небесного огня как нам сносить такими, какие мы есть сейчас? Что вздыхаешь? Видеть хочешь этот небесный огонь?
– Хочу! Очень хочу! – воскликнул Федюшка и осекся сразу, голову опустил, опять «хочу».
– Не расстраивайся. Это «хочу» хорошее. Может, и тебя ослепит, рядом встанешь со мной.
– Ой! – испуганно вырвалось у Федюшки. Все-таки не хотел он, чтобы его ослепило.
– А как чтобы без ослепления?
– Молись по-тихому, больше никак.
– Пасху надо ждать?
– Не надо. Каждую литургию огонь небесный сходит незримо во всех храмах.
– Дай, Господи, мне увидеть огонь твой, – тихо сказал Федюшка. Не были слова его молитвой, не умел он молиться, он просто просил, как у мамы просят на мороженое, не сомневаясь, что она даст. И сейчас он тихо просил Его, живого Бога, чтобы Он дал, ну хоть показал огонь Свой. Федюшка не знал, даст ли Он огонь Свой, покажет ли, но уверен был Федюшка в момент просьбы, что Тот, Кого он просит, видит его и слышит его просьбу. Не сомневался же он, прося у мамы на мороженое, что мама его существует, что она (мама) не чья-то выдумка, а живая и настоящая.
– Вижу! – вскричал вдруг Федюшка. – Вижу столб огненный над крестами!..
Всполошил Федюшка своим криком всех окружающих, но ничего он не замечал вокруг, он восторженно смотрел ввысь на кресты.
– Что, что ты видишь? – шепотом спросил слепой.
– Огонь вижу. И... и... все вижу!
Слепой гладил Федюшкину голову и молился о том, чтобы тот не ослеп.
Необыкновенный, никогда ранее не ощущаемый покой чувствовал в себе Федюшка. Покой и уверенность. Да, он обязательно возьмет брата к себе домой, и, конечно же, мама примет его. Она же ему тоже мама. Она, конечно же, будет плакать, как вон сейчас плачет бабушка. Да и как тут не плакать? Он ведь какой замечательный, Федечка-болезный, деда из ада вызволил. И это мама поймет, обязательно поймет, пусть не сейчас, но когда-нибудь. Брат поможет, да и слепой… вымолили деда, вымолят и маму, – так думал повзрослевший Федюшка, направляясь к брату.
– День-то какой замечательный, – воскликнул тут слепец, – Христос родился.
Праздник сегодня, Христос родился!
Перенесение на камне
Грязная, оборванная, тощая старуха возникла напротив Антоши, будто из-под земли выросла. Сгорбленная, трясущаяся, она просяще протягивала к нему свои костлявые руки и ныла что-то неразборчивое. Антоша оторопело остановился, едва не наскочив на старуху, и спросил испуганно:
– Вы что, бабушка? Вам чего?
Вообще-то Антоша был не из тех, кто теряется при неожиданных встречах, хотя и минуло ему всего 10 лет. Он и слово дерзкое запросто скажет, любого взрослого так отбреет, что только держись, и руки, если надо, в ход пустит. Ну, а если что серьезное, так и тут сразу сообразит и вовремя деру даст, если уж делать больше нечего. Одним словом – малый не промах. Но перед внезапно появившейся старухой он растерялся. Вид старухи был жалок и страшен и вызывал у Антоши тоскливую гадливость, к тому же и воняло от нее как от помойки. Вдруг она перестала ныть и сказала глухим, печальным и очень выразительным голосом:
– К тебе я, недобрый человек, к тебе, опоганиватель имени своего великого, к тебе мой погубитель.
И хоть еще меньше стал понимать Антоша что здесь происходит и что сие значит, однако растерянность его тут же прошла. Очень важное свойство имел Антоша в своем характере (самому ему оно очень нравилось): когда его ругали или обличали в чем-то, в нем мигом появлялась спокойная рассудительность, имевшая одну цель – отмести любое обличение, отвергнуть, опровергнуть любое против себя обвинение, даже когда это невозможно. "Прав ли – не прав, я всегда должен быть прав", – вот такими правилами руководствовался Антоша и пока что не подводили они его, ибо всегда вовремя являлось то самое рассудительное спокойствие и всегда он изо всего выворачивался. А тут, старуха эта, это вообще что-то непотребное.
– Ты чего мелешь, бабка?! Какой я твой погубитель? Я тебя первый раз вижу!
– Оно правда, первый раз видишь, но погубитель, однако – ты. Ведь я же – совесть твоя.
– Кто?! Чего?!
– Совесть. Которую ты сделал такой больной и нечистой.
– Ну, вот что, бабка! Хромай-ка отсюда – совсем уже рассерженно произнес Антоша.
Но поскольку она не двигалась с места, перегородив дорогу, Антоша обошел ее, окатив брезгливым злым взглядом, и пошел своей дорогой. Но через несколько шагов остановился.
– Ты зачем за мной тащишься?
– А я теперь от тебя никуда, недобрый человек. Я же не чья-нибудь совесть-то, а твоя.
– Пошла вот от меня! – закричал Антоша, – Хватит тут представление давать! Почему ни за кем такая мымра не идет? У-у! Пошла вон!
– Ты напрасно орешь, недобрый человек. И тебе это не поможет. А на твои вопросы я отвечу. Так вот, меня ни откуда не принесло, а воплотилась из твоего нутра, из тебя. У каждого совесть внутри сидит, понимаешь? Совесть, она – растворена в человеке, в нем во всем, потому ни за кем никакая старуха не ходит. Кстати, если меня вылечить и отмыть, я совсем не старуха. Ты, недобрый человек, сам грязен, потому вот и я, из тебя воплотившись, такая вот и есть страхолюдина... Думаю, что во всем этом такова воля Того, Кто одарил тебя совестью по просьбам твоего покровителя Антония, прозванного Римлянином.
– Да будь они трижды неладны с таким своим подарком!
– Не бросайся словами, недобрый человек. Может случиться, что ты пожалеешь о них, да будет поздно.
– Так ты еще и угрожаешь, старая приставала! – с яростью проскрежетал Антоша.
– Нет, – спокойно ответила старуха, – предостерегаю. Ты, конечно, боишься кое-чего...
– Я ничего не боюсь! – бешено воскликнул Антоша. – Тебя, например, я совсем не боюсь!
– Никогда так грубо не перебивай чужие речи. Меня и не надо бояться. А по глупости и невежеству ты боишься совсем не того, чего нужно бояться. Вот сейчас ты до смерти боишься, что будешь уличен родителями в воровстве денег из серванта. А разве этого тебе надо бояться? Эх! Да если б я была не больная и не грязная, разве б делал ты это?! То, что ты покраснел, доказывает, что я еще излечима. Надеюсь, что ты не будешь задавать глупых вопросов, откуда я знаю про деньги? А этот вопрос вертится у тебя на языке. Пойми, наконец, что я – это ты, и даже то, о чем ты только собираешься подумать, мне уже известно. И выкинь дурацкую мысль стукнуть меня посильнее и удрать. Убежать от меня нельзя, как нельзя ни убить, не сжечь, ни утопить... Я умру, когда умрешь ты. А этого тебе действительно надо бояться. Коли не очистишь меня до своей смерти, не вылечишь – это и будет для тебя самое страшное.
– Да чего там страшного-то? Ну, умру, как и все, в старости.
– Да тут-то страшное и начнется. А почему, кстати, в старости?
– А когда ж еще? Тоже мне, еще и о смерти думать! Это еще не скоро.
– А твой сосед, твой ровесник, которого два дня назад схоронили? Ты еще от гробика его отворачивался, когда его мимо тебя несли. Он ведь тоже, поди, думал что не скоро, да вот– на тебе. До десяти лет не дожил. Что же касается дум о смерти, то уверяю тебя, что думать об этом гораздо важнее, чем о том, как спереть деньги из серванта.
Антоша с ненавистью посмотрел на старуху.
– А их там много, – сказал он ядовито-ехидно.
– Много? А как они достаются, ты знаешь?
– А не знаю. И не хочу знать. Когда нужно будет знать, само узнается. Надоели вы все!..
И тут Антоша совершил революционный шаг. Он отпрыгнул от старухи и что есть духу понесся по улице. Никогда до этого он так быстро не бегал! Промчавшись три больших квартала, он в изнеможении остановился. Тяжело дыша, обернулся. И увидел рядом с собой старуху.
– Напрасны твои потуги, недобрый человек. Хоть на лошади скачи, хоть на ракету сядь, я не отстану. И глазами не сверкай, не поможет.
– Зачем? Про деньги разболтать хочешь?
– Зачем? Я не ябеда. Да и что прок на тебя ябедничать? Ты же сразу глаза вскинешь обиженно, да вскричишь праведным голосом: "Я?! Да как вы могли подумать такое?!" Уж так ты родителям своим мозги запудрил, что они про тебя никакой правде не поверят.
– Так что ты хочешь от меня, старая карга?
– Я не карга. Я твоя совесть. Я хочу исцеления и очищения.
– Так что мне, в ванне что ли тебя купать?
Старуха усмехнулась.
– Нет, это бесполезно.
– Ну, так чем тебя очистить, вонючка ты поганая?!
– Я очищусь и вылечусь, только умывшись твоими слезами раскаяния
– И тогда ты исчезнешь с глаз долой?
– Да, тогда с глаз долой я исчезну. Дело за малым – за твоими слезами раскаяния.
И Антоша всерьез стал думать, как бы это сейчас сделать, чтобы выдавить из себя слезу. Вообще-то, слезу из себя выдавливать он умел, но сейчас чувствовал он, ничего у него не выйдет. Да и выдавленная напоказ слеза за раскаяние никак не сойдет. Проклятая баба! И только тут до него по-настоящему дошло, что перед ним явление, которого быть не должно, которое быть не может, но оно– вот оно. Стоит перед ним эта удивительная гадкая старуха. И ничем и никак не объяснить ее, ну не совесть же она его в самом деле?!
"А что, если все-таки ее кирпичом по голове и убежать?.."
– Не надо кирпичом, – сказала старуха. – Мне ничего не будет, только я стану еще страшнее и зловоннее.
Антоше стало совсем не по себе.
– Ты всамделе мои мысли читаешь?
– Всамделе, недобрый человек. Никакая злая мысль не минует твою совесть. Ведь это так просто.
–Что же я родителям скажу? Что они скажут? – растерянно спросил Антоша.
– Скажи им все как есть. А что они скажут, так ли это важно?
И опять вскипел Антоша:
– Ну, а теперь скажи серьезно, бабка, кто ты и откуда взялась?
– Я всегда говорю серьезно, недобрый человек. Кем я себя назвала, та я и есть. В этом мире действует еще и та сила, о которой тебе невдомек. Это – Божья сила. Она и воплотила меня вот в такое страшилище. И мне другой не быть, пока ты такой, какой есть.
– Божья сила? – недоверчиво сморщился Антоша. – Так Он что, есть что ли, Бог-то?
– Есть. А иначе откуда ж бы мне взяться? Божий мир – это мир обратный тому, в котором ты живешь. А живешь ты только ублажением твоих скверных желаний, коим ты покорный и жалкий раб. А других желаний у тебя нет. Радуйся чуду и благодари Бога, что я предстала пред тобой.
Антоша задумчиво выслушал ее слова и только махнул рукой в ответ. Да и что тут скажешь? Сказать, что Бога – таки нет? А она опять за свое, что есть. Так и препираться?
– Ладно, идем домой, – сказал Антоша, про себя подумав, что видимо никак не миновать встречи родителей с этой...
– Ты верно подумал, что не миновать, – сказала старуха.
Вздохнул тяжело Антоша и зашагал не оглядываясь.
Лифт был занят. Не торчать же тут на площадке с этой... – и Антоша пошел пешком.
Что-то остановило его у двери, что под их квартирой двумя этажами ниже. Отсюда два дня назад выносили гробик с его приятелем. А ведь совсем недавно он выскакивал из этой двери и кричал, задрав голову:
– Антоха! Ты вышел?
И вот его нет. В общем-то, его смерть и похороны Антоша перенес спокойно и даже безразлично. Он даже мертвого его тела в гробу не видел, об этом Антошины родители позаботились. Сейчас же, глядя на запертую дверь, что-то защемило внутри Антоши. Какой-то неведомый ранее, таинственный, щемящий, холодный страх, непонятно о чем и от чего, ощутил он.
– Скажи, а он очистил эту... ну, такую же как ты... у себя.... перед тем, как умер?
Старуха за спиной кашлянула и сказала:
– Я этого не могу знать. Это один Бог знает.
"А как у Него спросить, – подумал было Антоша, но вдруг жгучая, злобная волна яростного протеста выплеснулась откуда-то из потаенных недр его души и целиком заполнила Антошу.
– Плевать мне на тебя и на твоего Бога! – зашипел он, надвинувшись на старуху. – Зачем мне тебя очищать?! Не буду! Шляйся за мной, прилипала вонючая, а вот не буду и все!!
– Твоя воля. Однако, что за бес тебя укусил?
– Великолепно, малыш, отлично, добрый человек. Не слушай эту старую вонючку, – услышал тут Антоша грубый, хриплый голос. Он шел откуда-то сверху, но там никого не было видно.
– Кто это еще? – испуганно спросил Антоша.
– Он самый, – ответила старуха, криво усмехаясь, – легок на помине.
– Кто? – не понял Антоша.
– Да бес, который укусил тебя.
– Я никого не кусаю, старая карга, – раздался опять голос сверху. – Просто мои помыслы гораздо приятнее твоих и сей добрый человек слушает меня, а не тебя. И правильно делает.
"Он назвал меня добрым человеком! Но ведь это вранье. Разве я добрый?!
И, отвечая на Антошины мысли, старуха произнесла, вздохнув:
– Да, да, недобрый человек, он всегда врет, Он отец и создатель всей лжи на земле, но его ложь приятнее многим... Эй! – закричала она, подняв голову кверху. – Я не старая карга. Ты и тут соврал. Я его ровесница, – она протянула руку в сторону обалдело замершего Антоши. – Это твои помыслы, которые он слушал, сделали меня такой. Но я не побоялась, не постыдилась предстать перед ним такой, какая есть. Явись же и ты перед ним, ну, воплотись в какую-нибудь розу-мимозу, у тебя ж это здорово получается. А? Ну! Аа-а!.. Ну тужься, образина, сейчас ты предстанешь таким, каков ты есть на самом деле! Так сделает Бог, которого ты страшишься и от Которого отваживаешь людей. Смотри же, недобрый человек, кого ты слушаешь!
И Антоша увидел. Прямо у него над головой возникло громадное, бесформенное облакообразное существо с невероятно жуткой пастью во всю свою бесформенность. Растерянную злобно-жалобную улыбку изображала эта ужас наводящая пасть. Взгляд огромных парализующих глазищ был непереносим для глаз человеческих. Антоша вскрикнул, закрыл лицо руками и понесся наверх, перепрыгивая через пять ступенек сразу. С разбегу он стукнулся в дверь квартиры, в которой жил, и забарабанил по ней что было сил и руками и ногами. Ему казалось, что чудище устремилось за ним.
Родители вскрикнули разом, когда он ворвался-ввалился в открывшуюся дверь, едва не сбив их с ног. И сразу захлопнул дверь, прижавшись к ней спиной. В голове царил полный хаос. Думать он не мог, говорить не мог и мелко дрожал. Рядом стояла печальная старуха. Родители же пребывали в полной растерянности и немоте, и оторопело таращились на старуху.
– Она говорит, что она – моя совесть, – наконец, вымолвил Антоша, когда понял, что бесформенной образины в квартире нет.
– Чего? – пораженно спросил папа. – Что происходит, Антон? Ты от кого бежал? Кто эта женщина?" Гражданка, вы кто и что вам угодно? В таком виде...
– За вид вы сынка своего спросите. А я и вправду его совесть, – сказала старуха. – На этот раз он правду сказал, хотя он редко ее говорит.
Папа боднул головой слева направо, все еще ничего не понимая. Мама вообще не могла и слова вымолвить. И их вполне можно понять. Представьте себе своих родителей в подобной ситуации.
– Ну, так что же все это значит, Антон, – возвысил, наконец, голос папа, – что тут происходит?!
– А происходит то, – сказала спокойно старуха, – что он сейчас беса увидел во всем его безобразии.
– Кого увидел?
– Беса.
– А это кто, позвольте?
– Эх, – вздохнула старуха. – Эта та злая сила, которой ваш сынок подчиняется все три года своей сознательной жизни. Ага. Ибо с семи лет у человека идет его сознательная жизнь, он уже отвечает за все, что натворил. Так Господь определил – с семи лет. Хоть и отрок, но безответственность кончилась. Нагадил – изволь к ответу. И хорошо, если ответить здесь успеешь.
– Что? Где это "здесь" и что значит "успеешь", – папа наполнялся гневом и уверенность, что пора вместо дурацких вопросов с его стороны силу приложить и вышвырнуть вон эту... Он видел подавленность и потерянность сына и был уверен, что тот того же хочет.
Опять вздохнула старуха и произнесла устало:
– А вот то и значит – мальчик... тот, на которого во гробе вы даже посмотреть не пустили своего сына, он, неизвестно, успел ли ответить здесь, на земле! – вдруг крикнула старуха. – Ответить!
И тут папа взорвался:
– Да ты тут не прикрикивай! А ну-ка, вон отсюда! – обернулся к сыну с вопросом, – Надеюсь, ты не против?
– Да я-то не против, но... ну, попробуй ты!
Папа открыл дверь, взял старуху за руку и дернул ее в направлении открытой двери так, что, пожалуй, любой штангист-тяжеловес вылетел бы птичкой из квартиры. Столько было силы и ярости в папином движении. Но старуха осталась неподвижной. Папа повторил дерганье (да еще пинка дал) с утроенной энергией и удесятиренной яростью. Все осталось, как и было. Старуха стояла как и стояла.
– Ты можешь обмотать меня тросом и тащить всеми танками мира. Ничего не получится. Человек не разлучим со своей совестью. Разлучница у них одна – смерть.
Если сказать, что папа пребывал в состоянии ошеломленности, то это значит, ничего не сказать.
– Но этого не может быть, – в страхе прошептал он, переводя свои глаза со своих сильных рук на хилую тощую старуху.
– Когда не верится разуму, верьте глазам. Итак, поскольку вышвырнуть меня нельзя, пожалейте свое здоровье и не делайте больше дурацких попыток... Так вот, сядем-ка рядком, да поговорим ладком.
– Однако всякие россказни о Боге я па-апрашу в моем доме оставить, – остатки ярости еще бурлили в папе.
– Россказни? – старуха тяжко вздохнула и покачала головой. – Ну что ж, послушаем тогда ваши россказни...
И тут ожила мама. И видно было, что ярости в ней клокочет не меньше, чем только что клокотало в папе. Но у женщины ярость не так взыгрывает как у мужчины, не хватает она, не дергает, пинка не дает (хотя иногда бывает и так, если уж совсем допечь!). Мама вплотную приблизилась к старухе. Голос ее злобно-шелестящий, видимо впервые таким слышали папа и Антон. Они с удивлением воззрились на маму. Будто и само явление старухи по сравнению с видом шипящей мамы отступило на второй план.
– Нет, мы не сядем рядком! – проскрежетала мама и таки дернула старуху за волосы, – Я оч-чень прошу вас выйти вон добровольно. Иначе вас выведут с милицией!..
Ох уж эти женщины...
– Сударыня, – ласково обратилась старуха к маме, – уж коли танки не могут, а уж милиция-то... Успокойтесь. И все-таки, поговорим ладком, пусть хоть и стоя. Итак! – старуха в упор смотрела на маму и, похоже, ярость в маме начала затихать, – скажите-ка мне... а! россказни!.. Ну так скажите: вы довольны своим сыном?
– Ну, в общем, это, в общем – да, ответила мама, ответила уже не скрипяще-скрежетаще.
– А мой вид вас не удручает? Ведь я действительно его совесть. Не бойся, – старуха полуобернулась к Антону, – не бойся, ябедничать не буду, я ведь вообще ябедничать не могу, даже если захочу – ничего не выйдет, язык отнимется. Я только одного человека обличать могу – тебя.
– А в чем дело? – встрял папа. – О чем это вы, о чем ябедничать?
– Так раз не могу, значит и не о чем. Ладно, продолжим, – теперь старуха глядела одновременно на папу и на маму, – Вы хотите, чтобы ваш сын был честным, благородным, добрым?
– Конечно, – сказала мама и сделала наступательный шаг в сторону старухи.
– Ну так отчего же я, его совесть, такая, какую вы видите?
– Нет, ну это уже слишком! – опять взъярилась мама. -
Стоим тут с этой... Какие-то разговоры дурацкие ведем! Еще и слушаем ее... Да ты мужчина, наконец, или кто?! – вдруг заорала она на папу. – Да выкинь ее, наконец!..
– Он мужчина, сударыня, – морщась, сказала старуха, – но...
– Никаких "но"! – слезы появились на глазах у мамы. – Я не знаю где и в какой помойке вас валяли...
– Зато я знаю, – перебила маму старуха, – да-да-да, плачьте. Только о другом бы были ваши слезы, а не о том, что я вас досаждаю... Да!.. И я не отстану от вас!.. Потому что вот он!.. вот он! вот он стоит, сын ваш, уже теперь негодяй из негодяев... да! И жив он еще потому что покровитель его небесный, великий святой земли русской на камне, слышите вы, творческие люди, интеллигенты!.. да, на камне через океан переплывающий, к нам приплывающий, на Русь святую... Антоний Римлянин, покровитель его, вашего сыночка. Да, да! Ему Антонию Римлянину благодаря и жив он, ваш негодяй, по его, Антония Римлянина, молитве...
Не стал папа на этот раз перечить старухе, не стал затыкать ей рот, хотя она очень возвысила свой голос и даже, можно сказать, грубо возвысила, а слова "творческие люди, интеллигенты" из ее вонючего рта ну прямо плевком ощущались... "Негодяй какой-то, Антоний Римлянин на камне... – к чему это, о чем она?.." А старуха продолжала бушевать:
– Ну так задали мы вопрос сынку вашему, а он вон, молчит, все думает, может это все во сне... На яву! Молчит, а я за него отвечу, вот его ответ: "А зачем мне быть добрым, честным и так далее?"
– Это не его, это ваш ответ, – отчеканил папа.
– Не-ет, это его ответ, уж я-то знаю. Как видите, его ответ для вас вопросом вышел. Что ответите? А?
– Чего отвечать-то? – спросил папа. – Зачем быть добрым и честным? Я даже не найду, что тут ответить, глупо даже.
– А меж тем, вопрос не так глуп и надо бы найти, что ответить. Так вот, сын ваш так отвечает на вашу возмущенную растерянность: "Добро и прочие ваши штучки вроде честности не приносят никакой пользы. Зло и ложь гораздо выгоднее. Обманул – чего-то приобрел, а правду сказал– сплошь да рядом потерял. Ну так и зачем правду говорить? А?" На зло нас толкает потребность выгоды. А на добро? Потребность добра? Да откуда же ей в нас взяться? А вещь она есть! Это она сейчас возмутилась в вас, что вы даже ответа на простой вопрос не нашли. Только Бог в нас мог ее вложить. Больше сей потребности взяться неоткуда. И эта потребность добра есть я, – старуха сказала последнюю фразу просто и неторжественно, но все вздрогнули. Теперь только папа вгляделся в виновницу немыслимой ситуации. И ему показалось, что даже в безобразии ее, благодаря проникновенным глазам и голосу, от которого вздрагиваешь, было что-то величественное.
– Кстати... – старуха опять подняла свои, как оказывается, страшные глаза на папу, – если он действительно избавится от меня, вот тут-то всем вам и конец. И не только вам. Этого не удавалось еще никому на земле – избавиться от совести, он был бы первым. А я и представить не могу такого монстра, избавившегося. От одной мысли о таком ужас берет. Представляете, немоту в человеке голоса внутреннего, который бы предостерегал от зла и обличал содеянное зло!? Нету в человеке голоса Божия, отказался всемогущий Бог дать человеку внутри его определитель зла и добра? Многому чему попустил Господь свершиться в мире злому. На то Его неисповедимая и высшая воля. Значит, так надо было. Даже мысли не должно быть обсуждать его решения и дела. А вот такого вот, что б человека совести лишить – ни разу не допустил. У последнего негодяя оставалась... – ну вот такая хоть как я... Да чего такая, как я, еще страшней и уж почти без голоса, но – оставалась. А представляете, вот его, вот он, отрок десятилетний стоит, представляете его без меня, избавился себе на радость, представляете этакую образину десяти лет от роду, цель жизни у которой – нахапать и отнять столько, сколько сил на это хватит; жрать, пить, куролесить, властвовать и топтать ближнего и дальнего – вот девиз жизни. Ну а что ж еще, действительно, делать, коли нет меня, коли избавился? И первыми жертвами сего девиза будете вы, дорогие родители, первыми будете растоптаны вы!
– Ну уж и наплели вы, нагородили, – сказал папа, почесав, однако, затылок. – Уж прям таки и растоптаны... И это... что вы все опять Бога приплетаете! И этого, покровителя какого-то. Да смешно!
– Приплетаю?! Вообще-то, глядя на вас, не скажешь, что вам смешно. А если его не "приплетать", как вы изволили выразиться, так и вообще говорить не о чем, тогда бы и мне взяться неоткуда, а я – вот она. Может еще раз попробуете вышвырнуть? А покровитель-то его, сыночка вашего, Антоний Римлянин, вот ему-то сейчас хуже всех, плохо ему, плачет он горькими слезами, когда меня видит такую. На камне пол-океана к нам переплыл, что б вашего дитятку перед крестом Божиим отмаливать. Он же у нас крещеный. И крещен в день памяти святого Антона Римлянина. А ты учти, – старуха погрозила своей костяшкой Антоше, – внимает пока Господь молитвам Антония Римлянина, милует пока, меня вон в живую плоть воплотил, чтобы хоть как-то тебя пронять, но это ведь пока! Долготерпив Он и многомилостив, но не до беспредела!
– На каком камне? Почему на камне? Как это – на камне? Куда приплыл? – спросил очнувшийся Антоша.
Папа ничего не спросил, он только тоскливо поморщился, вспомнив, как крестили во младенчестве Антошу, как он не устоял-таки, поддался тещиным приставаниям и даже сплюнул тогда и выкрикнул теще: "Да и пошла ты! Ну и катись, крести его, только быстро!" А сам не пошел на крестины, снаружи храма дожидался и все боялся, что сослуживцы его тут засекут и так тошно ему тогда было, ну почти что как сейчас.
– И не надо мне крещением его тыкать! – крикнул папа старухе, которая было собралась ответить что-то Антоше. – И не я его крестил!
– Точно. Не вы, – усмешливо сказала старуха. – Крещен он Духом Святым через окунание в воду руками священника отца Антония. Тоже ведь вот совпадение-то... Он ведь и сейчас служит в том же самом храме, вон кресты из окна видать.
– Да хватит мне тут! – вскричал папа. – Хватит про Дух Святой... Это ж надо, в наше время... Я всего лишь русский обряд соблюл, теща, зараза, уломала.
Сказал так и при этом глазами на маму сверкнул.
– Русский обряд, говорите, "соблюл"?! "В наше время"? – старуха надвинулась на папу. – Да когда этим обрядом миллионы крещены были, русских еще и в природе не было. Этот обряд, как вы изволили выразиться, всемирный, вселенский! Таинство! Таинству этому благодаря я и стою перед вами!..






