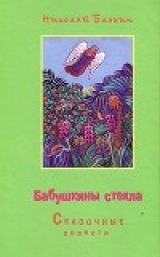
Текст книги "Бабушкины стёкла"
Автор книги: Николай Блохин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 19 страниц)
– Наверное, плохо, – промямлил Федюшка.
– Чего-то я не возьму в толк, чего тут плохого, а? – Столько на лице у Постратоиса написалось неподдельного удивления, что оно передалось и Федюшке, и у того невольно мелькнула мысль, что, может быть, и правда тут ничего плохого нет?
– Разве тебе плохо, скажи мне, что ты всю жизнь свою врешь? А? Не смущайся и не красней! Ложь – это прекрасно. Все на свете врут, кто много, кто поменьше, но нет на земле человека, прошедшего мимо лжи. Разве тебе плохо было от твоего вранья? По-моему, ложь тебе одни удовольствия дарила. Разве не так?
– Так, – согласился тихим голосом Федюшка.
– А то, что дарит удовольствие в жизни, разве может быть плохим? То-то! Ну а если твоя ложь кому-то неугодна, то на это, прости меня, надо наплевать! Вот так...– И Постратоис прихрюкнул, хрипнул носом и вдруг харкнул через всю комнату на противоположную от кровати стену. Не меньше ведра слюны было в комке его харкотины. Будто хлопушка взорвалась, так врезался комок в стену, Федюшка аж вздрогнул.
– И только так, – продолжал Постратоис, – коли нет никакого наказания, то и обманывай на здоровье. А откуда это, наказание-то? Ведь Бога нет? Нету Бога-то... – И Постратоис снова под кровать заглянул. – Где Он? Нету Его.
– Но ведь ты сам говорил, что Он есть, что Он Творец всего?
– Ну и говорил. Но Он прячется, а значит, нету Его, а кроме Него, и бояться нечего и некого. Ведь жизнь коротка, а удовольствий так много. Но... – Постратоис вдруг застыл в нелепой позе, – людей-то на земле намного больше, чем удовольствий. А? На одно удовольствие, считай, человек по тыще! А? – И Постратоис схватился за голову, будто переживая за это. – И что же тут, скажи, делать? Да разве доберешься до удовольствия через такую толпу без обмана, без притворства, без обещания, которого никогда не выполнишь? И только так и поступает сильный человек. Если для того, чтобы тебе стало хорошо надо сделать кому-то плохо, то делай не задумываясь! Это закон жизни № 1, запомни. И горе тем, кто пренебрегает этим законом, горе жалостливым, горе честным слюнтяям!
Тут вдруг на Федюшку наплыло полупрозрачное лицо его братика. Он силился что-то сказать Федюшке, но кроме хлюпания и гудения губ, ничего не мог разобрать Федюшка. Вздрогнул он от наплывшего видения и лицом переменился. И Постратоис это тут же заметил.
– А братик говорит, что на небесах Царство есть, – робко сказал Федюшка.
– Братик? – Физиономия Постратоиса сделалась злобно-задумчивой, а сам он застыл на месте от Федюшкиного сообщения, будто парализовало его.
– Ты видел этого дрянного уродца? Ин-те-рес-но... Много же ты нагляделся.
– И вовсе он не дрянной, – насупившись, пробурчал Федюшка.
– Как же он не дрянной, если дрянным да пустым голову тебе забивает? Лез ты в ворота? В это самое Царство? А? То-то! И никогда, слышишь, никогда тебе в него не пролезть... – Знакомое черное пылающее «никогда» выскочило из безобразного рта Постратоиса и заплясало у него над головой. – Так вот, значит, и нет его для тебя! А чего нет для тебя, того и в природе нет. Чего не вижу, не слышу, чего не щупаю – того не существует! Да к тому же, малыш ты мой милый, ведь всё это было во сне. А я вот он, наяву, меня и пощупать можно... – И синие ниточки-губы Постратоиса растянулись в ухмылку, от которой по Федюшкиному телу пробежала судорога.
– Эх, малыш ты мой, юноша дорогой, – покачал головой Постратоис, – вижу не по нутру тебе мой вид, да и на всех окружающих меня брезгливо ты глядишь. А ведь надо ломать себя, менять надо взгляд на вещи. Без этого не вместить тебе гееннского огня. Это и есть, пожалуй, маленькая плата для человека решившегося. То, что ты нынче почитаешь за уродство, и есть истинная красота. Надо, надо, юноша, сломать-таки себя! То, что ранее казалось, да и сейчас кажется прекрасным, на самом деле пустышка есть! То есть просто форменное, пустое безобразие. Михаил – урод, а я – красавец. Понял? Я ведь могу сей же миг обратиться в любую разэдакую розу-мимозу, чтобы ласкать твой взгляд. Но я не сделаю этого, ибо взгляд твой нынешний – ошибка глупого ума. Я не могу ему потакать. Ломать себя надо! Но самому это ужасно тяжело сделать, ух как тяжело, просто даже невозможно. Но я могу помочь, нужно только твое согласие. И тогда... после маленького хирургического вмешательства моих коготков все встанет на свои места: твои глаза обретут истинное зрение, а ум – высшее понимание.
– И я стану светить светом истины? В моей душе возгорится фонарик? И я стану все видеть таким, какое оно есть на самом деле?!
– Фонарик? Какой фонарик? – недоуменно пробурчал Постратоис. – Хм... да и на кой тебе видеть вещи такими, какие они есть на самом деле? Ох уж этот уродец... – И, не давая Федюшке опомниться, продолжал: – Но самое главное, ты обретешь невидимую силу над невидимым – над душами людей!.. Все люди, понимаешь, связаны меж собой невидимыми нитями, одна любовь чего стоит, как сильны ее ниточки... и вот ты – дзинь! – эти ниточки сможешь рвать!.. А сам человек? Душа его есть переплетение множества связей и сил. И ты всё это также сможешь рвать! Рвать! И по-новому, по-своему связывать, а жертве твоей и неведомо будет, что с ней... В просторечии это древнее искусство называется колдовством, и вот ты этим искусством сможешь обладать. Ну?..
– Хочу, – вскинулся Федюшка, – хочу!
– Ба! – восхищенно воскликнул Постратоис. – Ты глянь-ка, мой пупырчатый друг, сколько огня в этих юных очах, сколько желания! Да тут вмешательство моих коготков просто излишне. Считай, юноша, что ты уже посвящен. Ур-ра!!!
– Давно бы так, – промурлыкала пасть Греха, – а то – фонарик... Я уж звездануть тебе в лоб хотел, чтоб был тебе фонарик.
– Не груби, – цыкнул на него Постратоис, – всё хорошо, что хорошо кончается...
Перед глазами Федюшки проплыл сияющий лик Архангела Михаила. Он не показался Федюшке безобразным, как того обещал Постратоис, но ему показалось, что враждебно смотрят на него глаза Архангела, хотя смотрели они печально и жалостливо.
Чуть было всколыхнулась в сердце память о той благодати, что изливалась на него у синего моря. Всколыхнулась и замерла, ожидая его, Федюшкиного, решения. И Постратоис каким-то образом почуял это и весь напрягся, выжидающе глядя на Федюшку.
– Хочу! – вскричал Федюшка и вскочил с кровати, – хочу невидимой силы! Хочу рвать невидимые нити.
– Браво, – громким спокойным басом сказал Постратоис и вдруг заорал так, что стекла зазвенели:
– Ур-ра! Победа! Пр-раздник!
– Тише, – испугался Федюшка, – бабушка услышит.
– Никто не услышит, ни бабка твоя, ни мать, будь спокоен. Да, забыл тебе сказать, пока ты спал, нагрянули твои родители.
– Как?! – воскликнул Федюшка, бледнея.
– Не паникуй, юноша, – когтистые пальцы Постратоиса легли на его плечи, – сюда никто не войдет. Бабка сюда заходила, правда, но лишь для того только, чтобы доски эти со святошами снять, ха-ха-ха... Она ведь, бабка твоя, неизвестно кого больше боится, Бога или дочь свою, твою мать. Только твоя матушка на порог, иконы со стены твоей комнаты долой, ха-ха-ха... Они сейчас сидят да косточки тебе перемывают, да на сундучок твой таращатся. Мне кажется, ты хочешь одарить свою матушку сообщением, что у тебя нашелся братик? А?
Федюшка кивнул.
– То-то радость ей будет, – издевательски отвечал Постратоис на кивок его.
– Но почему она не хотела, чтобы он родился? – задумчиво сказал Федюшка, ни к кому не обращаясь и глядя в пол.
– Да она не хотела, чтобы и ты рождался, ох-ха-ха-ха!
– Как?
– Да вот так. Она с твоим папочкой еще повеселиться хотела, попорхать хотела беззаботно. Ведь дети – это обуза, забота, ну а кому, скажи мне, нужны забота да обуза? Ну а уж коли ты родился, что же с тобой делать, не убивать же. Однако беззаботничать ты помешал. Да и бабка твоя, хе-хе-хе, родите, говорила, сами будете нянчить, на меня не рассчитывайте, с меня хватит, я свое отгорбатила, хотите обузу, так сами и таскайте. Ага, ее словечки, хе-хе-хе. Так-то вот. Впрочем, плевать на это, у нас праздник. Безумствуем, веселимся! Да здравствует человек решившийся! Эй, колдуны, ведуны, ведьмы, принимайте в объятия собрата.
Из постратоисовского плевка, прилипшего к стене, будто из окошка, поперли вдруг всякого рода создания, на которых без содрогания можно было смотреть только разве что после хирургии постратоисовых коготков. Вскоре в комнатке-спаленке стало тесно и темно от переполнявших ее перепончатокрылых, змее– и свиноподобных тварей, которые летали, прыгали, бегали, ползали, орали, выли, хохотали, и всё их прибывало и прибывало. «И как все умещаются?» – поражался Федюшка. Это было действительно поразительно, но все умещались, несмотря на то, что твари все прибывали и прибывали. Из дымохода сквозь клубы дыма вынеслась вдруг в бочке из-под огурцов бородатая баба, вся в саже и копоти. От бочки несло кислятиной, от бабы – гарью. Сделав круг под потолком, бочка шлепнулась к ногам Постратоиса.
– Баба-яга! – вырвалось у Федюшки.
– Но-о, юноша, причем здесь баба-яга? – ухмыляясь, произнес Постратоис, – баба-яга – это сказка, легенда, а тут самая что ни на есть настоящая бабушка по имени...
– Барбарисса! – прогундосила баба, низко кланяясь Постратоису, – рада приветствовать тебя, повелитель. С пополнением вас.
– И тебя, старая, и тебя... Хлебни чарку нашего, согрей нутро.
– А чего вашего? – спросил Федюшка.
– Теперь и вашего, твоего теперь, вот. – В руках у Федюшки оказался огромный кубок из причудливо изогнутого рога какого-то зверя. В кубке пенилась, бурлила черная жидкость с едким, крепким запахом.
– Пей! – вскричал Постратоис, и Федюшка как заведенный опрокинул в себя огромный глоток жидкости. Ожгло ему и глотку, и внутренности, он поперхнулся, закашлялся, Постратоис перехватил у него кубок да как шарахнет ему ладонью по спине. Не успей Федюшка схватиться за кровать, так рухнул бы на пол от такого удара. Он закашлялся еще больше, слезы навернулись ему на глаза и... вдруг он почувствовал себя так хорошо, что и не передать, будто бы снова он летел под мышкой у Постратоиса. Он казался себе сильным и мудрым, голову приятно кружило, ноги сами собой притоптывали под бешеный ритм, зазвучавший вдруг откуда-то из его желудка.
– Ну-ка, плясун, иди сюда. – Постратоис притянул его к себе и обнял. – С матроной познакомься.
Федюшка глянул туда, куда указывал Постратоис: из стены вышла строгого вида тетя и звучным низким голосом сказала:
– Всем здравствуйте! Поздравляю, ваша кромешность. – Тетя была чуть старше мамы и намного ее красивее. Одета она была в темный жакет и темную же длинную прямую юбку. Черные изящные очки с темными стеклами, сквозь которые все же видны были неподвижные глаза, сидели на переносице.
«На учительницу нашу похожа», – подумал Федюшка.
Тетя протянула ему свою узкую темную ладонь, и на ней прямо из ничего возникло ароматное большое яблоко.
– Это тебе, малыш, – с улыбкой произнесла дама. – Нет, нет, есть его не надо, его надо дарить. Подари-ка его своим родителям. Это будет хорошая месть им и за брата, и за тебя. Я все знаю, малыш, не красней. Это отвратительная черта – краснеть. Это – яблоко раздора. Последнее творение нашей с мужем семейной лаборатории. Проверено на сотне человек. Название замечательно оправдывает. Двоих даже кондрашка хватила от переполнившей злобы.
– Браво, матрона, – промурлыкал Постратоис, – вы подтверждаете свой высокий класс. Однако, я слышал, у вас неприятности?
– Да, – тяжело выдавила из себя дама, – сын от рук отбился. Евангелие стал читать, на меня косо смотрит. Если так дальше пойдет, придется его зарезать. А то еще креститься надумает.
– Да-да, непременно зарезать, одобряю, матрона, – сказал Постратоис, – знаю, знаю, вы не любите шум, и посему не задерживаю вас. Успехов в творчестве!
И строгая дама растворилась в воздухе.
Спокойно и с интересом выслушал Федюшка строгую даму, только чуть вздрогнул, когда та произнесла «зарезать», но даже и за это вздрагивание выговорил ему Постратоис:
– Забывать нужно старое, юноша, забывать, в сердце колдуна нету жалости.
– А что такое Евангелие? – спросил Федюшка.
Нахмурился Постратоис от вопроса и зубами прищелкнул:
– А это книга такая, самая дрянная и пустая и самая вредная из всех книг. В школе тебя чему учили? Что Бога нет, вот, а ты все спрашиваешь... Ходил по земле бродяга-оборванец. Да учил людей всяким глупостям: не обмани, не укради да возлюби ближнего... А? Каково?! Чего ради его любить, ближнего-то? Да и какие они ближние, человечки-то вокруг, а? Ближний у тебя один – тень твоя, да и то потому, что она ничего не просит. Ну вот и накропали ученики этого бродяги про Него книжицу – Евангелие... Видал... И общался даже...
– С Ним? С бродягой? Так он кто?
– Бродяга-то? Да Бог Он, Сын Божий. Имя Его, Иисус, а прозвище Христос. Ну и что? Где Он, а? – И Постратоис, кривляясь, пошарил глазами по углам, где плясала нечисть и опять под кровать заглянул. Федюшка прыснул, на него глядя.
– И мне смешно, ох-хо-хо, – загоготал Постратоис, – нету Его!.. Только и остался, что на досках-иконах намалеван, да и те доски-то по комодам прячут вроде бабки твоей. Да чуть что – со стен снимают. Легко нынче иметь дело с теми, кто поклоняется Ему. Они себя верующими называют, это значит верят, что Он действительно с небес сходил, что будто бы в Евангелии все правда. Да как можно вообще верить чему-нибудь писанному или говоренному? Нет ничего глупее и смешнее веры. Гора лжи висит над человечками, скоро небеса прорвет, а человечки врут наперегонки друг с другом и о вере толкуют, ха-ха-ха! Помню, двадцать пять лет назад храм вон тот, что из окошка отсюда виден, закрывать приехали, что б, значит, богослужений там больше не было. Пока еще не приехали те закрыватели, эти верующие ох какие храбрые были: не дадим, кричали, храм Божий закрыть, а пуще всех твоя бабка кричала. А как наехали закрыватели да собрали их всех, цыкнули на них слегка, тут-то они и в кусты, глазки потупили и – молчок. Один дед твой, пьяница и сквернослов, верующим не помню чтобы он себя называл, в защиту храма встал, да еще на молчальников наорал, а пуще всех на жену свою, бабку твою. Ох и насмеялся я тогда. Закрыли храм. Всем бы им туда дорога. Чего же Он, Христос, с небес не сошел, чтобы не дать надругаться над своим храмом, а? Да храбрости б рабам Своим верным под– набавить, а? Нету Его! А они, дурни, поклоняются. Правда, есть среди них упористые, упрямые вроде твоего братца-уродца, ух-х-х! Ненавижу! Но близится час, рухнет гора и всех придавит. Все человечки на земле будут под моим господством!
– А зачем ты хочешь над всеми господствовать? – спросил Федюшка, – «во имя чего все это?» – засвербило у него в мозгу.
– Как зачем? – удивился вопросу Постратоис, – я этим Бога одолею.
– Которого нет?
– Ага, ха-ха-ха...
Все окончательно перемешалось в Федюшкиной голове.
– А зачем Его одолевать?
Этот вопрос привел в бешенство Постратоиса.
– А затем! – зарычал он, – чтобы властвовать, не зря ж я бунт поднял.
– А зачем ты бунт поднял? – спросив это, Федюшка весь в комок сжался, думая, что Постратоис сейчас пришибет его. Но у того маска бешенства вдруг пропала, и он весело расхохотался:
– Да, узнаю лень человеческую. Что ж, нечего злиться, сам же ее насаждаю. Вопросы «зачем», юноша, можно к чему угодно приставлять, к любому слову, любому делу. Зачем вообще что-то делать? Лучше вообще ничего не делать, а? Согласен! Бр-раво, ха-ха-ха! Но, мой дорогой, испытал ли ты, спрошу я тебя, хоть раз в жизни упоение властью? О-о, у тебя все впереди. Никакое удовольствие не сравнится с удовольствием от власти. Маленькую дольку его ты, наверное, испытал, когда камни у малыша отнимал. А если весь мир у твоих ног, а?
И Федюшка кивнул, соглашаясь.
– Бр-раво, юноша! Ты получишь свою долю на моем пиру, кусочек власти у тебя будет. Ты какую власть предпочитаешь, тайную, когда подвластные и не догадываются, кто их властитель, или явную, когда царишь во славе и почете? А? Вижу, второе тебе по душе, бу-удет тебе кусочек. А я, признаюсь тебе, привык уже к тайновластию и оч-чень даже доволен им. Есть некая сладостная изюминка в тайновластии, уж очень приятно вот эдак облапошивать человечков. В кого я только не обращался, чтобы облапошить. Даже этим Христом притворяться приходилось.
– Да ну! – поразился Федюшка. – А это зачем?
– Опять «зачем»?! Уж коли дурить, так по-крупному, ну и через кого ж еще дурить, как не через Него Самого. Тошно мне преображаться в сей ненавистный мне образ, ой тошно, ой тошно, однако чего не сделаешь ради успеха дела. Помню, монах один... ух крепок был, а как увидел перед собой образ разлюбезного ему Христа, так и побежал за ним, точно собачонка. Обо всем забыл, даже о том, чтобы перекреститься и меня перекрестить, ух!.. Я ему одно только сказал: «Иди за мной». Ну а как до пропасти дошли, я по воздуху, а он вниз, кубарем, ха-ха-ха!
– И ты был похож на Христа?
Федюшке вспомнился сейчас Христов лик на иконе, что висела невдалеке над его кроватью. Уж больно он не вязался с внешностью Постратоиса.
– Ты сомневаешься?! – В скрипении постратоисовского голоса явно слышались нотки обиды. – Так смотри ж! – вскричал он.
И перед Федюшкой возник тот самый образ, что глядел тогда на него с иконы, спешно теперь убранной бабушкой. Только нимба не было вокруг головы того облика, что стоял сейчас перед Федюшкой.
– Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, – услышал Федюшка из уст того, кто стоял перед ним. Никогда и ни у кого до этого не слышал Федюшка подобного голоса, необыкновенно благозвучный, он проникал в самое сердце, за этим голосом хотелось идти, куда бы он ни позвал. И такой голос никогда не позовет в пропасть. И почему-то показалось сейчас Федюшке, что не таким голосом был позван в пропасть тот несчастный монах...
– Ну, как? – перед Федюшкой вновь стоял Постратоис.
– Здорово, – грустно сказал Федюшка, – и голосом похож.
– Голосом? А откуда ты знаешь, какой у Него голос? – подозрительно спросил Постратоис.
Федюшка пожал плечами, не зная, как ответить, не знал он, конечно, какой у Христа голос, но, наверное, он должен быть именно таким, в сердце проникающим.
– До чего же тошно, – сказал устало Постратоис, – это превращение всегда мне стоит бездну сил... Голос, говоришь, похож? Иногда мне даже кажется, что я теряю управление над этим образом и будто Он мною управляет... Однако я заболтался. Пора к гееннскому огню!
– Да! – воскликнул Федюшка.
И стоящий в ушах благозвучный голос улетел.
«...Я успокою вас» – совсем тихо донеслось откуда-то из страшно далекого далека и пропало. Обо всем на свете забыл Федюшка от вскрика Постратоиса «пора к гееннскому огню», ничего больше не нужно ему было.
– Вперед, к гееннскому огню, – не своим голосом заорал Федюшка, – вперед, за бессмертием!
– Бр-раво, юноша, перейдем, так сказать, к десерту нашего праздника.
– А далеко идти? Или опять лететь? – нетерпеливо спросил Федюшка.
– О нет, отлетались, – ухмыляясь, сказал Постратоис, – теперь наш путь – вниз, в могильный Провал и вдоль адского оврага, прямо к геенне огненной. Если не мешкать, быстро доберемся. А чего нам мешкать-то, а?
– Адский овраг? – недоуменно переспросил Федюшка, – а он что, в аду?
– Ну а то где ж?
– Так он есть, ад?
– Ох-ха-ха-ха, ну, а как же ему не быть?
– А... а ты ж говорил, что невозможно поверить, что после смерти здесь наступает жизнь там.
– Говорил. А разве возможно в это поверить? А? Да, в это так же невозможно поверить, как невозможно этого избежать. – Постратоис злорадно усмехнулся: – Ну а куда ж, скажи мне, деваться душам умерших людей? А? Некуда им больше деваться. Пожил достойно в свое удовольствие, ну и пожалуйте к нам, в наше удовольствие, ха-ха-ха... Ты и деда своего там встретишь... Ну а где ж ему еще быть? Странный даже вопрос. Да им там неплохо, неплохо... Там у меня неограниченное право на труд. Отбоя нет от желающих попасть в разряд трудящихся, ибо только так можно вырваться из трясины тоски и страха, в которой они постоянно пребывают. У-у, там есть такие умники-разумники, такие шустряки-мудряки, что у-у. Ученые, ха-ха-ха... Пульт они мне уже сварганили, замечательный пульт. Я через этот пульт пороки в людей рассылаю. А целая бригада их, тру-дя-щих-ся, умственных, так сказать, работников еще одним важным делом занята, самым важным! Мы, черные ангелы, мы, видишь ли, все можем, одно нам заказано – мысли человеков нам читать не дано. А оч-чень бы хотелось, ибо оч-чень нужно. Гляжу вот я на твою мордаху, и виден ты мне насквозь, но это потому, что все твои думы, на мордахе твоей написаны. Без малого ведь 8000 лет читаю я по вашим лицам, поднаторел в этом, но то, что здесь у вас, – Постратоис постучал ногтем по Федюшкиному лбу, – закрыто для меня, понял? Ну вот и создают мне адовы работники машину, которая бы мысли читала. Ничего у них не выходит пока, но – обещают. А то, о чем ты сейчас думаешь, – отринь! И вперед, за гееннским огнем!
А думал Федюшка о том, что какой смысл тогда в удовольствиях на земле, коли ад существует? Если б не было его, если б обрывалась жизнь смертью, тогда понятно, тогда действительно ничего не остается, как хапать удовольствия сколько схапается, но если есть жизнь после смерти, тогда... но тогда ведь только и надо, что именно об этом думать, пока на земле живешь. И в то же время чего думать, если все равно – в ад... Как все равно?! – озарило вдруг Федюшку, да ведь есть же и другое! Есть же Царство благодати, как вспомнилось вдруг то море, то небо, то ощущение свое, когда тихое и радостное солнце ласкало своими лучами его тело и душу, когда этот противный, мерзкий, бесформенный комок не летал, хохоча, ибо его просто не было...
И в это время когтистая ладонь Постратоиса так хряпнула его по спине, что у него в голове загудело и все мысли разом выскочили. А чуть-чуть спустя он висел перед испытующими прищуренными глазами Постратоиса, поднятый за шкирку.
– Что-то ты мешкаешь, юноша, – зловеще проскрежетали губы-ниточки, – а то ведь я не неволю. Выбирай. Так ты идешь за бессмертием моим?!
– Иду, иду, – заверещал Федюшка, – бегу! Куда?
– Бр-раво. Я жду тебя на кладбище у могилы твоего деда. Там есть и твой провал. Знаешь, где это?
Федюшка кивнул в ответ. Постратоис захохотал в ответ, поставил его на пол и взвился в потолок. Последовал удар, треск от удара, и Постратоиса не стало. За ним пропала торжествующая нечисть, последней в дымоход улетела в бочке баба-Барбарисса.
И остался Федюшка один. Он постоял немного и попытался было в порядок привести круговерть мыслей и переживаний, переполнявших его. Но ничего не получалось. Вновь услышалось: «Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные...» Защемило сердце, захотелось чтобы этот чудо-голос что-нибудь еще сказал. И когда еще звучал этот голос, когда... «и Я успокою вас» окутывало все его существо, и хотелось окончательно раствориться в этих окутывающих звуковых волнах, прошершавило скрепуче где-то вдалеке голосом Постратоиса:
«...Я не неволю. Выбирай».
«А вдруг он не дождется меня у провала?»
Выдула эта мысль окутывающие звуковые волны чудо-голоса, торпедой вынесла Федюшку из спаленки.
Сидевшие в молчании папа, мама и бабушка в один голос вскрикнули, когда Федюшка ворвался в комнату, где они сидели. Он хотел проследовать дальше, в переднюю, но бабушка встала на его пути.
– Погоди-ка, внучек, растолкуй нам, что это за сундучок?
Остановился Федюшка, окинул всех нетерпеливым злым взглядом и понял, что бессмысленно говорить про полет, про старика из ямы и вообще про все то, что произошло с ним за последнее время.
– Нашел, – буркнул он.
– А не врешь? – спросил папа равнодушно. Равнодушно потому, что, по его мнению, действительно нашел, потому что украсть такую шкатулку с таким содержимым в окружающих полупустых, разрушенных деревнях просто негде и не у кого.
– Не вру, – равнодушно отвечал Федюшка. И тут он вспомнил, что он ведь теперь колдун! Федюшка напряг глаза и действительно увидал блестящие разноцветные нити, натянутые между папой и мамой. Ни папа, ни мама, понятно, не замечали их, как не замечали они их переплетения и в самих себе. Федюшка учуял-угадал самую главную ниточку, связывающую их и... «Опомнись, что ты собираешься делать?» – услышал вдруг Федюшка тот чудо-голос, что недавно обрамлял его сердце, – это же мать твоя!» Многократным эхом отразились эти слова от стен комнаты, где пребывала Федюшкина семья.
...И – дзень! Полоснул Федюшка по разноцветной ниточке сгустком силы, выпущенной из своего лба. Всё это получилось само собой и будто не в первый раз. Но слаба оказалась сила, вздрогнула ниточка, звенькнула, вроде даже и надорвалась, но совсем не порвалась. При этом мама повернула голову в сторону папы и очень недоброжелательно на него глянула, папа ответил тем же.
– А я сегодня братика своего во сне видел, – сказал Федюшка, – его, как и меня, Федей назвали. – И при этом Федюшка в упор глядел на маму. – Он больной весь. Урод.
– У тебя нет никакого братика, – сказала мама, когда немного опомнилась от сообщения.
– Нет, есть, – твердо и зло ответил Федюшка, – он не умер тогда, он выжил, он жил в интернате, но его обижали там, и он убежал. Теперь он при церкви живет в двух остановках отсюда. Ужасный урод, противный... – Сейчас он действительно казался Федюшке противным.
– Ой! Да это не Федечка ли болезный? – воскликнула бабушка.– Есть там среди нищих такой.
Лицо у мамы вмиг переменилось, она совершенно перестала быть похожей на себя и сразу постарела лет на двадцать. Она закрыла лицо руками и быстро-быстро закачала головой, что-то невнятно бормоча. Федюшка уныло глядел на маму, ни капли жалости и сочувствия к ней не шевельнулось в его душе. Наоборот, он со злорадством вынул из кармана яблоко раздора и положил на стол. И, пользуясь всеобщим замешательством, рванулся к двери и был таков. Так быстро, как он бежал к кладбищу, он никогда не бегал.
Добежав до могилы деда, он едва не рухнул от изнеможения к ногам Постратоиса, который уже был там.
– Нехорошо обо мне думать дурно, юноша. Ужель, обещав тебе огня гееннского, могу я улизнуть. Однако, бр-раво! Твоя прыть мне понятна. Хвалю! Итак, ломай крест на могиле и – вперед.
– Как?! – оторопел Федюшка, – как крест ломать? Зачем?
– Плечиком, плечиком ломать, или руками, мне все равно чем. И еще одно «зачем»...
И Федюшка бросился на деревянный крест, будто на одушевленного врага. Подгнившее дерево затрещало, и через несколько минут крест был свален.
– Копай яму на этом месте, – скомандовал Постратоис, – и, как зазвенит лопата, копать прекращай. На, на лопату, не озирайся, лопаты не валяются в сугробах. Кстати, а где ж твой сундучок?
– Там остался, – еле переводя дух, отвечал взмокший Федюшка, – родители смотрят. Наверное, не отдадут.
– Ну-у, не отдадут... Отдадут, это я мигом, – сказал Постратоис и исчез. Не прошло и минуты, как он вновь появился, но уже с сундучком в когтистых своих руках.
– Напутал небось родителей? – спросил Федюшка. И даже не удивился уже сам тому, как весело прозвучал его вопрос.
– Напугал, напугал, – радостно подтвердил Постратоис, – еще как напугал, ха-ха-ха. Я когда из воздуха возник, а возник я по пояс, наполовину только, так они, бедные, даже не вскрикнули, языки проглотили. Ну поглядел я на них немного, поклонился и сундучок забрал. Ну и сказал, что, дескать, наше это, прошу, так сказать, пардону, ха-ха-ха, бабка мне вдогонку крестное знамение послала, да поздно.
– А ты боишься креста? – настороженно спросил Федюшка. И сразу вспомнилось про того монаха, который забыл про крестное знамение и оттого улетел в пропасть.
– Да, боюсь, – пряча глаза ответил Постратоис. – Надо же чего-нибудь бояться. Дух ненавистного мне Христа на каждом кресте. Он пока еще не побежден. Но с такими, как ты, нам ли не одолеть Его?!
– А что, если колдун, значит против Христа?
– Ну а то как же? Опять вопросы?! Звякнула лопата, открыта дверь, вперед!
Постратоис шагнул в яму и с воем ухнул вниз.
Федюшка в нерешительности глянул туда и ничего, кроме черноты, не увидал. Очень страшно было шагать в яму. Федюшка с тоской в сердце огляделся вокруг. Чудное зимнее утро царило кругом. Пустой холодный храм без крестов возвышался над кладбищем и всей окрестностью и казался задумавшейся скалой. И будто бы о нем, о Федюшке, была его задумка. И кладбищенские кресты, и поваленный им крест на могиле деда, который один из всей деревни защищал этот храм от закрытия и все равно не защитил, все ожили они в его сознании, и все они горькой думой думали о Федюшке. Ему даже передалась та горечь, и еще горше защемило тоской его сердце, добрались до него зубки старухи Тоски. Все вокруг звало его остаться здесь, на земле, среди чуда морозного утра, звенящего воздуха и сверкающего снега и не ступать в страшный провал.
И тут вдруг невероятная злость колдовская охватила Федюшку на все окружающее – на кресты, на храм, на снег, на воздух. Он издал и самому малопонятный дразнящий звук и, показав чудному утру язык, шагнул в яму.
«Расшибусь!..» – мелькнула страшная мысль, когда ветер завыл в его ушах. И тут же он услышал:
– Да открой глаза, ты уже на месте. Заждался я.
Открыл Федюшка глаза и увидал перед собой Постратоиса.
– Мы в подземелье? – растерянно озираясь, спросил Федюшка.
Постратоис отрицательно покачал головой:
– Нет, юноша, это слишком просто звучит – «подземелье». Мы не над землей, мы в Провале. Погляди кругом, какой величественный пейзаж!
Пейзаж состоял из необыкновенной ширины черной реки с голыми пустыми берегами. И больше ничего. По реке сплошняком плыли какие-то серо-черные обломки не пойми чего. Будто жуткий черно-серый ледоход по стремительной черной жиже. Только вместо льда нагромождение причудливых форм разной величины – и со щепку, и с автобус. Вдалеке темнели две горы, меж которых река утекала за горизонт. Оттуда доносился непрерывный грохот, будто низвергалась она там с огромной высоты.
– Да, наш путь туда, – громко и торжественно сказал Постратоис, – там, за двумя горами, – грехопад! Там кончается адский овраг, по которому течет река, там разливается она, и там, в огне гееннском, горит то, что она несет на себе, овеществленные, так сказать, делишки, грехи и грешки умерших. Только умирает человек, и то, чем одарил он нашего пупырчатого друга, прямиком сюда, в эту реку. И все замыслы умершего, мечты, так сказать, ха-ха-ха, все, что собирался он сделать да не успел, все здесь. Ничто не пропадает, здесь у устья, здесь все это уже почти развалившееся, а там, в начале, так такие дворцы плывут, мешки с деньгами, ха-ха-ха. И все – сюда, чтобы низвергнуться грехопадом в гееннский огонь, ха– ха-ха!.. Вон, гляди, какая загогулина плывет. И чего только человеку на ум не взбредет.






