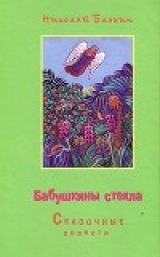
Текст книги "Бабушкины стёкла"
Автор книги: Николай Блохин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 19 страниц)
Николай Владимирович Блохин

БАБУШКИНЫ СТЁКЛА
Сказочные повести

Бабушкины стёкла
У Кати умерла бабушка. Катя бабушку очень любила и смерть ее переживала очень сильно, мама с папой даже испугались. Она горько рыдала, кричала: «Бабуся, бабуся!..» – и рвалась в бабушкину комнату, где та лежала уже прибранная.
Пока бабушка была жива, она баловала внучку так, как, пожалуй, не баловал никто из бабушек Москвы, хотя известно, что московские бабушки балуют своих внуков больше всех в мире. Мама с папой тоже баловали Катю, исполняя по мере возможностей все ее желания. Но чем больше они ее баловали, тем больше Катя им дерзила и меньше слушалась.
А вот с бабушкой все получалось как раз наоборот. Правда, бабушка и не требовала послушания: все Катины буйства и капризы она пресекала рассказыванием дивных сказок и историй. Рванет, бывало, Катя на плюшевом зайце штанишки, которые никак не хотели сниматься, обзовет их, стукнет заодно и зайца и его обзовет, а бабушка погладит Катю по головке, посадит к себе на колени, скажет: «Слушай, Катенька, какую я тебе историю расскажу», – и начнет:
– Жила-была девочка, звали ее Маша...
– Верующая? – спросит Катя.
– Да, – отвечает бабушка.
– Послушная?
– Да, конечно, раз верующая. Правда, забывчивая была: забывала иногда помолиться перед важным делом, например, когда есть садилась...
– Тоже мне, важное дело, – засмеялась Катя.
– Да ты погоди, – продолжает бабушка. – Так вот, собирается она однажды обедать. Руки помыла – и бегом за стол. «Стой, – говорит ей мама, она у нее верующая была. – Ты же не молилась». А Маша уже за ложку схватилась, и вставать, через табуретки к иконам пробираться ей лень. «Я про себя», – отвечает. Пробормотала быстро-быстро, так что и самой не понять, «Отче наш» – и снова за ложку, да впопыхах попала локтем на край тарелки. Суп-то горячий и плеснул на нее – на платье, на лицо, на руки! Как закричит Маша, как вскочит да ногами затопает, как заругается на суп: «Ах, негодный! – кричит. – Ах, противный, не буду тебя есть!» – «Да чем же суп виноват? – мама спрашивает. – Суп-то – ведь это вода, мясо да овощи бессловесные! Однако хоть и бессловесный он, суп-то, а сам не захотел, чтоб ты его ела».
Перестала Маша ногами топать и спрашивает: «Как это не захотел, почему это?» – «А потому, – строго-строго говорит мама. – Не сам, конечно, суп – Бог это не захотел, поняла? » Приблизила мама свое лицо к дочкиному и ласково так смотрит.
«Почему это Бог не захотел?» – все еще дуясь, спрашивает Маша. – «А ты у Него благословения спросила?.. И не плачь, не голоси, а радуйся: ты о Нем забыла, а Он о тебе – нет. Радуйся, что Он не хочет, чтобы ты без Его благословения что-то делала. Вот ведь как любит Он тебя, вот как предостерегает». – «Да ну, мам, всего лишь суп разлился, а ты сразу про Бога», – сказала Маша. Она уже успокоилась. «Экая ты, – погрозила ей мама пальцем. – То как кошка ошпаренная кричала, а то «всего лишь суп». Это не ты – это гордыня-капризуля твоя, ведьма гадкая, за тебя заговорила. Ей про Бога тошно слушать, вот и думает она про себя: лучше уж я орать перестану да все к пустячку сведу. «Пустячок-де: всего-то суп разлила». Я тебе!» – «Это какая же гордыня-капризуля? » – спрашивает Маша. «А такая: черная змеюка с козлиной головой. Когда ты с Богом на устах да в сердце, эта змеюка, как ни крутится, а добраться до тебя не может. А как ты про Бога забыла, так она – прыг в тебя и живет там, куролесит. В прошлый раз я ее ремешком вышибла, а она опять тут как тут. Что, еще раз за ремешок взяться?» – «Не надо за ремешок, мама», – присмирела Маша, потупилась. «То-то «не надо», – отвечает мама. – И малейшего дела нельзя без Бога делать. Да и нет их, малых да малейших дел – все дела большие. Суп сварить – дело, съесть – тоже дело, одежду почистить – дело, домик нарисовать – тоже дело. Кто в малом деле верен, тому большое доверится, а кто в малом неверен – кто же ему хоть что-нибудь доверит? Так Господь говорит. А Он не шутит». Вытерла Маша слезы и с тех пор про молитву никогда не забывала; памятлива стала на молитву, а на злость да на вопли забывчива. Вот такая история.
Соскочит Катя с колен бабушки – и опять за игры, а если снова что нападет на нее – тут же коленки бабушкины наготове, и новая история тут как тут. Так и коротали время, пока родители с работы не придут.
Мама и папа у Кати – инженеры. Умные страшно. Про все они знают, даже про то, чего никогда в жизни не видели.
– Мама, а откуда люди пошли? – спрашивает Катя.
– Тебе этого не понять: учиться надо... Иди спроси у папы.
– Папа, откуда люди пошли?
– Оттуда, – папа улыбается, – из обезьяны.
Катя хохочет: думает, папа шутит.
– А из какой обезьяны?
– Ее уже нет. Она взяла в руки камень, сделала из него случайно топор, ей понравилось, она сделала еще – и так постепенно стала человеком.
– А давай Маврику дадим камень и научим его быть человеком!
– Маврик – кот, – отвечает папа, – а нужно обезьяну. Они развитые, а коты неразвитые.
– А если мы его разовьем? – не унимается Катя.
– Его не разовьешь, ему в развитии предел положен.
– Кем?
Тут папа говорит:
– Погоди, выучишься – поймешь. Иди к бабушке.
И снова Катя с бабушкой, и снова слушает истории...
По воскресеньям, когда папа и мама отсыпались, бабушка вела Катю в церковь Казанской Божией Матери, что прямо напротив них, только дорогу перейти.
Родители были уверены, что бабушка ходит с Катей на рынок.
– Бабуся, а почему ты папе с мамой правды не говоришь, куда мы с тобой ходим?
– Эх, Катюша, – вздыхала бабушка, – не вместить им такой правды, шум да гам один выйдет.
– Бабуся, а ты чья мама?
– Мамина.
– А папе ты кто?
– Теща.
– А что же ты маму не научила Бога любить, когда она была маленькая? – допытывалась Катя.
– Мой грех, Катюша, мой грех... – вздыхала бабушка. – Я сама-то Бога совсем недавно полюбила. Да и то не крепко. Разве можем мы крепко любить!.. – И снова тяжело вздыхала. – Боялась я учить твою маму Бога любить, когда она была такой, как ты. Было чего бояться. Вырастешь – поймешь.
– Ты совсем как папа: «Вырастешь – поймешь»! – передразнивала Катя.
Бабушка только вздыхала.
В храме на литургии Катя пробиралась вперед и отстаивала всю службу замечательно. Бабушка уже учила ее: когда на службе устанешь сильно, молись Николаю Угоднику, проси подкрепления. А икона Николая Угодника как раз была рядом с Катей. С Николаем Угодником Катя была накоротке и звала его «батюшка Никола». Дома, однако, быстро терялось чудное настроение, храмом подаренное, которое бабушка называла «благодатью Причастия». Очень не любила Катя врать маме и папе про рынок, где они не были. Бабушка при этих завиральных рассказах так страдала, что даже в лице менялась, – однако все же не решились они сказать правду. Остаток воскресенья до вечера проходил у Кати, по бабушкиной мерке, плохо.
– Транжиришь благодать, как пьяный купчик отцовские деньги, – так говорила бабушка Кате и сидела все время в своей комнатке.
Мама все воскресенье была чем-то занята, и Катя носилась между ней и папой, который сидел за столом, что-то писал и постоянно поминал какого-то Понырева, которого обещал обязательно съесть.
– Как съесть? – спрашивала всякий раз Катя, хотя слышала это уже сто раз.
– Живьем, – говорил папа, не отрываясь от бумаг.
– А разве можно? Да и невкусно...
– Таких – надо. А будет невкусно – пожую и выплюну.
– Он твой враг?
– Он не только мой враг.
– А бабушка говорит, что врагов любить надо.
– Вот пусть она и любит.
А бабушка тем временем закрывала двери своей комнатки и даже Катю не впускала. Каноны и акафисты читала. Что это такое, Катя еще не знала.
И вот бабушки не стало.
Против своей воли, но все-таки повинуясь воле покойной, папа и мама похоронили бабушку церковным обрядом. Прошли дни. Катино горе притупилось, и она слегка ожила...
Как-то раз папа и мама начали осмотр бабушкиной комнатушки. Папа говорил, что в ней надо привести все в порядок, хотя и так все было в отличном порядке. Мама выразилась по-другому: «Освободиться от хлама». Вот тут-то и начались дивные чудеса, бесповоротно изменившие жизнь многих других семей, а не только Катиной.
Бабушкина комнатка в длину была – четыре шага, в ширину – два с половиной. Треть комнатки занимал старый-престарый комод с зеркалом, напротив комода стояла железная кровать, а в правом углу – тоже очень старая тумбочка. Ходить можно было только боком. На тумбочке были книги и иконы маленькие, а большие иконы, украшенные так, что заглядишься, висели над тумбочкой. Сорок пять икон и иконок было у бабушки.
– Иконы не выкидывайте, иконы отдайте мне! – звонко и дерзко заявила Катя.
Папа и мама оторвались от разбора бабушкиных бумаг и уставились на дочь.
– А тебе они зачем? – спросил наконец папа очень грозно, притом растягивая слова.
– А затем, – ответила Катя. – Бабушка их мне оставила и вам так наказала, я все знаю! Мои они! И вообще... по воскресеньям мы ходили не на рынок, а в церковь, вот. Э-э! – и Катя, сама того не ожидая, разинула рот и показала родителям язык... да и затряслась вдруг в горьких рыданиях. Спасли эти рыдания Катю от родительской расправы, и все дальнейшее выяснение шло почти в спокойном тоне.
– Ну-ка, ну-ка, – сказал папа и притянул к себе Катю, – расскажи об этом поподробнее.
И Катя с удивлением почувствовала, что не может рассказать так, как ей хотелось бы, так, чтобы родители поняли. О, если бы могла им все объяснить бабушка, но ведь даже и ее родители не понимали. Как-то так уж получалось, что всегда, когда а они с бабушкой выходили из храма, раздав всем просящим милостыню, вылетало быстро из Катиной головы то, что она видела и слышала, забывались молитвы и возгласы, из памяти души выветривалось чувство благоговения, которым она была охвачена в храме. Жизнь улицы и дома совсем не походила на жизнь храма, где, как говорила бабушка, живет Бог. Оказалось, что и историй бабушкиных, которых была, пожалуй, тысяча, не помнит она совсем. Папа ждал, а Катя не знала, с чего начать... Папа погладил ее по голове:
– Оболванила тебя бабка, чепуху всякую в головенку вдолбила...
Это папино богохульство и преобразило Катю. Никто из нас не знает, отчего наш взор часто просветляется тогда, когда нам сказано злое слово. Один Бог знает. Сколько раз от нас отскакивали умные и правильные нравоучения, а один лишь вздох укоризненный приводил вдруг в доброе чувство! Неведомы нам тайны собственной души, Один Бог их ведает. И Катя начала рассказывать. Оказалось, что она помнит, как крестили ее два года назад. Ничего больше не осталось в памяти от того времени, а крещение – помнит.
И если ее рассказ ошеломленным родителям покажется тебе, мой дорогой читатель, слишком складным для шестилетней девочки – не удивляйся: Бог даст, и у тебя случится такое же, если о Нем тебе придется говорить.
– Сначала было рождество Богородицы... – начала она.
– Какое рождество? Какой Богородицы? – вскричал папа. – Ты о ваших с бабкой делах говори.
– Никаких дел нету, – невежливо глянула Катя на папу. – А началось все с рождества Богородицы.
Больше папа не перебивал.
– Без Нее бы и Спасителя Христа не было, а значит, и вообще ничего бы не было, потому что не было бы христиан, а без них люди давно бы загрызли друг друга, как ты Понырева все загрызть хочешь. Папе и маме Богородицы, Иоакиму и Анне, Она была подарком от Бога. Праздник есть такой, осенью бывает – Рождество Богородицы. И вся земля в это время рождает, людям плоды отдает, которые ей Бог повелевает отдавать.
А в Христово Рождество, зимой, наоборот, на земле тишина и покой. Христос тихо родился, в пещере, в городе Вифлееме. Папа у Христа – Бог, а мама, Богородица, – человек, а Сам Христос, значит, Богочеловек, Бог Сын. Вся земля, все люди Его Рождению внемлют, ждут. И как родился – радуются, а до этого постились, ждали... А нехристи, когда христиане постятся, Новый год празднуют. А какой же Новый год, когда Христа еще нет? Не от чего года отсчитывать! А свершилось Рождество – тут и время наше пошло. Потом маленького Христа Спасителя в храм принесли Богородица и Иосиф-плотник, а Симеон праведный – он триста лет жил, ему обещано от Бога было, что не умрет, пока Спасителя мира не увидит, – сказал: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром». Эту песню на каждой всенощной поют.
А когда вырастет Спаситель, Его Иоанн Креститель окрестит. Это праздник Крещения. Самый мороз на земле. Все христиане в храмах воду берут крещенскую, святую. И вся вода в этот день на земле – святая. Из всех святых вод крещенская вода – самая святая, целебная. Если с верой выпить ее – любую болезнь исцелит.
Потом, к весне ближе, масленица наступает, Прощеное воскресенье, все друг у друга прощения просят, и сразу – Великий пост. До Пасхи скоромное не есть, молиться и от зла воздерживаться надо.
Папа вздрогнул. Кто уж его знает – почему.
– В Великий пост два больших праздника – Благовещение и Вербное воскресенье. В Благовещение Архангел Гавриил посетил Богородицу и объявил Ей, что у Нее будет Сын. Сын Божий, Богочеловек.
В Вербное воскресенье Христос на осле в Иерусалим въехал. Как Царя Его встречали, а когда Он торгующих из храма Иерусалимского изгнал и стал доброте да кротости учить, а не войска собирать, чтоб римлян побить – потому что тогда Иерусалимом римляне владели, – возненавидели Его иудеи и замыслили убить.
И убили, на Кресте распяли в Страстную пятницу, а в четверг Спаситель подарил людям Причастие, чтоб каждый день Его Тело ели и Кровь Его пили во здравие души и тела. Только надо говорить не «ели и пили», а «вкушали». И каждый день на литургии мы, – теперь вздрогнула мама и даже за сердце схватилась, – их вкушаем. Но Тело и Кровь Его – они в виде вина и хлеба, а иначе людям не вместить, иначе страшно. А претворяются хлеб и вино в Тело и Кровь Духом Святым, Который нисходит с Неба в алтарь. Священник об этом Его просит, молится – Он и сходит. А еще на литургии Евангелие читают, мертвых поминают, чтоб не в аду, а в Царствии Небесном жили. И живых поминают, чтоб хорошо и без греха на земле жили. И поют, так сладко и красиво, как нигде больше не поют! А всего красивее на Пасху поют: «Христос Воскресе!» Всем великая радость, всех праздников Праздник. И в колокола всем разрешают звонить, и я звонила. Распяли, похоронили, а Он воскрес, и для всех теперь, кто в Него верит и Его слушает, Царствие Небесное открыто. И врата Царские в алтарь всю Светлую седмицу открыты. Через две недели Пасха – сами увидите.
Наконец папа и мама очнулись,
– М-да-а! – сказал папа. – Сла-ав-ненько, нечего сказать.
Это верно, что сказать ему нечего было. Взрослые часто, когда им нечего сказать, говорят «м-да» или «ну и ну», а после этого «хо-ро-шо» или «вот те на» и, наконец, бессмысленное «нечего сказать». Мой юный друг, когда ты будешь взрослым и тебе будет нечего сказать – промолчи.
Катя тоже была поражена тем, что так складно выплеснулось из ее уст на голову родителям, которым нечего было сказать. Сейчас ей казалось, будто это бабушка стояла рядом и говорила родителям то, что когда-то говорила Кате. Но ведь не только бабушкины слова выходили из Катиных уст! Нет, и своих, из души идущих слов очень много было! И откуда они там взялись?
– Катерина, выброси немедленно всю эту глупость вон из головы! Это я тебе говорю, слышишь?
Катя, конечно же, слышала, что говорила мама. Тем более что говорила она это... Каким словом объяснить, что за голос, что за тон были у мамы? Если бы повесть эта предназначалась только взрослым, я б назвал его железным, каменным, ледяным. Ну а ты, мой юный читатель, представь просто, что нашел где-нибудь в овраге заряженную мину и решил испытать в квартире, взорвется она или нет. А когда тебя схватили за руку, ты заявляешь, что у тебя еще одна есть и ты все равно ее испытаешь. Скажи, каким голосом тебе мама скажет: «А ну-ка, выброси это из головы»? Вот точно таким же и сказала мама Кате.
Во что бы перешли мамины угрозы и чем бы все это кончилось, неизвестно. Возможно, интеллигентный папа на примере обезьян и кота Маврика доказал бы Кате, что Бога нет и не может быть, потому что не может быть никогда. Нечего теперь гадать. Это теперь совсем неинтересно, а начинается-то как раз самое интересное. Самое удивительное начинается.
Во время всего этого разговора папа и мама сидели в разных углах комнаты: папа на кровати, а мама на стуле у двери. Катя стояла напротив огромного зеркала и, когда поворачивалась к нему, видела себя, а вот папа и мама, посмотри они в зеркало, себя бы не увидели, а увидели бы друг друга. Таков закон зеркал. И они посмотрели. И они увидели. Мама закричала вдруг так, как если бы из зеркала на нее прыгнул тигр. Папа не закричал, а выпучил глаза, повалился назад и издал короткий хрипящий звук. Катя испугалась и тоже повернулась к зеркалу. И она сразу поняла, что в зеркале она какая-то не такая. Никакого румянца на щечках нет, лицо какое-то серое, и нос слегка кривоват, и губы не такие розовые, как всегда, и уши оттопыренные. Катя удивилась, вгляделась: вроде она стоит в зеркале и... не совсем она.
– Ой! – опять вскричала мама. – Господи, что это?!
Она вся дрожала и показывала рукой на зеркало. Потом шагнула к нему, чтобы увидеть себя, и тогда Катя заголосила, да, пожалуй, пострашнее Маши из бабушкиной истории, когда та на себя горячий суп пролила. Мамино платье в зеркале было в должном порядке, на руки и ноги Катя не обратила внимания – да и на что тут было еще внимание обращать, когда вместо маминого лица в зеркале из маминого платья торчала жуткая бесформенная всклокоченная башка с ужасной оскаленной харей. Да-да, по-другому никак нельзя назвать то, что обыкновенно было маминым лицом. Громадные зубищи, губищи отвислые, так что подбородка не видать, и глазищи... страшные, нечеловеческие какие-то, маленькие и злые. И почти нет лба. И все это черно-кровавого цвета, а глазищи – белые. Они хоть маленькие, но назвать их глазами просто язык не поворачивается.
Справа от Кати в зеркале возник папа. Но разве это был папа?! Его лицо, прости Господи, даже харей нельзя было назвать. Его глазищи, наоборот, в отличие от маминых, были с блюдце, а черные зрачки, будто кляксы чернильные, смотрели так страшно и в то же время притягивающе, что Катя, хоть и трепетала от ужаса, не могла оторваться от них! Все остальное на этом бывшем лице можно, конечно, описать... Однако пойми меня, юный читатель, очень не хочется.
Поверь, что страшное и злое описать писателю куда проще, чем красивое и доброе. Точно в пальцы, которые ручку держат, и в голову, которая этими пальцами командует, вселяется некая сила: она и слова смачные подсовывает, которых не знал до той минуты, да как раз к месту! И удовольствие даже от этого описания чувствуешь... Очнешься от этой силы, глядишь – и-и, сколько настрочил! Избави, Господи, от этой силы. Так что обойдемся, наверное, без точного описания бесовской маски.
– Что же это такое, Костя? – наконец спросила мама. Голос дрожал и заикался. И сама дрожала, но, слава Богу, больше уж не кричала. Папа с мамой переглянулись, снова посмотрели в зеркало, снова переглянулись и опять – в зеркало. Мама приблизила лицо к зеркалу, дотронулась до своего отражения, провела по нему пальцами и, теперь уже шепотом, произнесла:
– Господи, что же это такое?
А папа улыбнулся – и какую же отвратительную гримасу состроило в ответ его отражение:
– М-да! Интересненько! Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи... – но, несмотря на улыбку, его всего передернуло. – Я думаю, что из-за Катькиного рассказа мы все немножко сошли с ума. Пойдемте-ка поедим да подумаем, а там посмотрим, – бодро закончил папа.
И папа с мамой, оглядываясь на зеркало, вздыхая и восклицая, вышли из бабушкиной комнатки. Они сели за стол напротив друг друга, и папа опять сказал свое знаменитое «м-да» и виски потер, а мама вздохнула и покачала головой.,.
– Пожалуй, они тебе великоваты, – сказал вдруг папа, глядя маме за спину, и улыбнулся.
Мама обернулась. Перед родителями стояла Катя. Она была очень серьезна, и на ней были надеты бабушкины очки. Тут и мама улыбнулась. А Катя на улыбки родителей ответила так:
– Я вас в эти очки вижу такими же, как в зеркале.
– Что?! – Папа вскочил и чуть стул не опрокинул. – Ну-ка, дай сюда. – Он быстро снял с Катиного носа очки и надел. Долго смотрел на маму, потом снял и сказал со вздохом: – Да. Та же морда. Ну, и я, естественно, такой же.
Катя кивком головы подтвердила, что такой же. Мама стала суетиться и искать на столе свои очки – она была близорука – нашла, нацепила дрожащими руками и вскинула глаза на папу, потом на Катю.
– Ну и что? – спросил папа. – Все нормально? – Он хоть и вопросительно спросил, но по его голосу слышно было, что он в этом и так уверен.
Мама, сглотнув воздух, кивнула головой.
– М-да, чудят бабусины вещички, – многозначительно сказал папа. – Ин-те-рес-нень-ко.
А Катя стояла тихая и задумчивая. Обед прошел молча и тягостно, кусок никому не лез в горло. Папа и мама пустыми глазами смотрели в свои тарелки и ели машинально...
Пустые глаза – это вот что значит. Когда ты, мой дорогой друг, чем-нибудь сильно занят, твои глаза поглощены этим занятием; на себя в этот момент ты, конечно, не смотришь. Но если кто-нибудь на тебя посмотрит, увидит их работающими – думающими, сосредоточенными, веселыми, грустными. Да-да, грусть – это тоже работа глаз, никто никогда не скажет, что грустные глаза – пустые. И даже когда глаза отдыхают, они ни в коем случае не пустые. Перед сном, когда ты смотришь в потолок, они у тебя усталые и готовятся смотреть сны. Итак, глаза всегда куда-то смотрят, хотя бы в потолок, а пустые глаза смотрят в никуда и – ничего не видят. Мечтательные глаза, кстати, тоже можно назвать пустыми. Ведь мечта – это «фу», нечто несуществующее. Пустым делом занимается тот, кто смотрит на то, чего нет.
После обеда все немного оттаяли, успокоились. Мама с папой только и делали, что в очки и на очки смотрели и к зеркалу бегали, а папа его еще и обследовал, то есть ощупал, со всех сторон и сказал: «М-да», – и, конечно же, добавил: «Интересненько».
Папа и мама корчили зеркалу рожи, и такое от этого получалось отражение, что не приведи Бог и в страшном сне увидеть. Катя же сидела тихо и в родительской суетне, на игру похожей, не участвовала. На душе у нее было тяжело.
А родители, навосклицавшись, надивившись странному явлению, совсем успокоились и решили срочно вызвать дядю Лешу, папиного брата, а Катиного дядю – большого ученого. Они уже развеселились, а папа, надев очки, даже похохатывал, когда на маму смотрел. Особенно, когда она руками махала и прикрикивала: «Перестань!»
– Дядя Леша будет в восторге, – сказал папа.
Катя же никак не могла взять в толк, чем здесь восторгаться, и все больше мрачнела.
Наконец, дядя Леша пришел. Папа жестом остановил его в дверях, навел бабушкины очки и глянул... И так вдруг засмеялся, что поперхнулся и закашлялся. Иногда про такой смех говорят: «Заржал». Но мы так не будем говорить. И ты, мой юный читатель, никогда не говори так про человека, даже если это очень похоже: ведь человек не лошадь.
Мама сняла с папиного носа очки, надела и тоже засмеялась. Катя подбежала:
– И мне дай. – Она, взглянув, вскрикнула ужасно и очки отбросила так, что папа едва перехватил их на лету.
Дядя Леша настолько был страшнее папы и мамы, насколько их морды через очки были страшнее их настоящих лиц.
Дядя Леша конфузливо и галантно улыбнулся в ответ на все это и спросил:
– Так что все это значит, граждане родственники?
Ты хочешь спросить, дорогой читатель, что такое «галантно». Это когда твоя мама (очень хорошо, если подобного не было в твоей семье) полчаса, положим, рассказывает папе, какая плохая тетя Клава (назовем ее так), и вдруг – звонок в дверь, и на пороге тетя Клава. «О, – говорит мама, – как я рада». Мамину улыбку при этих словах вполне можно назвать галантной. И конфузливой тоже.
– Да вот, дядя Леша, ознакомься, – сказал папа уже серьезно, хотя и не без улыбки. – Надень-ка, – и он протянул дяде Леше очки.
Дядя Леша надел очки и взглянул на папу. Брови у него поехали на лоб, лоб сморщился, рот раскрылся, а сам он как бы присел, напружинился. Несколько мгновений он пробыл в такой неудобной, смешной позе и переводил взгляд с папы на маму. Затем выпрямился, снял очки, протер их, опять надел и, держа уже руки в боки, снова осмотрел через них маму, папу и Катю. На Катю он глядел почему– то гораздо дольше. Он был спокоен и задумчив. Ученый ведь!
Потом папа проводил его к зеркалу, и он обстоятельно изучил свое, папино и мамино отражения. Катя наотрез отказалась и смотреть, и демонстрировать.
– Так. Очки мне на исследование дадите? – спросил дядя Леша.
– Нет, – ответила Катя, – они бабушкины.
– Хоть одно стеклышко? – Дядя Леша сел перед Катей на корточки, и его глаза оказались на уровне глаз Кати. – Да я тебе его верну. Я только узнаю, отчего оно такие чудеса показывает, и отдам.
– А ты узнаешь?
– Обязательно. Человек, когда захочет, все может узнать.
Катя с сомнением посмотрела на дядю Лешу.
– Ты ученый?
– Ага, – почему-то с улыбкой ответил дядя Леша. – Но, если бы я был просто ученый, я бы никогда это не разгадал. Просто ученый посмотрит в это стеклышко и с ума сойдет или скажет, что это чепуха и быть этого не может. А я, видишь ли, в свободное от бездельничанья на работе время, – все взрослые улыбнулись, – занимаюсь парапсихологией. Это... это... как бы тебе объяснить – наука, изучающая психические и духовные силы человека. Она стремится дать человеку возможность взять эту силу в руки: огня не бояться, предметы двигать на расстоянии... Я ведь почти могу уже на столе маленькие чашки передвигать! В общем, стремимся душой управлять. Я ведь верю, что душа – та душа, которую пощупать нельзя, – она существует.
– А в Бога ты веришь? – спросила Катя.
– Фу, Катенька, скоро в первый класс пойдешь, а о таких глупостях говоришь! Какой там Бог?! При чем тут Бог? Просто в природе все запрятано. Надо шире и зорче смотреть.
– Так ты колдун, что ли?
– Точно. В какой-то мере – да. В темные века людей, повелевающих духовными стихиями, колдунами называли. И даже на кострах сжигали.
– Правильно сжигали, – вдруг сердито заметила Катя.
– Как?!
– А что же еще делать с колдунами, если они колдуют и к Богу повернуться не хотят?
– А что это ты про Бога так часто упоминаешь?
– Потому что я в Него верую.
Дядя Леша выпучил глаза так, как не выпучивал их, когда в бабушкиных очках впервые на папу и на маму смотрел. И затем вопросительно посмотрел на папу. Папа махнул рукой и сказал:
– Мы уж тут наслушались... Денек!..
О мой юный читатель, ты, возможно, уже устал от дяди Леши и его умного многословия. Ничего не попишешь – ученый! Ученые сродни вам, детям, только не по чистоте сердца, а по любви к играм. Ведь наука для них – что для вас шайбы или куклы. Да еще и хвастают притом: «Мы – одержимые!» Про одержимость ты подробнее позже узнаешь, а сейчас я открою тебе один дяди Лешин секрет, его страшную тайну. Он ведь в самом деле бездельничает на работе, у взрослых это бывает (спроси у своих родителей), и не в этом, конечно, тайна. Во время безделья на работе он постоянно думает об аппарате, который конструирует и строит дома. Аппарат этот он назвал душеловкой. Вроде мышеловки, только не мышей ловить, а души человеческие. Душа ведь только у человека есть – у зверей ее нет. И на душу человеческую аппарат его уже реагирует. Грандиозный успех! Лампочка красная загорается, если рядом человек стоит. Если же вместо человека собаку поставить, лампочка не загорается. Вот какой дядя Леша. Он как раз рассказал уже Кате про аппарат.
– А зачем тебе такой аппарат, дядя Леша? – спросила Катя.
– О, – ответил тот, – он принесет много добра. Когда удастся загнать (так и сказал – «загнать», ученый! душу, отделив ее от тела, в мой аппарат) ее же можно изучать, узнать, из чего она состоит, лечить душевные болезни можно... О... – что-то еще хотел сказать дядя Леша, но Катя его перебила:
– Дядя Леша, так если ты у человека душу отнимешь, человек же умрет.
– Ну да... Но мы ему обратно ее вернем – оживет. Да и вообще, мертвых людей оживлять будем, душу впрыскивать будем. Наконец, делать можно будет души – как булки печь! Будем, Катя, вместо Бога!.. А стеклышко мне это очень бы сейчас пригодилось. Понимаешь, может быть, и не придется от человека отнимать душу: нам ведь увидеть ее достаточно будет! А стеклышко это... Как бы тебе сказать, оно, по-моему, краешек души видит! На кого твой папа через очки похож?
– На беса.
– Фу, Катя, опять ты! Это стеклышко видит только черную часть души и показывает нам эту черноту в понятном для нас виде, в виде страшной морды. Но черная часть – это не обязательно зло, то есть это даже совсем не зло. Ведь черная икра вкусная, да, хоть и черная? – Дядя Леша улыбнулся. – А черная составляющая души, – ох уж эти ученые! – это могут быть неправильные – неправильные, слышишь, а не злые – мысли, неверное видение окружающего мира... и все такое. Сколько дважды семь будет? – вдруг спросил дядя Леша.
– Не знаю, – ответила Катя.
– Вот видишь, не знаешь, а незнание – это тоже черная область, потому что цель души – познавать мир.
– А бабушка говорила, что цель души – Царствие Небесное.
– Тю, опять ты за глупости!.. Ладно, это трудности твоих родителей. М-да, ин-те-рес-нень-ко, – проговорил дядя Леша папину приговорку. – Только непонятно, – сказал он, задумчиво глядя на стеклышко, – почему они светлую часть души не видят? Почему такой примитивный образ черной ее части? Да и вообще, откуда вы взялись, милые стеклышки?.. А Бога да беса выкинь из головы. Разве может человек быть бесом?
– Нет, – твердо ответила Катя, – человек бесом быть не может, а бес в человеке может быть – так бабушка говорила. А стеклышки эти,– Катя на секунду задумалась, – никакую не черную часть души видят, а всю душу – такой, какая она есть. Вот.
– Что ж, у меня такая черная душа? Такой плохой я человек? – спросил дядя Леша и снова нагнулся к Кате.
– Значит, так.
– Я плохой человек? Я что, похож на плохого человека?! Да я ничего в жизни злого не сделал.
– Богу виднее, – вздохнула Катя. – Бог по-другому меряет, не то что люди. Все безбожники себя считают хорошими, а христианин должен считать себя худшим из всех людей – так бабушка говорила.
– Это для чего же я должен на себя наговаривать? – уже даже раздраженно спросил дядя Леша.
– Не наговаривать, а недоговаривать, – поправила Катя. – Ты в Бога не веришь – значит, главную заповедь нарушаешь. А что ж про другое тогда говорить! А папа, – Катя перевела строгий взгляд на папу, – потому на беса похож, что Понырева от злости съесть хочет, а врагам прощать надо – так бабушка говорила. И в Бога он не верит.






