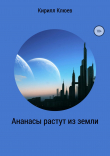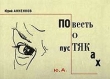Текст книги "Мертвые души. Том 2"
Автор книги: Николай Гоголь
Соавторы: Юрий Авакян
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц)
Тут только, оглянувшись вокруг себя, он увидел, что они уже давно ехали прекрасною рощей; миловидная берёзовая ограда тянулась у них справа и слева. Белые лесины берёз и осин, блестя, как снежный частокол, стройно и легко возносились на нежной зелени недавно развившихся листьев. Соловьи взапуски громко щёлкали из рощи. Лесные тюльпаны желтели в траве. Он не мог себе дать отчёта, как он успел очутиться в этом прекрасном месте, когда ещё недавно были открытые поля. Между дерев мелькала белая каменная церковь, а на другой стороне выказалась из рощи решётка. В конце улицы показался господин, шедший к ним навстречу, в картузе, с суковатой палкой в руках. Аглицкий пёс на высоких тонких ножках бежал перед ним.
– А вот и брат, – сказал Платонов. – Кучер, стой! – И вышел из коляски. Чичиков также.
Псы уже успели облобызаться. Тонконогий проворный Азор лизнул проворным языком своим Ярба в морду, потом лизнул Платонову руки, потом вскочил на Чичикова и лизнул его в ухо.
Братья обнялись.
– Помилуй, Платон, что это ты со мною делаешь? – сказал остановившийся брат, которого звали Василием.
– Как что? – равнодушно отвечал Платонов.
– Да как же в самом деле: три дни от тебя ни слуху ни духу! Конюх от Петуха привёл твоего жеребца. «Поехал, говорит, с каким-то барином». Ну, хоть бы слово сказал: куды, зачем, на сколько времени? Помилуй, братец, как же можно этак поступать? А я бог знает чего не передумал в эти дни.
– Ну что ж делать? Позабыл, – сказал Платонов. – Мы заехали к Константину Фёдоровичу: он тебе кланяется, сестра – также. Павел Иванович, рекомендую вам: брат Василий. Брат Василий, это Павел Иванович Чичиков.
Оба приглашённые ко взаимному знакомству пожали друг другу руки и, снявши картузы, поцеловались.
«Кто бы такой был этот Чичиков? – думал брат Василий. Брат Платон на знакомства неразборчив». И оглянул он Чичикова, насколько позволяло приличие, и увидел, что это был человек по виду очень благонамеренный.
С своей стороны Чичиков оглянул также, насколько позволяло приличие, брата Василия и увидел, что брат ростом пониже Платона, волосом темней его и лицом далеко не так красив, но в чертах его лица было гораздо больше жизни и одушевления, больше сердечной доброты. Видно было, что он меньше дремал.
– Я решился, Вася, проездиться вместе с Павлом Ивановичем по святой Руси. Авось-либо это размычет хандру мою.
– Как же так вдруг решился?.. – сказал озадаченный брат Василий; и он чуть было не прибавил: «И ещё ехать с человеком, которого видишь в первый раз, который, может быть, и дрянь, и чёрт знает что». Полный недоверия, он оглянул искоса Чичикова и увидел благоприличие изумительное.
Они повернули направо в ворота. Двор был старинный; дом тоже старинный, каких теперь не строят, – с навесами, под высокой крышей. Две огромные липы, росшие посреди двора, покрывали почти половину его своею тенью. Под ними было множество деревянных скамеек. Цветущие сирени и черёмухи бисерным ожерельем обходили двор вместе с оградой, совершенно скрывавшейся под их цветами к листьями. Господский дом был совершенно закрыт, только одни двери и окна миловидно глядели сквозь их ветви. Сквозь прямые, как стрелы, лесины дерев сквозили кухни, кладовые и погреба. Всё было в роще. Соловьи высвистывали громко, оглашая всю рощу. Невольно вносилось в душу какое-то безмятежное, приятное чувство. Так и отзывалось всё теми беззаботными временами, когда жилось всем добродушно и всё было просто и несложно. Брат Василий пригласил Чичикова садиться. Они сели на скамьях под липами.
Парень лет семнадцати, в красивой рубашке розовой ксандрейки, принёс и поставил перед ними графины с разноцветными фруктовыми квасами всех сортов, то густыми как масло, то шипевшими, как газовые лимонады. Поставивши графины, схватил он заступ, стоявший у дерева, и ушёл в сад. У братьев Платоновых, так же как и у зятя Костанжогло, собственно слуг не было: они были все садовники, или, лучше сказать, слуги были, но все дворовые исправляли по очереди эту должность. Брат Василий всё утверждал, что слуги не сословие: подать что-нибудь может всякий, и для этого не стоит заводить особых людей; что будто русский человек потуда хорош и расторопен и не лентяй, покуда он ходит в рубашке и зипуне, но что как только заберётся в немецкий сертук, станет вдруг неуклюж и нерасторопен, и лентяй, и рубашки не переменяет, и в баню перестаёт вовсе ходить, и спит в сертуке, и заведутся у него под сертуком немецким и клопы, и блох несчётное множество. В этом может быть, он был и прав. В деревне их народ одевался особенно щеголевато: кички у женщин были все в золоте, а рукава на рубахах – точные коймы турецкой шали.
– Это квасы, которыми издавна славится наш дом, – сказал брат Василий.
Чичиков налил стакан из первого графина – точный липец, который он некогда пивал в Польше; игра как у шампанского, а газ так и шибнул приятным кручком изо рта в нос.
– Нектар! – сказал он. Выпил стакан от другого графина – ещё лучше.
– Напиток напитков! – сказал Чичиков. – Могу сказать, что у почтеннейшего вашего зятя, Константина Фёдоровича, пил первейшую наливку, а у вас – первейший квас.
– Да ведь и наливка тоже от нас; ведь это сестра завела. Мать моя была из Малороссии, из-под Полтавы. Теперь все позабыли хозяйство вести сами. В какую же сторону и в какие места предполагаете ехать? – спросил брат Василий.
– Еду я, – сказал Чичиков, слегка покачиваясь на лавке и рукой поглаживая себя по колену, – не столько по своей нужде, сколько по нужде другого. Генерал Бетрищев, близкий приятель и, можно сказать, благотворитель, просил навестить родственников. Родственники, конечно, родственниками, но отчасти, так сказать, и для самого себя: ибо, не говоря уже о пользе в геморроидальном отношении, видеть свет в коловращенье людей есть уже само по себе, так сказать, живая книга и вторая наука.
Брат Василий задумался. «Говорит этот человек несколько витиевато, но в словах его, однако ж, есть правда», – подумал <он>. Несколько помолчав, сказал он, обратясь к Платону:
– Я начинаю думать, Платон, что путешествие может, точно, расшевелить тебя. У тебя не что другое, как душевная спячка. Ты просто заснул, – и заснул не от пресыщения или усталости, но от недостатка живых впечатлений и ощущений. Вот я совершенно напротив. Я бы очень желал не так живо чувствовать и не так близко принимать к сердцу всё, что случается.
– Вольно ж принимать всё близко к сердцу, – сказал Платон. – Ты выискиваешь себе беспокойства и сам сочиняешь себе тревоги.
– Как сочинять, когда и без того на всяком шагу неприятность? – сказал Василий. – Слышал ты, какую без тебя сыграл с нами штуку Леницын? Захватил пустошь. Во-первых пустоши этой я ни за какие деньги <не отдам>. Здесь у меня крестьяне празднуют всякую весну Красную горку, с ней связаны воспоминания деревни; а для меня обычай – святая вещь, и за него готов пожертвовать всем.
– Не знает, потому и захватил, – сказал Платон, – человек новый, только что приехал из Петербурга; ему нужно объяснить, растолковать.
– Знает, очень знает. Я посылал ему сказать, но он отвечал грубостью.
– Тебе нужно было съездить самому, растолковать. Переговори с ним сам.
– Ну нет. Он чересчур уже заважничал. Я к нему не поеду. Изволь, поезжай сам, если хочешь, ты.
– Я бы поехал, но ведь я не мешаюсь. Он может меня и провести и обмануть.
– Да если угодно, так я поеду, – сказал Чичиков, – скажите дельцо.
Василий взглянул на него и подумал: «Экой охотник ездить!»
– Вы мне подайте только понятие, какого рода он человек – сказал Чичиков, – и в чём дело.
– Мне совестно наложить на вас такую неприятную комиссию. Человек он, по-моему, дрянь: из простых мелкопоместных дворян нашей губернии, выслужился в [Петербурге], женившись там на чьей-то побочной дочери, и заважничал. Тон задает. Да у нас народ живет не глупый: мода нам не указ, а Петербург не церковь.
– Конечно, – сказал Чичиков, – а дело в чём?
– Видите ли? Ему, точно, нужна [земля]. Да если бы он не так поступал, я бы с охотою отвёл в другом месте даром земли, не то что пустошь. А теперь… Занозистый человек подумает…
– По-моему, лучше переговорить: может быть, дело-то [обделать можно миролюбно]. Мне поручали дела и не раскаивались. Вот тоже и генерал Бетрищев…
– Но мне совестно, что вам придётся говорить с таким человеком…
– Полноте, Василий Михайлович, – махнул ладошкой Чичиков, – ведь мне это пустого будет стоить. Я очень даже умею беседовать с такого рода господами. К тому же я в некотором смысле обязан вашему брату и почёл бы за удовольствие внести свою лепту в прояснение оного дела.
– Ну, не знаю даже, – мялся Василий, – всё же вы лицо в наших краях новое, приедете к нему с подобной комиссией, а он вас и знать не знает…
– Вот и хорошо, что лицо я, как вы изволили выразиться, новое. Ведь, как я понимаю, и он вроде бы новичок. Так что я думаю мы с ним сойдёмся, – улыбнулся Чичиков.
– И вправду, Василий, пусть Павел Иванович съездит. От тебя-то не убудет, а дело, глядишь, и уладится, – сказал Платон.
– И сомневаться нечего, что уладится, – сказал Чичиков, – Вы, Василий Михайлович, как я понимаю, готовы войти в его обстоятельства и, как сами только что сказать изволили, готовы уступить ему другой земли?..
– Да ради Христа! Пусть берёт, пользуется, вон сколько её, – ответил Василий, но пустошь не отдам, для меня обычай – святыня.
– Прекрасно! – сказал Чичиков, – не отдавайте пустошь. Но могли бы вы написать этакую краткую записочку, что, дескать, заместо пустоши, можете выделить господину Леницыну земли по его нуждам? Сами понимаете, мне облегчение в разговоре, да и дело быстрее обделается.
– Письма не напишу, – дёрнул головой Василий, итак сей господин заносит до чрезвычайности. И я тоже буду хорош: своё добро на своё же меняю.
– А вы напишите в том тоне, что, мол, «милостивый государь, испытываемая вами нужда в земле ещё не может служить причиною захвата чужих пустошей…» – и так далее; прибавьте, дескать, ежели бы обратились они по-соседски, то конечно же, одолжили бы их землей. Одним словом, напишите сурово и не роняя себя. А об остальном я позабочусь.
– Хорошо, в таком тоне напишу, – согласился Василий прошёл в дом писать письмо.
Через какие-нибудь полчаса Павел Иванович трясся в своей коляске по пути к усадьбе Фёдора Фёдоровича Леницына, того самого Фёдора Фёдоровича, с которым у Тентетникова вышла, как вы, дорогие читатели, помните, преказусная история. Фёдор Фёдорович, служивший в Петербурге по третьему классу, вдруг по каким-то обстоятельствам оставил свою, так удачно им исполняемую службу и уже его превосходительством вернулся сюда, в отчие края, покинутые им давно, целые двадцать пять лет тому назад, подававшим надежды юношей. Обстоятельства у людей бывают разные, и по-разному поступают люди в обстоятельства сии попадающие, и, конечно, можно было бы предположить, что Фёдора Фёдоровича так потянуло, позвало под родимый кров, что он, изломав свой карьер, бросил всё, решивши заделаться помещиком. Но знающие люди утверждали, что неспроста молодой ещё человек, в такие лета дослужившийся до действительного статского советника, так, вдруг, объявился в этих краях. Говорили, что метит он в губернаторы, и что вопрос этот вовсе уже решённый, и что ждут только срока, когда старик губернатор, Аполлон Христофорович, уйдет на покой, и что чуть ли не днями должно сие произойти.
Чичиков же, не ведающий обо всём этом, весьма довольный тем, как складывался день, ехал полями мимо земель, принадлежавших братьям Платоновым, которым он пообещал вернуться к ужину. Ехать было недалеко, каких-нибудь три версты, и, въехавши на выпуклый лоб сбегающего вниз откоса, увидел он внизу под собой большой расположившийся овалом пруд. Вкруг пруда росли тёмные вековые липы, густым лесом убегавшие к зеленеющим вдали горным возвышениям. От опрятного господского дома, по самую крышу обросшего деревами, вела к пруду белая каменная лестница, оканчивавшаяся у самой воды круглой площадкой, увенчанной балюстрадою. Пространство перед домом, как можно было думать, было вымощено тем же белым камнем, что служил для устройства лестницы, и вся эта картина, слагающаяся из красной крыши господского дома, зелени лип, белизны камня, мостящего двор, и синевы плещущегося в пруду неба, производила пленительное впечатление.
Ко въехавшей на мощёный двор коляске выбежал из дому лакей в ливрее и бакенбардах и, просеменив к Павлу Ивановичу с поклоном, вопрошал о том, как прикажут доложить.
– Доложи, братец, – Павел Иванович Чичиков, помещик и сосед твоего барина, – сказал Чичиков, не поминая своего чина. Чичиков понимал, что коллежский советник – малая птица против действительного статского советника. «Помещик» же звучало намного уважительнее.
Лакей провёл его в гостиную, и Павел Иванович с интересом стал оглядывать окружавшую его обстановку. Ему показалось забавным то, что все вещи в гостиной, как наверное, и во всём остальном доме, несли на себе отпечаток новизны, точно были куплены и привезены сюда разом, заместо бывших тут когда-то старых мебелей, подсвечников, сундуков и прочих обиходных предметов, кои населяют дома мелкопоместного российского дворянства. Помимо вещей обыденных и повсеместных, в зале имелось и кое-что поинтереснее. Например, большой блестящий лаком глобус, стоявший на резной деревянной трёхноге, висящая на стене чёрного металла астролябия, покрытая бронзовыми завитушками, и несколько вещиц подобного ряда, коим, как подумал Чичиков, место было скорее не в гостиной зале, а в кабинете хозяина дома, конечно, ежели хозяин этот был бы учёный человек. Лакей вскорости вернулся доложить, что его превосходительство тотчас выйдут, и хозяин впрямь не заставил ждать. Чичиков, разглядывавший глобус, услышал мягкие шаги кого-то входящего в залу и, обернувшись, увидел средних лет господина в ловко сидящем на его фигуре мундирном фраке, при звезде, и наружности наиприятнейшей. Человек этот глядел на Павла Ивановича живыми серыми глазами, и в лице его строилась полная достоинства улыбка. Телосложение имел он среднее, был не толст, но и не худ, со слегка намечающимся благородным брюшком, выдававшим в нём человека сидячего образа жизни и, предположительно, умственной работы. Лицо имел хорошее, русское, того славянского типа, который нынче встречается не часто и который повывелся в нашем болеющем всеми болезнями новой цивилизации поколении. Подойдя к Павлу Ивановичу, он протянул ему для пожатия руку и, не сменяя в лице улыбки, назвал себя. Чичиков же, стоявший с ловко изогнутым корпусом, принял его руку с таким уважительным и округлым жестом, что Леницыну, глядевшему в сей момент на одну лишь макушку склонённой к нему в поклоне аккуратно прибранной головы Павла Ивановича показалось, что видно ему и благоговейное выражение лица Чичикова, и это вызвало в нём приятное чувство.
Держа ласково, точно слабую птицу, руку Леницына в своих ладонях, Павел Иванович поднял на него глаза, только что не туманящиеся от слёз восторга, и проговорил своим самым медовым голосом:
– Не извольте гневаться на мой к вам неожиданный визит, но почёл за долг представиться вашему превосходительству по тому счастливому для меня обстоятельству, что с нынешнего утра я ваш сосед и к кому как не к вам первому был обязан нанести визит вежливости.
– Купили имение?! Поздравляю! – не меняя лица, сказал Леницын и жестом пригласил Чичикова садиться рядом на дышащее свежестью канапе. Чичиков уселся вполоборота, несколько откинув одну ногу и уперев в колено другой сцепленные пальцами ладони.
– Да-с, ваше превосходительство, решил осесть здесь, в этом чудном уголку, провесть, так сказать, остаток жизни, после всех тех превратностей, что подстроила мне судьба. Ведь жизнь моя, точно судно средь бурных волн, если позволительно будет подобное сравнение, – Чичиков вздохнул горько и с доверительной улыбкой прибавил: – Пришлось много претерпеть за правду, ваше превосходительство, так что враги мои имели не раз покуситься даже на жизнь саму, но теперь, благодаря Творцу, попав в ваши края, полон надежд и помыслов об лучшем уделе…
– Да, сударь, здесь у нас и покойно, и хорошо, – сказал Леницын. – А откуда изволили прибыть, позвольте поинтересоваться? – спросил он.
– О, это целый роман, – отвечал Чичиков и принялся рассказывать жизнь свою, живописуя её всякими красками, от которых Леницын то и дело менялся в лице, показывая сочувствие и внимание к рассказу. – В ваши края приехал навестить старинного приятеля своего, генерала Бетрищева, много благотворившего мне за мою жизнь, и которого, смею надеяться, вы изволите знать, – сказал Чичиков.
– Без сомнения, знаю, – подтвердил Леницын, достойнейший человек, боевой генерал, таких ныне с огнём не сыщешь…
– Да, замечательный человек, – подтвердил Чичиков, сейчас же еду не столько по своей нужде, сколько по генерала Бетрищева просьбе оповестить родственников на предмет помолвки дочери его Ульяны Александровны с господином Тентетниковым.
– Вы сказали, с Тентетниковым? – переспросил Леницын, и Чичиков заметил, как в лице его что-то дрогнуло. – Уж не с Андреем ли Ивановичем?
– С Андреем Ивановичем, – кивнул головой Чичиков, – а вы и с ним знакомы? – спросил он, как-то внутренне подбираясь.
– Очень даже знаком, – ответил Леницын, холоднея лицом, – служил под моим началом в Петербурге… Да! Не могу поздравить Александра Дмитриевича с подобным зятем. Крайне дурного тона молодой человек. У нас с ним, признаться, до того дошло, что принуждён был выключить его из департамента.
Услышав такое, Павел Иванович счёл за благо не вдаваться в подробности своих с Тентетниковым отношений и о своём участии во всей этой истории с помолвкой промолчал; сказал только так, между прочим, что имел будто всего одну беседу с Андреем Ивановичем и что он вызвал в Чичикове большие сомнения, и даже в отношении благонадёжности.
– Ну, да ладно, бог с ним, – с некоторым презрением произнёс Леницын, – давайте поговорим лучше о вас. Что за имение вы купили, где, как? Расскажите же, ведь это очень интересно.
– Купил имение от вас неподалёку по совету одного приятеля моего, даже, лучше сказать, друга. Константина Фёдоровича Костанжогло. Надеюсь, знаете такого, – и Павел Иванович вопросительно глянул на Леницына.
Леницын молча и для пущей важности прикрывая глаза, кивнул в подтверждение, а сам подумал: «Этот Павел Иванович видать, из приличных будет, если судить по тому, с кем знается».
– Так вот, Константин Фёдорович давно уже звал меня к себе, а тут всё так сошлось, что я и его превосходительству надобен стал. Вот Константин Фёдорович и сторговал для меня это имение и чуть ли не силком заставил купить, даже денег своих задатку внёс. Ну и с сего дни я ваш сосед, – заключил Чичиков.
– А у кого купили? – вновь поинтересовался Леницын.
– У некого Хлобуева Семёна Семёновича, – сказал Чичиков, – здесь от вас в верстах двадцати будет, – добавил он.
– Павел Иванович, чудеса какие-то, – усмехнулся Леницын. – Мы с господином Хлобуевым состоим хоть и в очень отдалённом, но родстве, но пусть он мне и родственник, я тем не менее не могу не признать того, что он пренеприятнейший субъект. Довести всё до такого состояния, и это имея семью на руках… – И он словно бы не находя слов, развёл в удивлении руками.
– Да, плачевное зрелище довелось мне узреть сегодня, – согласился Чичиков, – и всё бы ничего, поделом ему, ежели бы не дети.
– То-то и оно, – отозвался Леницын, – обзавёлся семьёю, так будь добр, трудись ей во благо, ночи не спи, но не делай семью несчастной, обеспечь ей достаток и достойное проживание, не доводи до крайностей…
– Вот-вот, – поддакнул Чичиков, а сам ввернул, так как в нём уже стали шевелиться кое-какие подозрения. – По какой же линии состоите вы в родстве с этим господином? – поинтересовался он.
– Через мою тётушку, Ханасарову Александру Ивановну. Живет она в городе, в нашем же уезде. Стара очень, но преинтереснейший, надо сказать вам, человек. Так вот и господин Хлобуев тоже ей каким-то родственником приходится. Видать, надеется на наследство, вот и живет спустя рукава. Но получи он наследство, он и его спустит, глазом не успеешь моргнуть, потому что таков уж он, этот господин.
«Так вот это кто, – подумал Чичиков, глядя на Леницына, – Это и есть тот самый, что метит в губернаторы. Не за этим ли он, действительно, тут объявился, не то, что ему проку здесь в деревне, после Петербурга-то… Надо будет свести с ним дружбу покороче», – дал он себе наказ.
– И большое наследство? – участливо глядя на Леницына, спросил Павел Иванович.
– Большое, – отозвался Леницын, – даже очень большое. Более трёх миллионов. Но самое прискорбное для меня это то, что я слыхал, будто в имеющемся уже завещании чуть ли не всё отходит к этому растяпе. Тётушка хоть его самого и не привечает, но очень настроена насчёт его дочерей. Прелестные, справедливости ради надо сказать, малютки.
– Да! Досадно, – делая задумчивое лицо, сказал Чичиков, – а что, никак нельзя горю помочь?
– Ну как тут поможешь? – вяло, пожав плечами, ответил Леницын.
– А ежели был бы такой человек с влиянием на вашу тётушку, который сумел бы эдак деликатно убедить её, раскрыть глаза на то, что имущество её будет пущено в распыл, что достанется оно недостойному, и всё, что наживалось не одной жизнью, всё это пойдет прахом? – то ли спросил, то ли присоветовал Чичиков.
– Нет такого человека, к сожалению, любезный мой Павел Иванович, – ответил Леницын, – да и, по чести сказать, это супротив правил, завещание написано, и старухе самой решать, как распорядиться состоянием.
– А вы сведите меня с вашей тётушкой, – сказал Чичиков, делая значительную гримасу, – там и поглядим.
– Ох, Павел Иванович, не вводите в соблазн, – сказал Леницын, – ведь это что-то вроде сговора получится, да и выглядеть будет как-то того… – поморщил он нос.
– Да ведь не всё выглядит таким, как оно в действительности есть, – ответил Чичиков, – вот, – сказал он, – кивая на лаково поблёскивающий глобус, – я и сейчас поверить не могу, что Земля подо мной круглая, а правда-то не в том, какой она мне кажется и какой выглядит.
– В этом я с вами не могу не согласиться, сказал Леницын – иной раз даже по службе видишь, что надо бы сделать по-другому, что из этого только польза проистечёт, но оглянешься на закон и видишь, что подпадаешь под какую-нибудь статью и совершаешь чуть ли не преступление.
– В точности так, – согласился Чичиков, – ведь как часто, ваше превосходительство, и мне приходили подобные мысли, и я вывел для себя, что ежели подобное деяние совершается не соблазну ради, а для пользы, то это не преступление. Ведь сколько есть на свете дел, которые и законные и не законные вместе. Тут главное в сердцевину суметь заглянуть, а ведь не всякий это сумеет. Потому если и совершаются такие дела, то должны они совершаться между людьми благонамеренными, чина хорошего, людьми об благе дела радеющими и далее носа видеть умеющими, – сказал он, вкрадчиво заглядывая Леницыну в глаза.
«Очень не глупый человек», – подумал Леницын, вслух же сказал, подхватывая мысль Павла Ивановича:
– Но надобно, чтобы подобные дела обдумывались бы втайне, так как не всякий увидит ту разницу, о которой вы говорили, любезный Павел Иванович, не увидевши разницы, почтёт лишь за дурной пример и сам на преступление сможет пойти, соблазнившись.
– Больше того, и наблюдая особенно, чтоб это было втайне, – сказал Чичиков, – ибо не столько самое преступленье, сколько соблазн вредоносен.
– А, это так, это так, – сказал Леницын, наклонив совершенно голову набок.
– Как приятно встретить единомыслие! – сказал Чичиков. – Есть и у меня дело, законное и незаконное вместе; с виду незаконное, в существе законное. Имея надобность в залогах, никого не хочу вводить в риск платежом по два рубли за живую душу. Ну, случится, лопну, – чего боже сохрани, – неприятно ведь будет владельцу, я и решился воспользоваться беглыми и мёртвыми, ещё не вычеркнутыми из ревизии, чтобы за одним разом сделать и христианское дело и снять с бедного владельца тягость уплаты за них податей. Мы только между собой сделаем формальным образом купчую, как на живые.
«Это однако же, что-то такое престранное», – подумал Леницын и отодвинулся со стулом немного назад.
– Да дело-то, однако же… такого рода… – начал <он>.
– А соблазну не будет, потому что втайне, – отвечал Чичиков, – и притом между благонамеренными людьми.
– Да всё-таки, однако же, дело как-то…
– А соблазну никакого, – отвечал весьма прямо и открыто Чичиков. – Дело такого рода, как сейчас рассуждали: между людьми благонамеренными, благоразумных лет и, кажется, хорошего чину, и притом втайне. – И, говоря это, глядел он открыто и благородно ему в глаза.
Как ни был изворотлив Леницын, как ни был сведущ вообще в делопроизводствах, но тут он как-то совершенно пришёл в недоуменье, тем более что каким-то странным образом он как-бы запутался в собственные сети. Он вовсе не был способен на несправедливости и не хотел бы сделать ничего несправедливого, даже и втайне. «Экая удивительная оказия! – думал он про себя. – Прошу входить в тесную дружбу даже с хорошими людьми! Вот тебе и задача!»
Но судьба и обстоятельства как бы нарочно благоприятствовали Чичикову. Точно за тем, чтобы помочь этому затруднительному делу, вошла в комнату молодая хозяйка, супруга Леницына, бледная, худенькая, низенькая, но одетая по-петербургскому, большая охотница до людей comme il faut. За нею был вынесен на руках мамкой ребёнок-первенец, плод нежной любви недавно бракосочетавшихся супругов. Ловким подходом с прискочкой и наклоненьем головы набок Чичиков совершенно обворожил петербургскую даму, а вслед за нею и ребёнка. Сначала тот было разревелся, но словами: «Агу, агу, душенька», и прищёлкиваньем пальцев, и красотой сердоликовой печатки от часов Чичикову удалось его переманить к себе на руки. Потом он начал его приподымать к самому потолку и возбудил этим в ребёнке приятную усмешку, чрезвычайно обрадовавшую обоих родителей. Но от внезапного удовольствия или чего-либо другого ребёнок вдруг повёл себя нехорошо.
– Ах, боже мой! – вскрикнула жена Леницына, – он вам испортил весь фрак!
Чичиков посмотрел: рукав новёшенького фрака был весь испорчен. «Пострел бы тебя взял, чертёнок!» – подумал он в сердцах.
Хозяин, хозяйка, мамка – все побежали за одеколоном – со всех сторон принялись его вытирать.
– Ничего, ничего, совершенно ничего! – говорил Чичиков стараясь сообщить лицу своему, сколько возможно, весёлое выражение. – Может ли что испортить ребёнок в это золотое время своего возраста! – повторял он; в то же время думал: «Да ведь как, бестия, волки б его съели, метко обделал, канальчонок проклятый!»
Это, по-видимому, незначительное обстоятельство совершенно преклонило хозяина в пользу дела Чичикова. Как отказать такому гостю, который оказал столько невинных ласк малютке и великодушно поплатился за то собственным фраком? Чтобы не подать дурного примера, решились решить дело секретно, ибо не столько самое дело, сколько соблазн вредоносен.
– Позвольте ж и мне, в вознагражденье за услугу, заплатить вам также услугой. Хочу быть посредником вашим по делу с братьями Платоновыми. Вам нужна земля, не так ли?
– Как вы знаете? – с удивлением спросил Леницын.
– Да так вот, – раскинув руки в стороны и слегка склонившись, ответил Чичиков, – в силу природной склонности своей послужить во благо ближнего. К слову сказать, у меня к вам письмо от старшего из братьев – Василия Михайловича – имеется, – прибавил он, протягивая Леницыну запечатанный конверт.
Леницын взломал печать и принялся читать вручённое ему Чичиковым послание. Лицо его по ходу чтения принимало надменное выражение.
– Однако я не нахожу того, чтобы письмо это могло послужить каким бы то образом к разрешению нашего спора, – сказал он, обратившись к Чичикову, – вот, извольте, прочтите. – И он протянул Павлу Ивановичу исписанный листок. Чичиков прочёл письмо со вниманием на лице и нашёл в нём лишь то, что сам присоветовал написать старшему из братьев.
– Видите, сколько невоздержанного тона в сём крохотном послании, – сказал Леницын, скрестя руки на груди и отворачиваясь к окну.
– Да полноте, Фёдор Фёдорович, не может ведь помещик, считающий себя обиженным, написать по-другому, тем более такой, как господин Платонов, выросший и воспитывавшийся в этой глуши. Уверяю вас, что он и понятия не имеет о том, что такое надлежащий тон. Более того, ведь он предлагает вам землю по вашему выбору. Ему только и нужна эта пустошь из-за крестьян, которые привыкли справлять на ней Красную горку, а если не это, то он, по всей вероятности, и внимания на эту пустошь не обратил, – сказал Чичиков.
– Не знаю, Павел Иванович, не знаю, вы, конечно, человек обходительный и дипломатический, но ведь дело даже и не в тоне. Пустошь-то по закону моя! – устало улыбнувшись и как бы показывая, что ему очень надоел сей предмет, проговорил Леницын.
– И замечательно, что ваша, это даже к лучшему, что ваша, вы-то на этом только выигрываете. Что толку в ней, в пустоши, отдайте её Платоновым, вас ведь это не подорвёт, отдайте, коли так уж ихним крестьянам приспичило на ней гулять, а взамен-то можете взять гораздо лучшей земли и побольше, чем сама пустошь. Не судиться же в самом деле из-за того, что можно полюбовно решить. Зачем вам жизнь свою на этом прожигать?
– А господину Платонову что за резон? – спросил Леницын. – Это было бы к месту, ежели б пустошь и вправду была его, но она-то моя. Вот, взгляните на план. – С этими словами он прошёл к бюро, и выдвинув верхний ящичек, извлёк из него квадрат плотной бумаги. С хрустким шорохом развернув выросшую чуть ли не в десятеро бумагу, Леницын разложил её по стоявшему вблизь канапе столику и стал доказывать Чичикову принадлежность ему пустоши.
Чичиков, вежливо следивший за указательным пальцем Леницына, бегающим по вычерченным на бумаге линиям, учтиво молчал, а потом, взглянув ему в глаза ясным взглядом, объявил, что как ни прискорбно ему об том говорить, но на плане не так ясно видно, чтобы пустошь была его, Леницына, и что вопрос, действительно, может быть спорный.
На что приостановившийся Леницын сказал несколько обиженно:
– Но ведь есть свидетели, – старики ещё живы и помнят.
– То-то и я говорю, что затянется, – со вздохом продолжал Чичиков. – Ни вам, ни Платоновым проку не будет никакого. Когда ещё кто из вас по решению суда во владение войдёт… Да если суд в вашу пользу решит, то опять вам выгоды никакой.