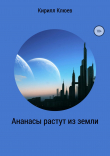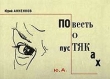Текст книги "Мертвые души. Том 2"
Автор книги: Николай Гоголь
Соавторы: Юрий Авакян
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц)
Так и Чичикову заметилось всё в тот вечер: и эта милая, неприхотливо убранная комнатка, и добродушное выраженье, воцарившееся в лице умного хозяина, но даже и рисунок обоев комнаты, и поданная Платонову трубка с янтарным мундштуком, и дым, который он стал пускать в толстую морду Ярбу, и фыркаканье Ярба, и смех миловидной хозяйки, прерываемый словами: «Полно, не мучь его», – и весёлые свечки, и сверчок в углу, и стеклянная дверь, и весенняя ночь, глядевшая к ним оттоле, облокотясь на вершины дерев, осыпанная звёздами, оглашенная соловьями, громкопевно высвистывавшими из глубины зеленолиственных чащей.
– Сладки мне ваши речи, досточтимый мною Константин Фёдорович, – произнёс Чичиков. – Могу сказать, что не встречал во всей России человека, подобного вам по уму.
Костанжогло улыбнулся. Он сам чувствовал, что не несправедливы были эти слова.
– Нет, уж если хотите знать умного человека, так у нас действительно есть один, о котором, точно, можно сказать – умный человек, которого я и подмётки не стою.
– Кто уж бы это такой мог быть? – с изумленьем спросил Чичиков.
– Это наш откупщик Муразов.
– В другой уже раз про него слышу! – вскрикнул Чичиков.
– Это человек, который не то что именьем помещика, целым государством управит. Будь у меня государство, я бы его сей же час сделал министром финансов.
– И, говорят, человек, превосходящий меру всякого вероятия: десять миллионов, говорят, нажил.
– Какое десять! Перевалило за сорок. Скоро половина России будет в его руках.
– Что вы говорите! – вскрикнул Чичиков, вытаращив глаза и разинув рот.
– Всенепременно. Это ясно. Медленно богатеет тот, у кого какие-нибудь сотни тысяч; а у кого миллионы, у того радиус велик: что ни захватит, так вдвое и втрое противу самого себя. Поле-то, поприще слишком просторно. Тут же и соперников нет. С ним некому тягаться. Какую цену ему ни назначит, такая и останется, некому перебить.
– Господи боже ты мой! – проговорил Чичиков, перекрестившись. Смотрел Чичиков в глаза Костанжогло, – захватило дух в груди ему.
– Уму непостижимо! Каменеет мысль от страха! Изумляются мудрости промысла в рассматриванье букашки: для меня более изумительно то, что в руках смертного могут обращаться такие громадные суммы. Позвольте спросить насчёт одного обстоятельства: скажите, ведь это, разумеется, вначале приобретено не без греха?
– Самым безукоризненным путём и самыми справедливыми средствами.
– Невероятно! Если бы тысячи, но миллионы…
– Напротив, тысячи трудно без греха, а миллионы наживаются легко. Миллионщику нечего прибегать к кривым путям: прямой дорогой так и ступай, всё бери, что ни лежит перед тобой. Другой не подымет: всякому не по силам, – нет соперников. Радиус велик, говорю: что ни захватит – вдвое или втрое противу <самого себя>. А тысячи что? Десятый, двадцатый процент.
– И что всего непостижимей – что дело ведь началось с копейки.
– Да иначе и не бывает. Это законный порядок вещей, – сказал Костанжогло. – Кто родился с тысячами и воспитался на тысячах, тот уже не приобретёт, у того уже завелись и прихоти, и мало ли чего нет! Начинать нужно с начала, а не с середины, – с копейки, а не с рубля, – снизу, а не сверху. Тут только узнаешь хорошо люд и быт, среди которых придётся потом изворачиваться. Как вытерпишь на собственной коже то да другое, да как узнаешь, что всякая копейка алтынным гвоздём прибита, да как перейдёшь все мытарства – тогда тебя умудрит и вышколит, что уж не дашь промаха ни в каком предприятье и не оборвёшься. Поверьте, это правда. С начала нужно начинать, а не с середнины. Кто говорит мне: «Дайте мне сто тысяч – я сейчас разбогатею», – я тому не поверю: он бьет наудачу, а не наверняка. С копейки нужно начинать.
– В таком случае я разбогатею, – сказал Чичиков, невольно помыслив о мёртвых душах, – ибо действительно начинаю с ничего.
– Константин, пора дать Павлу Ивановичу отдохнуть и поспать, – сказала хозяйка, – а ты всё болтаешь.
– И непременно разбогатеете, – сказал Костанжогло, не слушая хозяйки. – К вам потекут реки, реки золота. Не будете знать, куды девать доходы.
Как зачарованный сидел Павел Иванович; в золотой области грёз и мечтаний кружились его мысли. По золотому ковру грядущих прибытков золотые узоры вышивало разыгравшееся воображение, и в ушах его отдавались слова: «Реки, реки потекут золота».
– Право, Константин, Павлу Ивановичу пора спать.
– Да что ж тебе? Ну и ступай, если захотелось, – сказал хозяин и остановился, потому что громко по всей комнате раздалось храпенье Платонова, а вслед за ним Ярб затянул ещё громче. Заметив, что в самом деле пора на ночлег, он растолкал Платонова, сказавши: «Полно тебе храпеть!» – и пожелал Чичикову спокойной ночи. Все разбрелись и скоро заснули по своим постелям.
Одному Чичикову только не спалось. Его мысли бодрствовали. Он обдумывал, как сделаться помещиком не фантастического, но существенного имения. После разговора с хозяином всё становилось так ясно. Возможность разбогатеть казалась так очевидной! Трудное дело хозяйства становилось теперь так легко и понятно и так казалось свойственно самой его натуре! Только бы сбыть в ломбард этих мертвецов да завести не [фантастическое поместье]. Уже он видел себя действующим и правящим именно так, как поучал Костанжогло: расторопно, осмотрительно, ничего не заводя нового, не узнавши насквозь старого; всё высмотревши собственными глазами, всех мужиков узнавши, все излишества от себя оттолкнувши, отдавши себя только труду да хозяйству. Уже заранее предвкушал он то удовольствие, которое будет он чувствовать, когда заведётся стройный порядок и бойким ходом двинутся все пружины хозяйственной машины, деятельно толкая друг друга. Труд закипит; и подобно тому <как> в ходкой мельнице шибко вымалывается из зерна мука, пойдёт вымалываться из всякого дрязгу и хламу чистоган да чистоган. Чудный хозяин так и стоял пред ним ежеминутно. Это был первый человек во всей России, к которому почувствовал он уважение личное. Доселе уважал он человека или за хороший чин, или за большие достатки. Собственно за ум он не уважал ещё ни одного человека. Костанжогло был первый. Он понял, что с этим человеком нечего подыматься на какие-нибудь штуки. Его занимал другой прожект – купить именье Хлобуева. Десять тысяч у него было; пятнадцать тысяч предполагал он попробовать занять у Костанжогло, так как он сам объявил уже, что готов помочь всякому желающему разбогатеть; остальное – как-нибудь, или заложивши в ломбард, или так просто, заставивши ждать. Ведь и это можно: ступай возись по судам, если есть охота. И долго он об этом думал. Наконец сон, который уже целые четыре часа держал весь дом, как говорится, в объятиях, принял, наконец, и Чичикова в свои объятия. Он заснул крепко.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
На другой день всё обделалось как нельзя лучше. Костанжогло дал с радостью десять тысяч без процентов, без поручительства – просто под одну расписку. Так был он готов помогать всякому на пути к приобретенью. Он показал Чичикову всё своё хозяйство. Всё было просто и так умно! Всё было так устроено, что шло само собой. Ни минуты времени не терялось даром, ни малейшей неисправности не случалось у поселянина. Помещик, как бы всевидец какой, вдруг поднимал его на ноги. Не было ленивца нигде. Не могло не поразить даже и Чичикова, как много наделал этот человек, тихо, без шуму, не сочиняя проектов и трактатов о доставлении благополучия всему человечеству, и как пропадает без плодов жизнь столичного жителя, шаркателя по паркетам и любезника гостиных, или прожектёра, в своём закутке диктующего предписания в отдалённом углу государства. Чичиков совершенно пришёл в восторг, и мысль сделаться помещиком утверждалась в нём всё более и более. Костанжогло, мало того, что показал ему всё, сам взялся проводить его к Хлобуеву, с тем, чтобы осмотреть вместе с ним имение. Чичиков был в духе. После сытного завтрака все они отправились, севши все трое в коляску Павла Ивановича; пролётки хозяина следовали за ними порожняком. Ярд бежал впереди, сгоняя с дороги птиц. Целые пятнадцать вёрст тянулись по обеим сторонам леса и пахотные земли Костанжогло. Всё провожали леса в смешении с лугами. Ни одна травинка не была здесь даром, всё как в божьем мире, всё казалось садом. Но умолкли невольно, когда началась земля Хлобуева: <пошли> скотом объеденные кустарники наместо лесов, тощая, едва подымавшаяся, заглушённая куколем рожь. Наконец вот выглянули не обнесённые загородью ветхие избы и посреди их оставшийся вчерне каменный необитаемый дом. Крыши, видно, не на что было сделать. Так он и остался покрытый сверху соломой и почернел. Хозяин жил в другом доме, одноэтажном. Он выбежал к ним навстречу в старом сертуке, растрёпанный и <в> дырявых сапогах, заспанный и опустившийся, но было что-то доброе в лице.
Обрадовался им, как бог весть чему: точно как бы увидел он братьев, с которыми надолго расстался.
– Константин Фёдорович! Платон Михайлович! Вот одолжили приездом! Дайте протереть глаза! А уж, право, думал, что ко мне никто не заедет. Всяк бегает меня, как чумы: думает – попрошу взаймы. Ох, трудно, трудно, Константин Фёдорович! Вижу – сам всему виной. Что делать? Свинья свиньей зажил. Извините, господа, что принимаю вас в таком наряде: сапоги, как видите с дырами. Чем прикажете потчевать?
– Без церемоний. Мы к вам за делом. Вот вам покупщик, Павел Иванович Чичиков, – сказал Костанжогло.
– Душевно рад познакомиться. Дайте прижать мне вашу руку.
Чичиков дал ему обе.
– Хотел бы очень, почтеннейший Павел Иванович, показать вам имение, стоящее внимания… Да что, господа, позвольте спросить: вы обедали?
– Обедали, обедали, – сказал Костанжогло, желая отделаться. – Не будем мешкать и пойдём теперь же.
– Пойдём. – Хлобуев взял в руки картуз.
Гости надели на головы картузы, и все пошли улицею деревни.
С обеих сторон глядели слепые лачуги, с крохотными заткнутыми онучей [окнами].
– Пойдём же осматривать беспорядки и беспутство моё, – говорил Хлобуев. – Конечно, вы сделали хорошо, что пообедали. Поверите ли, Константин Фёдорович, курицы нет в доме – до того дожил!
Он вздохнул и, как бы чувствуя, что мало участия со стороны Константина Фёдоровича, подхватил под руку Платонова и пошёл с ним вперёд, прижимая крепко его к груди своей. Костанжогло и Чичиков остались позади и, взявшись под руки, следовали за ними в отдалении.
– Трудно, Платон Михалыч, трудно! – говорил Хлобуев Платонову. – Не можете вообразить, как трудно! Безденежье, бесхлебье, бессапожье. Ведь это для вас слова иностранного языка. Трын-трава бы это было всё, если бы был молод и один. Но когда все эти невзгоды станут тебя ломать под старость, а под боком жена, пятеро детей – сгрустнётся, поневоле сгрустнётся…
– Ну, да если вы продадите деревню – это вас поправит? – спросил Платонов.
– Какое поправит! – сказал Хлобуев, махнувши рукой. – Всё пойдет на уплату долгов, а для себя не останется и тысячи.
– Так что ж вы будете делать?
– А бог знает.
– Как же вы ничего не предпринимаете, чтобы выпутаться из таких обстоятельств?
– Что ж предпринять?
– Что ж, вы стало быть, возьмёте какую-нибудь должность?
– Ведь я губернский секретарь. Какое же мне могут дать место? Место мне могут дать ничтожное. Как мне взять жалованье – пятьсот? А ведь у меня жена, пятеро детей.
– Пойдите в управляющие.
– Да кто ж мне поверит имение: я промотал своё.
– Ну, да если голод и смерть грозят, нужно же что-нибудь предпринимать. Я спрошу, не может ли брат мой через кого-либо в городе выхлопотать какую-нибудь должность.
– Нет, Платон Михайлович, – сказал Хлобуев, вздохнувши и сжавши крепко его руку. – Не гожусь я теперь никуды. Одряхлел прежде старости своей, и поясница болит от прежних грехов, ревматизм в плече. Куды мне? Что разорять казну? И без того завелось много служащих ради доходных мест. Храни бог, чтобы из-за доставки мне жалованья увеличены были подати на бедное сословие.
«Вот плоды беспутного поведения, – подумал Платонов. – Это хуже моей спячки».
А между тем, как они так говорили между собой, Костанжогло идя с Чичиковым позади их, выходил из себя.
– Вот смотрите, сказал Костанжогло, указывая пальцем, – довёл мужика до какой бедности! Ведь ни телеги, ни лошади. Случится падёж – уж тут нечего глядеть на своё добро: тут всё своё продай да снабди мужика скотиной, чтобы он не оставался и одного дни без средств производить работу. А ведь теперь годами не поправишь. И мужик уже изленился, загулял, сделался пьяница. Да этим только, что один год дал ему пробыть без работы, ты уж его развратил навеки: уж привык к лохмотью и бродяжничеству. А земля-то какова? Разглядите землю! – говорил он, указывая на луга, которые показались скоро за избами. – Всё поёмные места! Да я заведу лён, да тысяч на пять одного льну отпущу; репой засею, на репе выручу тысячи четыре. А вон смотрите – по косогору рожь поднялась; ведь это всё падаль. Он хлеба не сеял – я это знаю. А вон овраги… да здесь я заведу такие леса, что ворон не долетит до вершины. И этакое сокровище-землю бросить! Ну, уж если нечем было пахать, так заступом под огород вскопай .. Огородом бы взял. Сам возьми в руку заступ, жену, детей, дворню заставь; безделица, умри, скотина , на работе! Умрёшь, по крайней мере исполняя долг, а не то обожравшись, – свиньёй за обедом! – Сказавши это, плюнул Костанжогло, и желчное расположение осенило сумрачным облаком его чело.
Когда подошли они ближе и стали над крутизной обросшей чилизником, и вдали блеснул извив реки и тёмный отрог, и в перспективе ближе показалась часть скрывавшегося в рощах дома генерала Бетрищева, а за ним лесом обросшая, курчавая гора, пылившая синеватою пылью отдаления, по которой вдруг догадался Чичиков, что это должно быть Тентетникова, <он сказал>:
– Здесь, если завести леса, деревенский вид может превзойти красотою…
– А вы охотник до видов? – спросил Костанжогло, вдруг на него взглянувши строго. – Смотрите, погонитесь так за видами – останетесь без хлеба и без видов. Смотрите на пользу, а не на красоту. Красота сама придёт. Пример вам города: лучше и красивее до сих пор города, которые сами построились, где каждый строился по своим надобностям и вкусам. А те, которые выстроились по шнурку – казармы казармами… В сторону красоту, смотрите на потребности.
– Жалко то, что долго нужно дожидаться. Так бы хотелось увидеть всё в том виде, как хочется.
– Да что вы, двадцатипятилетний разве юноша? Вертун, петербургский чиновник? Чудно! Терпенье. Шесть лет работайте сряду; садите, сейте, ройте землю, не отдыхая ни на минуту. Трудно, трудно. Но зато потом, как расшевелите хорошенько землю, да станет она помогать вам сама, так это не то, что какой-нибудь мил<лион>, нет, батюшка, у вас сверх ваших каких-нибудь семидесяти рук будут работать семьсот невидимых. Все вдесятеро. У меня теперь ни пальцем не двигнут – всё делается само собою. Да, природа любит терпение; и это закон, данный ей самим богом, ублажавшим терпеливых.
– Слушая вас, чувствуешь прибыток сил. Дух воздвигается.
– Вона земля как вспахана! – вскрикнул Костанжогло с едким чувством прискорбия, показывая на косогор. – Я не могу здесь больше оставаться: мне смерть – глядеть на этот беспорядок и запустенье. Вы теперь можете с ним покончить и без меня. Отберите у этого дурака поскорее сокровище. Он только бесчестит божий дар. – И, сказавши это, Костанжогло уже омрачился желчным расположением взволнованного духа; простился с Чичиковым и, нагнавши хозяина, стал также прощаться.
– Помилуйте, Константин Фёдорович, – говорил удивлённый хозяин, – только что приехали – и назад!
– Не могу. Мне крайняя надобность быть дома, – сказал Костанжогло, простился, сел и уехал на своих пролётках.
Казалось, как будто Хлобуев понял причину его отъезда.
– Не выдержал Константин Фёдорович, – сказал он, – невесело такому хозяину, каков он, глядеть на этакое беспутное управление. Поверьте, Павел Иванович, что даже хлеба не сеял в этом году. Как честный человек! Семян не было, не говоря уж о том, что нечем пахать. Ваш братец, Платон Михайлович, говорят отличный хозяин: о Константине Фёдоровиче – что уж говорить! Это Наполеон своего рода. Часто, право, думаю: «Ну зачем столько ума даётся в одну голову? Ну что бы он хоть каплю его в мою глупую». Тут, смотрите, господа, осторожнее через мост, чтобы не бултыхнуть в лужу. Доски весною приказывал поправить. Жаль больше всего мне мужичков бедных: им нужен пример; но с меня что за пример? Что прикажете делать? Возьмите их, Павел Иванович, в своё распоряжение. Как могу приучить их к порядку, когда сам беспорядочен? Я бы их отпустил давно на волю, но из этого не будет никакого толку. Вижу, что прежде нужно привести их в такое состояние, чтобы умели жить. Нужен строгий и справедливый человек, который пожил <бы> с ними долго и собственным примером неутомимой деятельности <действовал на них>. Русский человек, вижу по себе, не может без понукателя: так и задремлет, так и закиснет.
– Странно, – сказал Платонов, – отчего русский человек способен так задремать и закиснуть, что, если не смотришь за простым человеком, сделается и пьяницей и негодяем.
– От недостатка просвещения, – заметил Чичиков.
– Бог весть отчего. Ведь вот мы просветились, слушали в университете, а на что годимся? Ну, чему я выучился? Порядку жить не только не выучился, а ещё больше – выучился искусству побольше издерживать деньги на всякие новые утончённости, да больше познакомился с такими предметами, на которые нужны деньги. Выучился только издерживаться на всякий комфорт. Оттого ли, что я бестолково учился? Нет, ведь так и другие товарищи. Два, три человека извлекли себе настоящую пользу, да и то оттого, может быть, что и без того были умны, а прочие ведь только и стараются узнать то, что портит здоровье, да и выманивает деньги. Ей-богу! А что я уж думаю: иной раз, право, мне кажется, что будто русский человек – какой-то пропащий человек. Хочешь всё сделать – и ничего не можешь. Всё думаешь – с завтрашнего дни начнёшь новую жизнь, с завтрашнего дни сядешь на диету – ничуть не бывало: к вечеру того же дни так объешься, что только хлопаешь глазами и язык не ворочает; как сова сидишь, глядя на всех, – право! И этак всё.
– Да, – сказал Чичиков, усмехнувшись, – эта история бывает.
– Мы совсем не для благоразумия рождены. Я не верю, чтобы из нас был кто-нибудь благоразумным. Если я вижу, что иной даже и порядочно живёт, собирает и копит деньгу, не верю я и тому. На старости и его чёрт попутает: спустит потом всё вдруг. И все так, право: и просвещённые и непросвещённые. Нет, чего-то другого недостаёт, а чего – и сам не знаю.
Так говоря, обошли они избы, потом проехали в коляске по лугам.
Места были бы хороши, если бы не были вырублены. Открылись виды; в стороне засинел бок возвыш<енностей>, тех самых где ещё недавно был Чичиков. Но ни деревни Тентетникова, ни генерала Бетрищева нельзя было видеть. Они были заслонены горами. Опустившись вниз к лугам, где был один только ивняк и низкий топольник – высокие деревья были срублены, – они навестили плохую водяную мельницу, видели реку, по которой бы можно было сплавить, если б только было что сплавлять. Изредка кое-где паслась тощая скотина. Обсмотревши, не вставая с коляски, они воротились снова <в> деревню, где встретили на улице мужика, который, почесав у себя рукою пониже [спины], так зевнул, что перепугал даже старостиных индеек. Зевота была видна на всех строениях. Крыши также зевали. Платонов, глядя на них, зевнул. «Заплата на заплате», – [думал Чичиков, увидевши, как] на одной избе вместо крыши лежали целиком ворота. В хозяйстве исполнялась система Тришкина кафтана: отрезывались обшлага и фалды на заплату локтей.
– Вот оно как у меня, – сказал Хлобуев. – Теперь посмотрим дом, – и повёл их в жилые покои дома.
Чичиков думал и там встретить лохмотье и предметы, возбуждающие зевоту, но, к изумлению, в жилых покоях было прибрано. Вошедши в комнаты дома, они были поражены как бы смешеньем нищеты с блестящими безделушками позднейшей роскоши. Какой-то Шекспир сидел на чернильнице; на столе лежала щегольская ручка слоновой кости для почёсыванья себе самому спины. Встретила их хозяйка, одетая со вкусом, по последней моде; четверо детей, также одетых хорошо, и при них даже гувернантка; они были все миловидны, но лучше бы оделись в пестрядевые юбки, простые рубашки и бегали себе по двору и не отличались ничем от крестьянских детей. К хозяйке скоро приехала гостья, какая-то пустомеля и болтунья. Дамы ушли на свою половину. Дети убежали вслед за ними. Мужчины остались одни.
– Так какая же будет ваша цена? – сказал Чичиков. – Спрашиваю, признаться, чтобы услышать крайнюю, последнюю цену, ибо поместье в худшем положенье, чем ожидал.
– В самом скверном, Павел Иванович, – сказал Хлобуев. – И это ещё не все. Я не скрою: из ста душ, числящихся по ревизии, только пятьдесят в живых; так у нас распорядилась холера. Прочие отлучились беспашпорно, так что почитайте их как бы умершими. Так что, если их вытребовать по судам, так всё имение останется по судам. Потому-то я и прошу всего только тридцать <пять> тысяч.
Чичиков стал, разумеется, торговаться.
– Помилуйте, как же тридцать пять? За этакое тридцать пять! Ну, возьмите двадцать пять тысяч.
Платонову сделалось совестно.
– Покупайте, Павел Иванович, – сказал он. – За именье можно всегда дать эту <цену>. Если вы не дадите за него тридцати <пяти> тысяч, мы с братом складываемся и покупаем.
– Очень хорошо, согласен, – сказал Чичиков, испугавшись. – Хорошо, только с тем, чтобы половину денег через год.
– Нет, Павел Иванович! Это-то уж никак не могу. Половину мне дайте теперь же, а остальные через пятнадцать дней. Ведь мне эти же самые деньги выдаст ломбард. Было бы только чем пиявок кормить.
– Как же, право? Я уж не знаю, у меня всего-навсего десять тысяч, – сказал Чичиков; сказал и соврал: всего у него было двадцать, включая деньги, занятые у Костанжогло; но как-то жалко так много дать за одним разом.
– Нет, пожалуйста, Павел Иванович! Я говорю, что необходимо, мне нужны пятнадцать тысяч.
– Я вам займу пять тысяч, – подхватил Платонов.
– Разве эдак! – сказал Чичиков и подумал про себя: «A однако же, кстати, что он даёт взаймы».
Из коляски была принесена шкатулка, и тут же было и вынуто десять тысяч Хлобуеву; остальные же пять тысяч обещано было привезти ему завтра; то есть обещано; предполагалось же привезти три, другие – потом, денька через два или три, если можно, то и ещё несколько просрочить. Павел Иванович как-то особенно не любил выпускать из рук денег. Если ж настояла крайняя необходимость, то всё-таки, казалось ему лучше выдать завтра, а не сегодня. То есть он поступил, как все мы. Ведь нам приятно же поводить просителя: пусть его натрёт себе спину в передней! Будто уж и нельзя подождать ему. Какое нам дело до того, что, может быть, всякий час ему дорог и терпят от того дела его: «Приходи, братец, завтра, а сегодня мне как-то некогда».
– Где же вы после этого будете жить? – спросил Платонов Хлобуева. – Есть у вас другая деревушка?
– Да в город нужно переезжать: там есть у меня домишка. Это нужно сделать для детей: им нужны будут учителя. Пожалуйста, здесь ещё можно достать учителя закону божию; музыке, танцеванью – ни за какие деньги в деревне нельзя достать.
«Куска хлеба нет, а детей учит танцеванью», – подумал Чичиков.
«Странно!» – подумал Платонов.
– Однако ж нужно нам чем-нибудь вспрыснуть сделку, – сказал Хлобуев. – Эй, Кирюшка! Принеси, брат, бутылку шампанского.
«Куска хлеба нет, а шампанское есть», – подумал Чичиков.
Платонов не знал, что и думать.
Шампанским <Хлобуев> обзавелся по необходимости. Он послал в город: что делать? – в лавочке не дают квасу в долг без денег, а пить хочется. А француз, который недавно приехал с винами из Петербурга, всем давал в долг. Нечего делать, нужно было брать бутылку шампанского.
Шампанское было принесено. Они выпили по три бокала и развеселились. Хлобуев развязался, стал мил и умён, сыпал остротами и анекдотами. В речах его обнаружилось столько познанья людей и света! Так хорошо и верно видел он многие вещи, так метко и ловко очерчивал немногими словами соседей помещиков, так видел ясно недостатки и ошибки всех, так хорошо знал историю разорившихся бар: и почему, и как, и отчего разорились; так оригинально и смешно умел передавать малейшие их привычки, – что они оба были совершенно обворожены его речами и готовы были признать его за умнейшего человека.
– Мне удивительно, – сказал Чичиков, – как вы, при таком уме, не найдете средств и оборотов?
– Средства-то есть, – сказал Хлобуев и тут <же> выгрузил им целую кучу прожектов. Все они были до того нелепы, так странны, так мало истекали из познанья людей и света, что оставалось пожимать только плечами да говорить: «Господи боже, какое необъятное расстояние между знаньем света и уменьем пользоваться этим знаньем!» Всё основывалось на потребности достать откуда-нибудь вдруг сто или двести тысяч. Тогда, казалось ему, всё бы устроилось как следует: и хозяйство бы пошло, и прорехи все бы заплатались, и доходы можно учетверить, и себя привести в возможность выплатить все долги. И оканчивал он речь свою: – Но что прикажете делать? Нет, да и нет такого благодетеля, который бы решился дать двести или хоть сто тысяч взаймы. Видно, уж бог не хочет.
«Ещё бы, – подумал Чичиков, – этакому дураку послал бог двести тысяч».
– Есть у меня, пожалуй, трёхмиллионная тётушка, – сказал Хлобуев, – старушка богомольная: на церкви и монастыри даёт, но помогать ближнему тугенька. Прежних времён тётушка, на которую бы взглянуть стоило. У ней одних канареек сотни четыре, моськи, приживалки и слуги, каких уж теперь нет. Меньшому из слуг будет лет под шестьдесят, хоть она и зовет его: «Эй, малый!» Если гость как-нибудь себя не так поведёт, так она за обедом прикажет обнести его блюдом. И обнесут. Вот какая!
Платонов усмехнулся.
– А как её фамилия и где проживает? – спросил Чичиков.
– Живёт она у нас же в городе, Александра Ивановна Ханасарова.
– Отчего ж вы не обратитесь к ней? – сказал с участием Платонов. – Мне кажется, если бы она вошла в положенье вашего семейства, она бы не могла отказать.
– Ну нет, может. У тётушки натура крепковата. Эта старушка-кремень, Платон Михайлович! Да к тому ж есть и без меня угодники, которые около неё увиваются. Там есть один, который метит в губернаторы: приплёлся ей в родню. Сделайте мне такое одолжение, – сказал он вдруг, обратясь <к Платонову>, – на будущей неделе я даю обед всем сановникам в городе…
Платонов растопырил глаза. Он ещё не знал, что на Руси, в городах и столицах, водятся такие мудрецы, которых жизнь совершенно необъяснимая загадка. Всё, кажется, прожил, кругом в долгах, никаких средств, а задаёт обед; и все обедающие говорят, что это последний, что завтра же хозяина потащат в тюрьму. Проходит после того десять лет – мудрец всё ещё держится на свете, ещё больше прежнего кругом в долгах и так же задаёт обед, на котором все обедающие думают, что он последний, и все уверены, что завтра же потащат хозяина в тюрьму.
Дом <Хлобуева> в городе представлял необыкновенное явление. Сегодня поп в ризах служил там молебен; завтра давали репетицию французские актёры. В иной день три крошки хлеба нельзя было отыскать; в другой – хлебосольный приём всех артистов и художников и великодушная подача всем. Бывали такие подчас тяжёлые времена, что другой давно бы на его месте повесился или застрелился; но его спасало религиозное настроение, которое странным образом совмещалось в нём с беспутною его жизнью. В эти горькие минуты читал он жития страдальцев и тружеников, воспитывавших дух свой быть превыше несчастий. Душа его в это время вся размягчалась, умилялся дух, и слезами исполнялись глаза его. Он молился, и – странное дело! – почти всегда приходила к нему откуда-нибудь неожиданная помощь: или кто-нибудь из старых друзей его вспоминал о нём и присылал ему деньги: или какая-нибудь проезжая незнакомка, нечаянно услышав о нём историю, с стремительным великодушьем женского сердца присылала ему богатую подачу; или выигрывалось где-нибудь в пользу его дело, о котором он никогда слышал. Благоговейно признавал он тогда необъятное милосердье провиденья, служил благодарственный молебен и вновь начинал беспутную жизнь свою.
– Жалок он мне, право, жалок, – сказал Чичикову Платонов, когда они, простившись с ним, выехали от него.
– Блудный сын! – сказал Чичиков. – О таких людях и жалеть нечего.
И скоро они оба перестали о нём думать: Платонов – потому, что лениво и полусонно смотрел на положенья людей, так же как и на всё в мире. Сердце его сострадало и щемило при виде страданий других, но впечатленья как-то не впечатлевались глубоко в его душе. Он потому не думал о Хлобуеве, что и о себе самом не думал. Чичиков потому не думал о Хлобуеве, что все его мысли были заняты не на шутку приобретённою покупкою. Он стал задумчив, и предположенья и мысли стали степенней и давали невольно значительное выраженье лицу. «Терпенье! Труд! Вещь нетрудная: с ними я познакомился, так сказать с пелён детских. Мне они не в новость. Но станет ли теперь, в эти годы, столько терпенья, сколько в молодости?» Как бы то ни было, как ни рассматривал он, на какую сторону ни оборачивал приобретённую покупку, видел, что во всяком случае покупка была выгодна. Можно было поступить и так, чтобы заложить имение в ломбард, прежде выпродав по кускам лучшие земли. Можно было распорядиться и так, чтобы заняться самому хозяйством и сделаться помещиком по образцу Костанжогло, пользуясь его советами как соседа и благодетеля. Можно было поступить даже и так, чтобы перепродать в частные руки имение (разумеется, если не захочется самому хозяйничать), оставивши при себе беглых и мертвецов. Тогда представлялась и другая выгода: можно было вовсе улизнуть из этих мест и не заплатить Костанжогло денег, взятых у него взаймы. Странная мысль! Не то чтобы Чичиков возымел <её>, но она вдруг сама собой предстала, дразня и усмехаясь, и прищуриваясь на него. Непотребница! Егоза! И кто творец этих вдруг набегающих мыслей? Он почувствовал удовольствие, – удовольствие оттого, что стал теперь помещиком – помещиком не фантастическим, но действительным, помещиком, у которого есть уже и земли, и угодья, и люди – люди не мечтательные, в воображенье пребываемые, но существующие. И понемногу начал он подпрыгивать, и потирать себе руки, и подмигивать себе самому и вытрубил на кулаке, приставивши его себе ко рту, как бы на трубе, какой-то марш, и даже выговорил вслух несколько поощрительных слов и названий себе самому, вроде «мордашки» и «каплунчика». Но потом, вспомнивши, что он не один, притих вдруг, постарался кое-как замять неумеренный порыв восторгновенья; и когда Платонов, принявши кое-какие из звуков за обращённую к нему речь, спросил у него: «Чего?» – он отвечал: «Ничего».