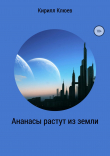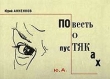Текст книги "Мертвые души. Том 2"
Автор книги: Николай Гоголь
Соавторы: Юрий Авакян
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 27 страниц)
– За вас буду в казну подати платить, цените это, – пошутил Чичиков, на что Андрей Иванович ничего не сказал, а лишь только улыбнулся.
Потягиваясь сегодня в постели, Чичиков чувствовал в каждом уголке своего отдохнувшего за ночь тела приятный покой и весёлую уверенность в себе.
Вставши и умывшись холодною водою, он прошёл в столовую, где быстро позавтракал и не мешкая, не дожидаясь выхода Андрея Ивановича, собрался отбыть с визитами к родственникам генерала Бетрищева. Велев Селифану заложить бричку, он прошёл на половину Тентетникова и на правах друга, столь много позаботившегося об несчастном Андрее Ивановиче, постучался к нему в спальню.
– Андрей Иванович, проститься пришёл, – вскричал он из-за притворенной двери, – с объездом отправляюсь, по поручению его превосходительства, вашего «батюшки», – пошутил он, сопровождая слова свои мягким смешком.
В спальной простучало, проскрипело, и в отворённые двери вышел заспанный Андрей Иванович.
– Ох, простите, Павел Иванович, за вид, – сказал он запахиваясь в халат, – не думал, что вы так рано поедете.
– Надо мой друг, надо – сказал Чичиков, извлекая из жилетного кармана список, коим снабдил его генерал, и приступая к расспрашиванию об именах, означенных в списке: где, кто живёт, да каково поместье, да сколько душ и прочее, что было так необходимо для его основной затеи.
Первым в списке было проставлено имя некоего полковника Кошкарёва.
– Вот с него и начну, – сказал Чичиков и, глянувши на Тентетникова, уловил его странную двусмысленную улыбку.
– Что-нибудь не так? – спросил Чичиков, а Тентетников снова как-то странно улыбнулся и сказал:
– Павел Иванович, вы когда к нему приедете, то ничему не удивляйтесь. Он ведь немного чудаковатый, если не сказать более, – Тентетников хотел ещё что-то добавить, но промолчал. – Да вы сами увидите, – сказал он. – Кстати, Павел Иванович, я вот ведь что хотел вам предложить, но только ради бога, дайте мне слово, что не откажете в просьбе, – прибавил Андрей Иванович, точно бы вспомнивши нечто важное, и с вопросом во взоре глянул на Чичикова.
– Обещаю, – отозвался тот, – и всегда к вашим услугам.
– Ну так вот, – обрадованно проговорил Тентетников, потому как дорога вам предстоит неблизкая, то я хотел, чтобы вы, Павел Иванович, приняли от меня в качестве чистосердечного дара новую мою коляску. Я думаю, что в ней вам будет куда как удобнее, нежели чем в бричке.
У Чичикова от такого предложения радостно ёкнуло сердце, он принялся было отнекиваться для виду, говоря, что ни за что и никогда не согласится принять подобный подарок, но Тентетников не отступал, коря его за то, что он нарушает данное им же только что слово, и, попререкавшись подобным манером минуты две-три, Павел Иванович согласился, якобы уступая настойчивости Андрея Ивановича, на самом же деле будучи вне себя от радости.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
– Если полковник Кошкарёв точно, сумасшедший, то это недурно, – говорил Чичиков, очутившись опять посреди открытых полей и пространств, когда всё исчезло и только остался один небесный свод да два облака в стороне. – Ты, Селифан, расспросил ли хорошенько, как дорога к полковнику Кошкарёву?
– Я, Павел Иванович, изволите видеть, так как всё хлопотал около коляски, так мне некогда было; а Петрушка расспрашивал у кучера.
– Вот и дурак! На Петрушку, сказано, не полагаться: Петрушка бревно, Петрушка глуп; Петрушка, чай, и теперь пьян.
– Ведь тут не мудрость какая! – сказал Петрушка, полуоборотясь и глядя искоса.
– Окроме того, что, спустясь с горы, взять лугом, ничего больше и нет.
– А ты, окроме сивухи, ничего и в рот не брал? Хорош, очень хорош! Уж вот, можно сказать, удивил красотой Европу! – сказав это, Чичиков погладил свой подбородок и подумал: «Какая, однако ж, разница между просвещённым гражданином и грубой лакейской физиономией!»
Коляска стала между тем спускаться. Открылись опять луга и пространства, усеянные осиновыми рощами.
Тихо вздрагивая на упругих пружинах, продолжал бережно спускаться незаметным косогором покойный экипаж и наконец понёсся лугами мимо мельниц, с лёгким громом по мостам, с небольшой покачкой по тряскому мякишу низменной земли. И хоть бы один бугорок или кочка дали себя почувствовать бокам! Утешенье, а <не> коляска. Вдали мелькали пески. Быстро пролетали мимо их кусты лоз, тонких ольх и серебристых тополей, ударяя ветвями сидевших на козлах Селифана и Петрушку. С последнего ежеминутно сбрасывали они картуз. Суровый служитель соскакивал с козел, бранил глупое дерево и хозяина, который насадил его, но привязать картуза или даже придержать рукою всё не хотел, надеясь, что в последний раз и дальше не случится. К деревьям же скоро присоединилась берёза, там ель. У корней гущина; трава – синяя ирь и жёлтый лесной тюльпан. [Непробудный мрак бесконечного леса сгущался и, казалось,] готовился превратиться в ночь. Но вдруг отовсюду сверкнули проблески света, как бы сияющие зеркала. Деревья заредели, блески становились больше, и вот перед ними озеро – водная равнина, версты четыре в поперечнике. На супротивном берегу, над озером, высыпалась серыми бревенчатыми избами деревня. Крики раздавались в воде. Человек двадцать, по пояс, по плеча и по горло в воде, тянули к супротивному берегу невод. Случилась оказия: вместе с рыбою запутался как-то круглый человек, такой же меры в вышину, как и в толщину, точный арбуз или бочонок. Он был в отчаянном положении и кричал во всю глотку: «Телепень Денис, передавай Козьме! Козьма, бери конец у Дениса! Не напирай так, Фома Большой! Ступай туды, где Фома Меньшой. Черти! Говорю вам, оборвёте сети!» Арбуз, как видно, боялся не за себя: потонуть, по причине толщины, он не мог, и, как бы ни кувыркался, желая нырнуть, вода бы его всё выносила наверх; и если бы село к нему на спину ещё двое, он бы, как упрямый пузырь, остался с ними на верхушке воды, слегка только под ними покряхтывая да пуская носом волдыри. Но он боялся крепко, чтобы не оборвался невод и не ушла рыба и потому, сверх прочего, тащили его ещё накинутыми верёвками несколько человек, стоящих на берегу.
– Должен быть барин, полковник Кошкарёв, – сказал Селифан.
– Почему?
– Оттого, что тело у него, изволите видеть, побелей, чем у других, и дородство почтительное, как у барина.
Барина, запутанного в сети, притянули между тем уже значительно к берегу. Почувствовав, что может достать ногами, он стал на ноги, и в это время увидел спускавшуюся с плотины коляску и в ней сидящего Чичикова.
– Обедали? – закричал барин, подходя с пойманною рыбою на берег, весь опутанный в сеть, как в летнее время дамская ручка в сквозную перчатку, держа одну руку над глазами козырьком в защиту от солнца, другую же пониже, на манер Венеры Медицейской, выходящей из бани.
– Нет, – сказал Чичиков, приподнимая картуз и продолжая раскланиваться с коляски.
– Ну, так благодарите же бога!
– А что? – спросил Чичиков любопытно, держа над головою картуз.
– А вот что. [Брось, Фома Меньшой, сеть, да приподыми] осетра из лоханки! Телепень Козьма, ступай помоги!
Двое рыбаков приподняли из лоханки голову какого-то чудовища.
– Вона какой князь! Из реки зашёл! – кричал круглый барин. – Поезжайте во двор! Кучер, возьми дорогу пониже, через огород! Побеги, телепень Фома Большой, снять перегородку! Он вас проводит, а я сейчас.
Длинноногий босой Фома Большой, как был, в одной рубашке, побежал впереди коляски через всю деревню, где у всякой избы развешены были бредни, сети и морды: все мужики были рыбаки; потом вынул из какого-то огорода перегородку, и огородами выехала коляска на площадь, близ деревянной церкви. За церковью, подальше, видны были крыши господских строений.
«Чудаковат этот Кошкарёв», – думал Чичиков про себя.
– А вот я и здесь! – раздался голос сбоку.
Чичиков оглянулся. Барин уже ехал возле него, одетый: травяно-зелёный нанковый сертук, жёлтые штаны и шея без галстука, на манер купидона! Боком сидел он на дрожках, занявши собою все дрожки. Он хотел было что-то сказать ему, но толстяк уже исчез. Дрожки показались снова на том <месте>, где вытаскивали рыбу. Раздались снова голоса: «Фома Большой да Фома Меньшой, Козьма да Денис!» Когда же подъехал он крыльцу дома, к величайшему изумлению его толстый барин бы уже на крыльце и принял его в свои объятья. Как он успел так слетать – было непостижимо. Они поцеловались, по старому русскому обычаю, троекратно навкрест: барин был старого покроя.
– Я привёз вам поклон от его превосходительства, – сказал Чичиков.
– От какого превосходительства?
– От родственника вашего, от генерала Александра Дмитриевича.
– Кто это Александр Дмитриевич?
– Генерал Бетрищев, – отвечал Чичиков с некоторым изумлением.
– Незнаком, – сказал с изумлением х<озяин>.
Чичиков пришёл ещё в большее изумление.
– Как же это?.. Я надеюсь, по крайней мере, что имею удовольствие говорить с полковником Кошкарёвым?
– Нет, не надейтесь. Вы приехали не к нему, а ко мне. Пётр Петрович Петух! Петух Пётр Петрович! – подхватил хозяин.
Чичиков остолбенел.
– Как же? – оборотился он к Селифану и Петрушке, которые тоже оба разинули рот и выпучили глаза, один сидя на козлах, другой стоя у дверец коляски. – Как же вы, дураки? Ведь вам сказано: к полковнику Кошкарёву… А ведь это Пётр Петрович Петух…
– Ребята сделали отлично! Ступай на кухню: там вам дадут по чапорухе водки, – сказал Пётр Петрович Петух. Откладывайте коней и ступайте сей же час в людскую!
– Я совещусь: такая нежданная ошибка… – говорил Чичиков.
– Не ошибка. Вы прежде попробуйте, каков обед, да потом скажете: ошибка ли это? Покорнейше прошу, – сказал <Петух> взявши Чичикова под руку и вводя его во внутренние покои.
Из покоев вышли им навстречу двое юношей в летних сертуках – тонкие, точно ивовые хлысты; целым аршином выгнало их вверх [выше] отцовского роста.
– Сыны мои, гимназисты, приехали на праздники… Николаша, ты побудь с гостем; а ты Алексаша, ступай за мною. – Сказав это, хозяин исчезнул.
Чичиков занялся с Николашей. Николаша, кажется, был будущий человек-дрянцо. Он рассказал с первых же разов Чичикову, что в губернской гимназии нет никакой выгоды учиться, что они с братом хотят ехать в Петербург, потому <что> провинция не стоит того, чтобы в ней жить…
«Понимаю, – подумал Чичиков, – кончится дело кондитерскими да булеварами…»
– А что, – спросил он вслух, – в каком состоянии именье вашего батюшки?
– Заложено, – сказал на это сам батюшка, снова очутившийся в гостиной, – заложено.
«Плохо, – подумал Чичиков. – Этак скоро не останется ни одного именья: нужно торопиться».
– Напрасно, однако же, – сказал он с видом соболезнованья, – поспешили заложить.
– Нет, ничего, – сказал Петух. – Говорят, выгодно. Все закладывают: как же отставать от других? Притом же всё жил здесь: дай-ка ещё попробую прожить в Москве. Вот сыновья тоже уговаривают, хотят просвещенья столичного.
«Дурак, дурак! – думал Чичиков, – промотает всё, да и детей сделает мотишками. Именьице порядочное. Поглядишь – мужикам хорошо, и им недурно. А как просветятся там у ресторанов да по театрам – всё пойдет к черту. Жил бы себе, кулебяка, в деревне».
– А ведь я знаю, что вы думаете, – сказал Петух.
– Что? – спросил Чичиков, смутившись.
– Вы думаете: «Дурак, дурак этот Петух: зазвал обедать, а обеда до сих пор нет». Будет готов, почтеннейший. Не успеет стриженая девка косы заплесть, как он поспеет.
– Батюшка! Платон Михалыч едет! – сказал Алексаша, глядя в окно.
– Верхом на гнедой лошади! – подхватил Николаша, нагибаясь к окну.
– Где, где? – прокричал Петух, подступив <к окну>.
– Кто это Платон <Михайлович>? – спросил Чичиков у Алексаши.
– Сосед наш, Платон Михайлович Платонов, прекрасный человек, отличный человек, – сказал сам <Петух>.
Между тем вошёл в комнату сам Платонов, красавец, стройного роста, светло-русый: [блестящие кудри и тёмные глаза]. Гремя медным ошейником, мордатый пёс, собака-страшилище именем Ярб, вошёл вслед за ним.
– Обедали? – спросил хозяин.
– Обедал.
– Что же вы, смеяться, что ли, надо мной приехали? Что мне в вас после обеда?
Гость, усмехнувшись, сказал:
– Утешу вас тем, что ничего не ел: вовсе нет аппетита.
– А каков был улов, если б вы видели! Какой осетрище пожаловал! Какие карасищи, коропищи какие!
– Даже досадно вас слушать. Отчего вы всегда так веселы?
– Да отчего же скучать? Помилуйте! – сказал хозяин.
– Как отчего скучать? – оттого, что скучно.
– Мало едите, вот и всё. Попробуйте-ка хорошенько пообедать. Ведь это в последнее время выдумали скуку; прежде никто не скучал.
– Да полно хвастать! Будто уж вы никогда не скучали?
– Никогда! Да и не знаю, даже и времени нет для скучанья. Поутру проснёшься – ведь тут сейчас повар, нужно заказывать обед. Тут чай, тут приказчик, там на рыбную ловлю, а тут и обед. После обеда не успеешь всхрапнуть – опять повар, нужно заказывать ужин. Когда же скучать?
Во всё время разговора Чичиков рассматривал гостя, который его изумлял необыкновенной красотой своей, стройным, картинным ростом, свежестью неистраченной юности, девственной чистотой ни одним прыщиком не опозоренного лица. Ни страсти, ни печали, ни даже что-либо похожее на волнение и беспокойство не дерзнули коснуться его девственного лица и положить на нём морщину, но с тем вместе и не оживили его. Оно оставалось как-то сонно, несмотря на ироническую усмешку, временами его оживлявшую.
– Я также, если позволите заметить, – сказал он, – не могу понять, как при такой наружности, какова ваша, скучать. Конечно, если недостача денег или враги, как есть иногда такие, которые готовы покуситься даже на самую жизнь…
– Поверьте, – прервал красавец гость, – что для разнообразия я бы желал иногда иметь какую-нибудь тревогу: ну, хоть бы кто рассердил меня, – и того нет. Скучно, да и только.
– Стало быть, недостаточность земли по имению, малое количество душ?
– Ничуть. У нас с братом земли на десять тысяч десятин и при них больше тысячи человек крестьян.
– Странно, не понимаю. Но, может быть, неурожай, болезни? Много вымерло мужеска пола людей?
– Напротив, всё в наилучшем порядке, и брат мой отличнейший хозяин.
– И при этом скучать! Не понимаю, – сказал Чичиков и пожал плечами.
– А вот мы скуку сейчас прогоним, – сказал хозяин. – Бежи, Алексаша, проворней на кухню и скажи повару, чтобы поскорей прислал нам расстегайчиков. Да где ж ротозей Емельян и вор Антошка? Зачем не дают закуски?
Но дверь растворилась. Ротозей Емельян и вор Антошка явились с салфетками, накрыли стол, поставили поднос с шестью графинами разноцветных настоек. Скоро вокруг подносов и графинов обстановилось ожерелье тарелок со всякой подстрекающей снедью. Слуги поворачивались расторопно, непрестанно принося что-то в закрытых тарелках, сквозь которые слышно было ворчавшее масло. Ротозей Емельян и вор Антошка расправлялись отлично. Названья эти были им даны так только для поощренья. Барин был вовсе не охотник браниться, он был добряк. Но русский человек уж любит пряное слово. [Оно ему] нужно, как рюмка водки для сваренья в желудке. Что ж делать? Такая натура: ничего пресного не любит.
Закуске последовал обед. Здесь добродушный хозяин сделался совершенным разбойником. Чуть замечал у кого один кусок, подкладывал тут же другой, приговаривая: «Без пары ни человек, ни птица не могут жить на свете». У кого два – подваливал ему третий, приговаривая: «Что ж за число два? Бог любит троицу». Съедал гость три – он ему: «Где ж бывает телега о трёх колёсах? Кто ж строит избу о трёх углах?» На четыре у него была тоже поговорка, на пять – опять. Чичиков съел чего-то чуть не двенадцать ломтей и думал: «Ну, теперь ничего не приберёт больше хозяин». Не тут-то было: не говоря ни слова положил ему на тарелку хребтовую часть телёнка, жареного на вертеле, с почками, да и какого телёнка!
– Два года воспитывал на молоке, – сказал хозяин, – ухаживал, как за сыном!
– Не могу, – сказал Чичиков.
– Вы попробуйте да потом скажите: не могу!
– Не взойдёт, нет места.
– Да ведь и в церкви не было места, взошёл городничий – нашлось. А была такая давка, что и яблоку негде было упасть. Вы только попробуйте: этот кусок тот же городничий.
Попробовал Чичиков – действительно, кусок был вроде городничего. Нашлось ему место, а казалось, ничего нельзя было поместить.
«Ну, как этакому человеку ехать в Петербург или в Москву? С этаким хлебосольством он там в три года проживётся в пух!» То есть, он не знал того, что теперь это усовершенствовано: и без хлебосольства спустить не в три года, а в три месяца всё.
Он то и дело подливал да подливал; чего ж не допивали гости, давал допить Алексаше и Николаше, которые так и хлопали рюмку за рюмкой; вперёд видно <было, на> какую часть человеческих познаний обратят <они> внимание по приезде в столицу. С гостьми было не то: в силу, в силу перетащились они на балкон и в силу поместились в креслах. Хозяин, как сел в своё, какое-то четырёхместное, так тут же и заснул. Тучная собственность его, превратившись в кузнецкий мех, стала издавать через открытый рот и носовые продухи такие звуки, какие редко приходят в голову и нового сочинителя: и барабан и флейта, какой-то отрывистый гул, точный собачий лай.
– Эк его насвистывает! – сказал Платонов.
Чичиков рассмеялся.
– Разумеется, если этак пообедаешь, как тут прийти скуке! Тут сон придёт. Не правда ли?
– Да. Но я, однако же, – вы меня извините, – не могу понять, как можно скучать. Против скуки есть так много средств.
– Какие же?
– Да мало ли для молодого человека? Танцевать, играть на каком-нибудь инструменте… а не то – жениться.
– На ком?
– Да будто в окружности нет хороших и богатых невест?
– Да нет.
– Ну, поискать в других местах, поездить. – И богатая мысль сверкнула вдруг в голове Чичикова. – Да вот прекрасное средство! – сказал он, глядя в глаза Платонову.
– Какое?
– Путешествие.
– Куда ж ехать?
– Да если вам свободно, так поедем со мной, – сказал Чичиков и подумал про себя, глядя на Платонова: «А это было бы хорошо. Тогда бы можно издержки пополам, а подчинку коляски отнести вовсе на его счёт».
– А вы куда едете?
– Покамест еду я не столько по своей нужде, сколько по надобности другого. Генерал Бетрищев, близкий приятель и, можно сказать, благотворитель, просил навестить родственников… Конечно, родственники родственниками, но отчасти, так сказать, и для самого себя: ибо видеть свет, коловращенье людей – кто что ни говори, есть как бы живая книга, вторая наука. – И, сказавши это, помышлял Чичиков между тем так: «Право, было бы хорошо. Можно даже и все издержки на его счёт, даже и отравиться на его лошадях, а мои бы покормились у него в деревне».
«Почему ж не поездиться? – думал между тем Платонов. – Дома же мне делать нечего, хозяйство и без того на руках у брата; стало быть расстройства никакого. Почему ж, в самом деле, не проездиться?»
– А согласны ли вы, – сказал он вслух, – погостить у брата денька два? Иначе он меня не отпустит.
– С большим удовольствием. Хоть три.
– Ну так по рукам! Едем! – сказал, оживясь, Платонов.
Они хлопнули по рукам: «Едем!»
– Куда, куда? – вскрикнул хозяин, проснувшись и выпуча на них глаза. – Нет, сударики! И колёса у коляски приказано снять, а вашего жеребца, Платон Михайлыч, угнали отсюда за пятнадцать вёрст. Нет, вот вы сегодня переночуйте, а завтра после раннего обеда и поезжайте себе.
Что было делать с Петухом? Нужно было остаться. Зато награждены они были удивительным весенним вечером. Хозяин устроил гулянье на реке. Двенадцать гребцов, в двадцать четыре весла, с песнями понесли их по гладкому хребту зеркального озера. Из озера они пронеслись в реку, беспредельную, с пологими берегами на обе стороны, подходя беспрестанно под протянутые впоперёк реки канаты для ловли. Хоть бы струйкой шевельнулись воды; только безмолвно являлись пред ними один за другим виды, и роща за рощей тешила взоры разнообразным размещением дерев. Гребцы, хвативши разом в двадцать четыре весла, подымали вдруг все вёсла вверх, и катер сам собой, как лёгкая птица, стремился по недвижной зеркальной поверхности. Парень-запевала, плечистый детина, третий от руля, починал чистым, звонким голосом, выводя как бы из соловьиного горла начинальные запевы песни, пятеро подхватывало, шестеро выносило, и разливалась она, беспредельная, как Русь. И Петух, встрепенувшись, пригаркивал, поддавая, где не хватало у хора силы, и сам Чичиков чувствовал, что он русский. Один только Платонов думал: «Что хорошего в этой заунывной песне? От неё ещё большая тоска находит на душу».
Возвращались назад уже сумерками. Впотьмах ударяли вёсла по водам, уже не отражавшим неба. В темноте пристали они к берегу, по которому разложены были огни; на треногах варили рыбаки уху из животрепещущих ершей. Всё уже было дома. Деревенская скотина и птица уже давно была пригнана, пыль от них уже улеглась, и пастухи, пригнавшие их, стояли у ворот, ожидая кринки молока и приглашение к ухе. В сумерках слышался тихий гомон людской, бреханье собак, где-то отдававшееся из чужих деревень. Месяц подымался, и начали озаряться потемневшие окрестности, и всё озарилось. Чудные картины! Но некому было ими любоваться. Николаша и Алексаша вместо того чтобы пронестись в это время перед ними на двух лихих жеребцах, в обгонку друг друга, думали о Москве, о кондитерских, о театрах, о которых натолковал им заезжий из столицы кадет. Отец их думал о том, как бы окормить своих гостей. Платонов зевал. Всех живей оказался Чичиков. «Эх, право! Заведу когда-нибудь деревеньку!» И стали ему представляться и бабёнка и Чичонки.
А за ужином опять объелись. Когда вошёл Павел Иванович в отведённую комнату для спанья и, ложась в постель, пощупал животик свой: «Барабан! – сказал, – никакой городничий не взойдёт!» Надобно <же быть> такому стечению обстоятельств, что за стеной был кабинет хозяина. Стена была тонкая, и слышалось всё, что там ни говорилось. Хозяин заказывал повару, под видом раннего завтрака на завтрашний день, решительный обед. И как заказывал! У мёртвого родился бы аппетит.
– Да кулебяку сделай на четыре угла, – говорил он с присасыванием и забирая к себе дух. – В один угол положи ты мне щёки осетра да вязиги, в другой гречневой кашицы, да грибочков с лучком, да молок сладких, да мозгов, да ещё чего знаешь там этакого, какого-нибудь там того… Да чтобы она с одного боку, понимаешь, подрумянилась бы, с другого пусти её полегче. Да исподку-то, пропеки её так, чтобы всю её прососало, проняло бы так, чтобы она вся, знаешь, этак растого – не то чтобы рассыпалась, а истаяла бы во рту, как снег какой, так чтобы и не услышал. – Говоря это, Петух присмактывал и подшлёпывал губами.
«Чёрт побери! Не даст спать», – думал Чичиков и закутал голову в одеяло, чтобы не слышать ничего. Но и сквозь одеяло было слышно:
– А в обкладку к осетру подпусти свёклу звёздочкой, да снеточков, да груздочков, да там, знаешь, репушки да морковки, да бобков, там чего-нибудь этакого, знаешь, того-растого, чтобы гарниру, гарниру всякого побольше. Да в свиной сычуг положи ледку, чтобы он взбухнул хорошенько.
Много ещё Петух заказывал блюд. Только и раздавалось: «Да поджарь, да подпеки, да дай взопреть хорошенько!» Заснул Чичиков уже на каком-то индюке.
На другой день до того объелись гости, что Платонов уже не мог ехать верхом. Жеребец был отправлен с конюхом Петуха.
Они сели в коляску. Мордатый пёс лениво пошёл за коляской: он тоже объелся.
– Это уже слишком, – сказал Чичиков, когда выехали он со двора.
– А не скучает, вот что досадно! – сказал Платонов.
«Было бы у меня, как у тебя, семьдесят тысяч в год доходу, – подумал Чичиков, – да я бы скуку и на глаза к себе <не допустил>. Вот откупщик Муразов, – легко сказать, – десять миллионов… Экой куш!»
– Что, вам ничего заехать? Мне бы хотелось проститься с сестрой и с зятем.
– С большим удовольствием, – сказал Чичиков.
– Если вы охотник до хозяйства, – сказал Платонов, – то вам будет с ним интересно познакомиться. Уж лучше хозяина вы не сыщете. Он в десять лет возвёл своё именье до <того>, что вместо тридцати теперь получает двести тысяч.
– Ах, да это, конечно, предпочтенный человек! Это преинтересно будет с этаким человеком познакомиться. Как же? Да ведь это сказать… А как по фамилии?
– Костанжогло.
– А имя и отчество, позвольте узнать?
– Константин Фёдорович.
– Константин Фёдорович Костанжогло. Очень будет интересно познакомиться. Поучительно узнать этакого человека.
Платонов принял на себя руководить Селифаном, – что было нужно, потому что тот едва держался на козлах. Петрушка два раза сторчаком слетел с коляски, так что необходимо было, наконец, привязать его верёвкой к козлам. «Экая скотина» – повторял только Чичиков.
– Вот, поглядите-ка, начинаются его земли, – сказал Платонов, – совсем другой вид.
И в самом деле, через всё поле сеяный лес – ровные, как стрелки, дерева; за ними другой, повыше, тоже молодник; за ними старый лесняк, и всё один выше другого. Потом опять полоса поля, покрытая густым лесом, и снова таким же образ молодой лес, и опять старый. И три раза проехали, как сквозь ворота стен, сквозь леса.
– Это всё у него выросло каких-нибудь лет в восемь, в десять, что у другого и в двадцать <не вырастет>.
– Как же это он сделал?
– Расспросите у него. Это землевед такой, у него ничего нет даром. Мало что он почву знает, как знает, какое соседство для кого нужно, возле какого хлеба какие дерева. Всякий у него три, четыре должности разом отправляет. Лес у него, кроме того что для леса, нужен затем, чтобы в таком-то месте не столько-то влаги прибавить полям, на столько-то унавозить падающим листом, на столько-то дать тени. Когда вокруг засуха, у него нет засухи; когда вокруг неурожай, у него нет неурожая. Жаль, что я сам мало эти вещи знаю, не умею рассказать, а у него такие штуки… Его называют колдуном.
«В самом деле, это изумительный муж, – подумал Чичиков. – Весьма прискорбно, что молодой человек поверхностен и не умеет рассказать».
Наконец показалась деревня. Как бы город какой, высыпалась она множеством изб на трёх возвышениях, увенчанных тремя церквами, переграждённая повсюду исполинскими скирдами и кладями. «Да, – подумал Чичиков, – видно, что живет хозяин-туз». Избы все крепкие, улицы торные; стояла ли где телега – телега была крепкая и новёшенькая; мужик попадался с каким-то умным выражением лица; рогатый скот на отбор; даже крестьянская семья глядела дворянином. Так и видно, что здесь именно живут те мужики, которые гребут, как поётся в песне, серебро лопатой. Не было тут аглицких парков и газонов со всякими затеями, но, по-старинному, шёл проспект амбаров и рабочих домов вплоть до самого дому, чтобы всё было видно барину, что ни делается вокруг его; и в довершение – поверх дома фонарь обозревал на пятнадцать вёрст кругом всю окольность. У крыльца их встретили слуги, расторопные, совсем не похожие на пьяницу Петрушку, хотя на них и не было фраков, казацкие чекмени синего домашнего сукна.
Хозяйка дома выбежала сама на крыльцо. Свежа она была, как кровь с молоком; хороша, как божий день; походила как две капли на Платонова, с той разницей только, что не была вяла, как он, но разговорчива и весела.
– Здравствуй, брат! Ну, как же я рада, что ты приехал. А Константина нет дома; но он скоро будет.
– Где ж он?
– У него есть дело на деревне с какими-то покупщиками – говорила она, вводя гостей в комнату.
Чичиков с любопытством рассматривал жилище этого необыкновенного человека, который получал двести тысяч думая по нём отыскать свойства самого хозяина, как по оставшейся раковине заключают об устрице или улитке, некогда в ней сидевшей и оставившей своё отпечатление. Но нельзя было вывести никакого заключения. Комнаты все просты, даже пусты: ни фресков, ни картин, ни бронз, ни цветов, ни этажерок с фарфором, ни даже книг. Словом, всё показывало, что главная жизнь существа, здесь обитавшего, проходила вовсе не в четырёх стенах комнаты, но в поле, и самые мысли не обдумывались заблаговременно сибаритским образом, у огня перед камином, в покойных креслах, но там же, на месте дела, приходили в голову, и там же, где приходили, там и претворялись в дело. В комнатах мог только заметить Чичиков следы женского домоводства: на столах и стульях были поставлены чистые липовые доски и на них лепестки каких-то цветков, приготовленные к сушке.
– Что это у тебя, сестра, за дрянь такая наставлена? – сказал Платонов.
– Как дрянь! – сказала хозяйка. – Это лучшее средство от лихорадки. Мы вылечили им в прошлый <год> всех мужиков. А это для настоек; а это для варенья. Вы всё смеётесь над вареньями да над соленьями; а потом, когда едите, сами же похваливаете.
Платонов подошёл к фортепиано и стал разбирать ноты.
– Господи! Что за старина! – сказал он. – Ну не стыдно ли тебе, сестра?
– Ну, уж извини, брат, музыкой мне и подавно некогда заниматься. У меня осьмилетняя дочь, которую я должна учить. Сдать её на руки чужеземной гувернантке затем только, чтобы самой иметь свободное время для музыки, – нет, извини, брат, этого-то не сделаю.
– Какая ты, право, стала скучная, сестра! – сказал брат и подошёл к окну. – А! Вот он! Идёт! Идёт! – сказал Платонов.
Чичиков тоже устремился к окну. К крыльцу подходил лет сорока человек, живой, смуглой наружности, в сертуке верблюжьего <сукна?>. О наряде своём он не думал. На нём был триповый картуз. По обеим сторонам его, сняв шапки, шли два человека нижнего сословия, – шли, разговаривая и о чём-то с <ним> толкуя. Один – простой мужик, другой – какой-то заезжий кулак и пройдоха, в синей сибирке. Так как остановились они все около крыльца, то и разговор их был слышен в комнатах.
– Вы вот что лучше сделайте: вы откупитесь у вашего барина. Я вам, пожалуй, дам взаймы: вы после мне отработаете.
– Нет, Константин Фёдорович, что уж откупаться? Возьмите нас. Уж у вас всякому уму выучишься. Уж эдакого умного человека нигде во всём свете нельзя сыскать. А ведь теперь беда та, что себя никак не убережёшь. Целовальники такие завели теперь настойки, что с одной рюмки так те живот станет драть, что воды ведро бы выпил. Не успеешь опомниться, как всё спустишь. Много соблазну. Лукавый, что ли, миром ворочает, ей-богу! Всё заводят, чтобы сбить с толку мужиков: и табак, и всякие такие… Что ж делать, Константин Фёдорович? Человек – не удержишься.
– Послушай, да ведь вот в чём дело. Ведь у меня всё-таки неволя. Это правда, что с первого разу всё получишь – и корову и лошадь; да ведь дело в том, что я так требую с мужиков, как нигде. У меня работай – первое; мне ли, или себе, но уж я не дам никому залежаться. Я и сам работаю как вол, и мужики у меня; потому что испытал, брат: вся дрянь лезет в голову оттого, что не работаешь. Так вы об этом все подумайте миром и потолкуйте между <собой>.