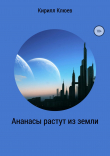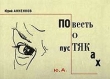Текст книги "Мертвые души. Том 2"
Автор книги: Николай Гоголь
Соавторы: Юрий Авакян
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 27 страниц)
«Хороша!» – подумал, вставая с кресла и кланяясь, Чичиков.
«Она!..» – подумал, вставая с кресла и чувствуя расслабленные под собою ноги, Тентетников.
Ульяна Александровна же, войдя в гостиную и увидевши привстающего с кресла, растерянно глядящего на неё Тентетникова, остановилась, точно как у преграды, и вдруг кровь бросилась ей в лицо, заливая его краскою смущения.
– Ну, что стоишь, Улинька? – посмеиваясь, спросил генерал, – не ожидала? А мы вот пообедать вместе собрались, – сказал он так, будто это было самое обычное каждодневное занятие – обедать вместе, как будто не было ни размоловки, ни произошедшего несколько ранее примирения.
Тентетников шагнул к Ульяне Александровне, и она, уже овладевши собою, протянула ему руку для поцелуя.
– Вот и хорошо, что вы к нам приехали, – сказала она только, но больше чем на словах было сказано глазами её.
В скором времени всех пригласили к столу, и Павел Иванович, усаживаясь в пододвигаемое ему лакеем кресло, заметил для себя, что обед, хоть и обилен, но довольно прост. На больших блюдах безо всяких затей лежали порции холодного поросёнка на закуску, грибы, солёные огурчики в судочках, пироги и пирожки с разной припекою, стояла водка в потном хрустальном графине и лафитники с цветными наливками.
Камердинер Степан, принеся из кухни суповник, от которого валил вкусный пар, поставил его на отдельный столик и, разливая обещанные генералом щи, стал обносить сидящих за столом тарелками, полными янтарного наваристого супу. Щи были хороши, на баранине, и Чичиков, с удовольствием прихлёбывая, со вниманием слушал его превосходительство. А генерал, обращаясь к Андрею Ивановичу, завёл издалека разговор о якобы пишущейся Тентетниковым истории генералов двенадцатого года. Начал он с нынешней молодёжи вообще, поругал её немного, посокрушался о прошедших временах, о тех людях, которых уже не воротишь назад, и потом словно бы невзначай спросил:
– А вы, любезный Андрей Иванович, как я слыхал от Павла Ивановича, серьёзным делом занялись?
Тентетников чуть было не поперхнулся и с укоризной глянул на Чичикова, а Чичиков мигнул ему обоими глазами, мол: «Не робей, всё как надо».
– Это хорошо! – сказал генерал, не дожидаясь ответа, и, откинувши на спинку стула свой широкий корпус, подтвердил: – Это очень даже хорошо! Могу вам, милостивый государь, много дельного порассказать из бывшего в двенадцатом годе, – продолжал он. – И из своих случаев, и из бывших с товарищами моими. Ведь война это время, когда в человеке всё самое главное из сокрытого в нём обнаруживается. Тем более такая война – за отечество.
– В точности так, ваше превосходительство, – поддакнул Чичиков и, делая круглые глаза, поглядел на Тентетникова, дескать: «Чего же ты молчишь, тетеря!»
Тентетников, чувствуя, что теперь точно уже надо бы вступить в разговор, кашлянул в кулак и сказал:
– Видать, ваше превосходительство, Павел Иванович не совсем верно вам сказывал. Это не столько история о генералах, сколько общего свойства работа, и я не столько пишу её, сколько покамест обдумываю.
– Ну, я надеюсь, в ней будет об двенадцатом годе? – насторожась, спросил генерал Бетрищев.
– Разумеется, – подтвердил Тентетников, – куды ж без него. Ведь это, как я полагаю, важнейшая часть истории отечества нашего в последнюю эпоху.
– Верно, – оживился генерал. – Оно может быть, и к лучшему, что работа, как вы изволили выразиться, общего плану. Для подобной темы панорама нужна, а про одних генералов – это, братец вы мой, выйдет немного узко. Хотя должен вам признаться, что именно генералы были наиважнейшей силой в приближении победы, – добавил он.
– Конечно же, ваше превосходительство, без разумного управления не можно с экипажем управляться, не то что кампанию выиграть, – поддакнул Чичиков, заметивши то, как у генерала потеплело и раскраснелось в лице от удовольствия слышать такое.
За разговором щи выхлебали, и к горячему были поданы жареные курицы и сальник из печёнки с гречневой кашею, обложенный здором. Сальник был очень хорош, и Павел Иванович, успокоившись насчёт Тентетникова и насчёт того, чтобы не обнаружилась его, Павла Ивановича, уловка, принялся за блюдо. Генерал же, добившись до любимой темы, говорил много и много хвалил простого русского солдата, соглашаясь с тем, что хотя генералы и были главною силою в войне двенадцатого года, но без русского мужика, бежавшего в атаку и рубившего неприятеля, воевать было бы некому. Александр Дмитриевич приводил тому много примеров, вспоминая тех солдат, которых знал лично.
– Знавал я одного гренадера по фамилии Коренной, вот герой так герой, – говорил его превосходительство. – Когда стиснули их со всех сторон французы и офицеры были переранены, он, увидевши это, закричал: «Ребята, не сдаваться!» И отстреливался и отбивался штыком, а потом уже, когда остальных перебили и когда остался он один, то на предложение сдаться, схвативши ружье за дуло, отбивался прикладом, точно дубиной. Так что за смелость и враги не хотели его погубить, ранили только лёгкой раной, взявши в плен, и дело это до самого Наполеона дошло, и тот, узнавши, велел выпустить. Вот о чём вам тоже непременно писать надо, – воодушевляясь, говорил он Тентетникову, – о геройствах простых солдат. И ведь не только в двенадцатом году, – говорил он, – вот, помню, в двадцать восьмом, в турецкую кампанию, при глазах моих, можно сказать, происходило. Чепышенко, рядовой, будучи ранен пулей вблизь груди, вытащил ножом окровавленную пулю, и, зарядивши в ружье, выпустил по неприятелю, сказавши: «Лети откуда пришла». Сам перевязал рану наскоро и не оставлял сражения до конца дела. Так-то вот, братец вы мой, Андрей Иванович, – сказал генерал Бетрищев, – простые русские мужики, а сколько геройства, храбрости, благородства в поступках, если хотите. Были бы среди моих людей такие, я бы не думая тут же каждому вольную подписал, – слегка повысив голос, говорил он.
Глянув на Тентетникова, Павел Иванович увидел, как у того заблистали глаза и зардел на щеках румянец.
– Вы, ваше превосходительство, – сказал он, дождавшись, пока Александр Дмитриевич закончит говорить, – вы с необыкновенной точностью угадали главную мою мысль. Мне кажется, что двенадцатый год – это год, когда сравнялись в доблести все сословия наши, когда русский народ ощутил себя сыном родной земли, сыном отечества, независимо от того, какая кровь текла в чьих жилах. Тогда мы, русские, были как одно, как кулак, который мозжил голову Бонапартовым полчищам, и сословия наши были равны, точно пальцы на этом сжатом кулаке, и у каждого было своё высокое достоинство без различия на крестьян ли, мещан ли или же дворян. И вы, ваше превосходительство, ещё раз правы, что народ этот достоин и благодарности и воли…
Чичиков исподтишка оглядел сидящих за столом и отметил то, как у генерала на усах дрожит скользнувшая по щеке слеза и он, вообще сказать, некоторым образом переменился в лице, и казалось, что сейчас, здесь за столом, не тот прежний генерал Бетрищев, а явился свету некий другой, внутренний его человек, тот человек, который живёт где-то в глубине души каждого из нас, но которого мы так хорошо научились прятать.
Что же касается выражения, отражавшегося в чертах Улиньки, глядевшей на Андрея Ивановича, то тут сказать можно было одно: Чичиков дорого бы отдал за то, чтобы и на него когда-нибудь поглядела бы так женщина подобная ей. Он почувствовал, как что-то кольнуло его в сердце, и, подумавши: «Ишь, как его понесло…», – опустив глаза углубился в свою тарелку.
Обед подходил уже к концу, когда за десертом Чичиков вспомнил давешнюю мысль о том, чтобы рассказать генералу историю, какая посмешнее, и тем больше завоевать симпатии к себе, хотя, признаться, он в этом уже и без того преуспел, и не только за счёт своей деликатности и округлости в манерах и речах, но и по той простой причине, что сумел всех сегодня уважить, примирить, и осчастливить. А то, что это так, было заметно при одном только взгляде на молодых людей; казалось, чувства их были настолько полны, что заглушили собой все остальные настроения. Улыбка не сходила ни с того, ни с другого чела, да и генерал, поглядывая на них через стол, тоже нет-нет, а улыбался.
За десертом разговор стал как-то утихать, и Чичиков, желая оживить беседу, обратился к его превосходительству с несколько плутоватой усмешкою.
– Изволили ли, ваше превосходительство, слышать когда-нибудь о том, что такое – «полюби нас чёрненькими, а беленькими нас всякий полюбит»?
– Нет, не слыхал, – отозвался генерал.
– А, это преказусный анекдот, – сказал Чичиков всё с то же плутоватой улыбкой. – В имении, ваше превосходительство, у князя Гукзовского, которого, без сомнения, ваше превосходительство, изволите знать…
– Не знаю.
– Был управитель, ваше превосходительство, из немцев, молодой человек. По случаю поставки рекрут и прочего имел надобность приезжать в город и, разумеется, подмазывать судейских, – тут Чичиков, прищуря глаза, выразил в лице своём, как подмазываются судейские. – Впрочем, и они тоже полюбили, угощали его. Вот как-то один раз у них на обеде говорит он: «Что ж господа, когда-нибудь и ко мне, в имение к князю». Говорят: «Приедем». Скоро после того случилось выехать суду на следствие по делу, случившемуся во владениях графа Трехметьева, которого ваше превосходительство, без сомнения, тоже изволите знать.
– Не знаю.
– Самого-то следствия они не делали, а всем судом заворотили на экономический двор, к старику, графскому эконому, да три дня и три ночи без просыпу – в карты. Самовар и пунш, разумеется, со стола не сходят. Старику-то они уж надоели. Чтобы как-нибудь от них отделаться, он и говорит: «Вы бы, господа, заехали к княжному управителю немцу: он недалеко отсюда и вас ждёт». – «А и в самом деле», – говорят, и сполупьяна, небритые и заспанные, как были, на телеги да к немцу… А немец, ваше превосходительство, надобно знать, в это время только что женился. Женился на институтке, молоденькой, субтильной (Чичиков выразил в лице своём субтильность). Сидят они двое за чаем, ни о чём не думая, вдруг отворяются двери – и ввалилось сонмище.
– Воображаю – хороши! – сказал генерал, смеясь.
– Управитель так и оторопел, говорит: «Что вам угодно?» – «А! говорят, так вот ты как!» И вдруг, с этим словом, перемена лиц и физиогномии… «За делом! Сколько вина выкуривается по именью? Покажите книги!» Тот сюды-туды. «Эй, понятых!» Взяли, связали, да в город, да полтора года и просидел немец в тюрьме.
– Вот на! – сказал генерал.
Улинька всплеснула руками.
– Жена – хлопотать! – продолжал Чичиков. – Ну, что может какая-нибудь неопытная молодая женщина! Спасибо, что случились добрые люди, которые посоветовали пойти на мировую. Отделался он двумя тысячами да угостительным обедом. И на обеде, когда все уже развеселились, и он также, вот и говорят ему: «Не стыдно ли тебе так поступить с нами? Ты всё бы хотел нас видеть прибранными, да выбритыми, да во фраках. Нет, ты полюби нас чёрненькими, а беленькими нас всякий полюбит».
Генерал расхохотался; болезненно застонала Улинька.
– Я не понимаю, папа, как ты можешь смеяться! – сказала она быстро. Гнев отемнил прекрасный лоб её… – Бесчестнейший поступок, за который я не знаю, куды бы их следовало всех услать…
– Друг мой, я их ничуть не оправдываю, – сказал генерал, – но что ж делать, если смешно? Как бишь: «полюби нас беленькими»?..
– Чёрненькими, ваше превосходительство, – подхватил Чичиков.
– Полюби нас чёрненькими, а беленькими нас всякий полюбит. Ха, ха, ха, ха! Воображаю, хорош был небритый суд! – говорил генерал, продолжая смеяться.
– Да, ваше превосходительство, как бы то ни было… без просыпу… трёхдневное бдение – тот же пост: поизнурились, поизнурились! – говорил Чичиков, продолжая смеяться.
– Я не знаю, папа, – проговорила Улинька, отбросивши с гневом на стол свою салфетку, – мне совсем не смешно, одна лишь досада берёт. – И она взглянула на Андрея Ивановича, словно за поддержкой, а затем, точно проникнувши в его щекотливое положение, сказала, не дав ему вставить ни словца. – Не хотите ли прогуляться по парку, Андрей Иванович? Ты позволишь, папа?
– Разумеется, душа моя! – отозвался Александр Дмитриевич, – только не забудь, захвати шаль, а то ввечеру свежеет.
Ульяна Александровна встала из-за стола и, ответив на учтивый поклон привставшего со своего места Чичикова, вышла из столовой.
– Ну что ж вы, голубчик мой, – обратился генерал Тентетникову, – проводите Ульяну Александровну, а пока мы с Павлом Ивановичем побеседуем здесь по-стариковски.
Уже притворяя дверь, ведшую в столовую, Тентетников услышал мягкий воркующий голос Павла Ивановича, за которым последовал новый взрыв хохота. Видать, Чичиков снова рассказывал что-то, развеселившее генерала.
Молодые ушли гулять по парку, а в доме, где сгустились уже сумерки, зажгли свечи, и генерал с Павлом Ивановичем перешли в кабинет. Его превосходительство предложил было ему одну из своих трубок, но Чичиков, боявшийся сухотки в груди, вежливо отказался и, вытащивши из кармана свою серебряную табакерку, заправил в ноздрю аккуратную щепоть табаку, чихнул и проговорил: «А мы вот так-с. Так, говорят, здоровее».
Через короткое время завернул Павел Иванович разговор на своего, верно, никогда и не жившего дядюшку, на то, что неплохо бы заключить купчую прямо сейчас, на что генерал, прихохотнув, согласился. Он позвонил в колокольчик, велев доставить себе каких надо бумаг, и в какие-то полчаса Павел Иванович приумножил своё грядущее состояние, став обладателем ещё тридцати восьми беглых и мёртвых душ.
– Эх, кабы не нужда приобресть состояние, – проговорил он, складывая из лица своего сурьёзную и грустную гримасу, – кабы не это, стал бы я потакать прихотям выжившего из ума старика? Но куды деваться? От судьбы, как говорят, не уйти, вот и приходится считаться с дядюшкиными капризами, – вздохнул он, опуская плечи, хотя внутри у него всё плясало и пело от удачливой сделки.
– Да, состояние вещь необходимая, – кивнув головой, согласился генерал. – А знаешь ли ты, братец, какие бывают состояния. Это не то, что твой дядюшка с тремястами душ. Это, братец ты мой, такие деньги, что мысли об них не укладываются в голове. Вот, например, в нашем уезде есть такой откупщик, бывший простой мужик, – продолжал он. Чичиков сделал почтительное лицо, показывая, что внимательно слушает, хотя в уме своём уже складывал и умножал приобретённые им сегодня мёртвые души на рубли и копейки. – Муразов по фамилии, по прозвищу Афанасий Васильевич. Так вот у него состояния в десять миллионов, – сказал генерал, несколько растянувши слово «миллионов», видать, для большего эффекту. Но эффект и без того был достаточный. При названии этой суммы мозговая машинка Чичикова, считавшая и перемножавшая рубли и копейки, как бы мгновенно остановилась, точно от съехавшей с оси шестерёнки, сделанное им почтительное выражение сползло с лица его и остался только что разинутый рот да выпуклившиеся глаза.
– Да, братец ты мой, Павел Иванович, – десять миллионов, – повторил его превосходительство. – А ведь начинал с ничего, с копеек, с мелочной торговли.
– Как же так? – справляясь с собой, спросил Чичиков, – как же, скажите с копеек такие состояния?
– А вот так, – отвечал генерал, – смелый и очень почтенный человек. Видать, богу угодно было, чтобы на нём сошлось. К слову сказать, заезжает с визитами, бывает у меня, так что, глядишь, и познакомлю вас, а там и переймёшь от него что-либо полезное.
– Был бы вам очень признателен, ваше превосходительство, – сказал Чичиков, сопроводив слова приличным наклоном головы.
На дворе уже совсем стемнело, и генерал, глядя в окно, сказал:
– Загулялись что-то наши молодые люди, не простыла бы Улинька, всё же и впрямь свежо. – А потом, помолчавши, добавил: – Нет, положительно умный молодой человек. Такие здравые мысли высказывал сегодня за обедом и такой интерес к истории отечества, такие познания об двенадцатом годе. Что ни говорите, Павел Иванович, а есть и среди нового поколения достойные люди, поболее бы только таких для нашей матушки Руси, и можно было бы уходить на покой, не волнуясь о судьбе отечества…
– Да, да, – поддакнул Чичиков, – прекрасный молодой человек. И такой деятельный, имение в совершеннейшем порядке. И как настроен к вашему семейству, ваше превосходительство, как боготворит Ульяну Александровну, не сочтите, конечно, за дерзость, но разрыв с вами – это было единственное, как я сумел вывести, что омрачало его жизнь. Верите ли, целыми днями сидит за написанием истории генералов, а по полям-то рукописи портреты Ульяны Александровны пером рисует. Так что влюблён, ваше превосходительство, положительно влюблён, – сказал Чичиков, возводя кверху глаза.
– Ну-ну! Я не против. Только пусть сделает предложение по форме, – сказал генерал, слегка покраснев, – а ты, пожалуйста, без чинов, ведь я уже просил, а то всё «ваше превосходительство», да «ваше превосходительство». Для тебя я Александр Дмитриевич, и всё тут, – сказал он Чичикову, меняя тон.
– Как прикажете, ваше превосходительство, – склонивши голову, проговорил Чичиков.
– Ох, задам я тебе, братец, перцу, – шутливо грозя пальцем, усмехнулся генерал.
А за окном действительно свечерело. Тёплый ветер зашумел в тёмных кронах дерев, и они зашелестели молодыми весенними листами, точно заговорили, зашептали радостным хором от охватившего их счастливого знания новой жизни. Внизу, под деревами, шли по утоптанным дорожкам парка Тентетников с Ульяной Александровной. Светлое платье Улиньки высвечивалось в темноте, и по его порывистым движениям можно было судить о том, что промеж молодых людей идёт какой-то серьёзный разговор. Затем светлое виденье платья остановилось, и потому, как качнулась юбка, слегка скрутившись вкруг талии, стало ясно, что Ульяна Александровна повернулась лицом к своему собеседнику. Потом стало видно, как поднялись над светлой фигуркой две светлые же полосы и обвили светлыми же лентами чёрный силуэт, принадлежавший Тентетникову, а поперёк светлого платья Улиньки, вкруг талии, тоже вдруг обозначилась тёмная полоса от казавшегося в сумерках чёрным фрачного рукава Андрея Ивановича. И догадливый наблюдатель, как и догадливый читатель, непременно же поняли, что влюблённые друг в друга молодые люди обнялись. И думается, что догадливому наблюдателю, равно как и догадливому читателю, стало чрезвычайно любопытно то, о чём говорилось под тёмными сводами дерев. Но вспомните себя, милостивые государи и государыни, вспомните те минуты, когда единственное в целом свете и желанное для вас существо открывалось вам и вы узнавали наверное, что и вы желанны и любимы этим существом; вспомните те чувства, что вспыхивали в ваших душах, ту дрожь, что мурашками бежала по спине, тот стук сердца, готового вырваться из груди, дабы смешаться с его или её сердцем, слиться в одно большое и неразделимое естество; и вам тогда станет понятным и без наших слов, что чувствовали в этот весенний вечер и о чём говорили Улинька и Андрей Иванович. К тому же не совсем прилично слушать чужие речи об сём предмете. Довольно с нас и того, что мы подглядели за ними.
Генерал докуривал уже третью трубку, слушая Чичикова, его рассказы о бывших с ним случаях, о том, сколько пришлось претерпеть ему от врагов, покушавшихся, как любил говорить он, даже на самою жизнь его. Рассказы его были кудрявы и витиеваты, кругом в них обитали злодеи, через которых пробирался к правде наш герой то робким агнцем, а то орлом парящим над несправедливостями и карающим за них, потому, разумеется, и претерпевающим. Генерал слушал невнимательно. Глаза у него стали сонные, он угрелся в удобном кресле, и табачный дым лёгкими струйками стекал с уголков его полуоткрытого рта. В это самое время, когда генерала разморило окончательно и он разве что не поклёвывал носом, раздались в комнатах шаги, затем в двери кабинета вежливо стукнули, и вошёл Тентетников.
– А, молодой человек, – встрепенулся генерал, – ну, как прогулялись? Где Улинька, как она? – спросил он, оживляясь.
– Спасибо, – ответил Тентетников, останавливаясь у кресла. – Ульяна Александровна прошли к себе, – продолжал он, и по тому, как вцепился Андрей Иванович в спинку кресла своими тонкими пальцами, и по странному блеску его глаз Чичиков догадался, что Тентетников собирается сказать ещё одну речь. «Ну, сейчас будет», – подумал Чичиков.
А Тентетников и впрямь глубоко вздохнул, откашлялся и чужим надтреснутым голосом заговорил, обращаясь к генералу Бетрищеву.
– Ваше превосходительство, – начал он, несколько конфузясь и глядя в пол, – Александр Дмитриевич! Не знаю, смею ли я говорить об этом с вами сегодня, тотчас после нашего с вами примирения, после того, что вы нашли в себе силы духа снизойти до меня, как я полагаю теперь, нанёсшего вам обиду, но я не в силах больше молчать об этом, и пусть будет так, пусть будет сразу. Решите вы мою судьбу, которая теперь только в одних ваших руках, и сделаете меня или же счастливейшим из смертных, или же…
Тентетников сбился, видать, никак не шло ему на ум нужного сравнения.
Генерал Бетрищев глядел на него внимательно, без улыбки, и с лица его улетучились последние остатки сонливости.
– Одним словом, Александр Дмитриевич, я давно уж люблю вашу дочь и прошу у вас руки Ульяны Александровны, – проговорил Тентетников не то чтобы скороговоркой, но как-то разом, точно в воду бросился.
Генерал сидел так же, без улыбки; глядя на Тентетникова и мундштуком трубки указавши ему на кресло, за которое тот цеплялся, сказал:
– Садитесь, милостивый государь.
И Тентетников сел в своей давешней манере, на самом краешке сиденья.
– Не буду лгать вам, – произнёс генерал, наклоняясь, вперёд, – что ждал от вас подобного предложения, ибо только слепец не заметил бы вашего к Улиньке чувства, и ещё вчера, да что там вчера, ещё сегодня утром я и помыслить не мог бы об вас как о зяте… Вы уж простите, что я вам это при Павле Ивановиче всё говорю, но он не чужой здесь, – сказал генерал, а по лицу Чичикова блеснула довольная улыбка.
– Павел Иванович мне друг… – вставил с потерянным видом Тентетников.
– Ну, тем более, – продолжал генерал. – Но сегодня, может быть благодаря участию именно Павла Иванович, я во многом поменял мнение об вас. И хочу вам сказать: если Ульяна Александровна любит вас и не противится вашему предложению, то вот вам моё отеческое благословение.
– Поздравляю, поздравляю, Александр Дмитриевич! – схватился с кресла Чичиков, – поздравляю, Андрей Иванович! – Он оказался промеж двух господ и жал руки попеременно то одному, то другому, а затем, изловчившись, поймал одного за руку своею левою рукою, другого – правою, прижал их к своей пухлой груди и, улыбаясь чуть ли не сквозь слёзы, говорил: «Ах, как я рад, как я рад!» Одним словом, суетился так, точно он был чуть ли не первое лицо в этой сцене. А где-то далеко, внутри его сердца какой-то маленький и злобный Чиченок сидел и нашёптывал: «Ну что, и эта не твоя, и это не твоя». – «Да, жаль, такая девица», – сокрушаясь, подумал он.
Призвали Ульяну Александровну и она, страшно конфузясь, подтвердила отцу, что она просит отцова благословения. Генерал приказал принести образа и благословил их на образе. Тут и Улинька и Андрей Иванович поднялись с колен и подошли к Александру Дмитриевичу для целования. Улинька обняла отца уткнувшись в грудь, зарыдала, да и генерал, до сей поры хранивший суровость на челе, тоже прослезился и, погладив её по спине, сказал, обращаясь к Тентетникову:
– Всё, Андрей Иванович, твоя она теперь, береги её, ведь самое драгоценное, что только у меня есть, отдаю тебе, – и отвернувшись, достал платок с тем, чтобы протереть себе глаза. Тут подошёл к нему Павел Иванович и, подхватив под локоток отвёл в угол кабинета, что-то приговаривая со своею всегдашнею приятною улыбкою, давая молодым оборотиться друг на друга. Генерал на слова Павла Ивановича кивал головою, а затем высморкнул нос и, собравшись с чувствами, обратился к своему будущему зятю. – Ну, Андрей Иванович, насчёт свадьбы, чай, уже между собой посоветовались? – спросил он. – Я же как думаю, что нужно бы не раньше осени.
– А мы хотели к лету, – несколько разочарованно вставила Улинька.
– Нет, к лету неудобно, – сказал генерал. – К лету не успеется, а в лето нельзя, нехорошо, дел много, да и твоему же жениху не до свадьбы будет. Потом ведь и прикупить многое придётся, и перестроиться, небось, тоже надо будет. Родственников известить, собрать их здесь вместе.
– Насчёт родственников не извольте беспокоиться, – ввернул Чичиков, – готов здесь вам помощь оказать любую. Если надо, поеду аж до самого Архангельска.
А сам, конечно же, принял расчёт, что исполнение сего поручения и в его главном занятии придётся весьма кстати: новые места и новые люди – вот то, что нужно было Павлу Ивановичу.
– За Улинькой даю я двести душ крепостных и триста тысяч рублей, из них сто тысяч золотом, остальное ассигнациями, объявил его превосходительство зятю приданое, – к тому прилагается ещё деревня Михайловка и три тысячи десятин земли. Земли все поёмные да луга, так что не бесприданницею берёшь, братец, баловницу мою, – прихлопнувши в ладоши и улыбнувшись, закончил объявление приданого генерал.
– По чести сказать, Александр Дмитриевич, Ульяна Александровна люба мне и безо всякого приданого. Одного только счастья быть рядом с нею и того с меня достаточно, – с поклоном отвечал Тентетников.
А Чичиков как услыхал объявленное генералом приданое, так и заскучал, хотя наружно не показал этого никак. «Надо же, экой вороне и такое счастье, – думал Чичиков, поглядывая на Тентетникова. – Ворона, одно слово – ворона!»
Позднее, когда улеглись поздравления и поцелуи, когда все положенные в таких случаях слёзы были не только выплаканы, но и вытерты вынутыми из карманов и кармашков платками, его превосходительство генерал Бетрищев оговорил с Павлом Ивановичем небольшой список родственников, которых, как он считал, надо было известить о помолвке Ульяны Александровны с Андреем Ивановичем Тентетниковым.
– Вот завтра с утра пораньше и отправлюсь в объезд, – сказал Павел Иванович, принимая из рук Александра Дмитриевича списочек и аккуратно заправляя его в жилетный кармашек. – С утра пораньше и отправлюсь, – повторил он, прихлопнувши ладошкой по карману, точно давая понять, как хорошо и надёжно лежать списочку в его жилетном кармане.
Стало совсем уж поздно, и Чичиков с Тентетниковым собрались уезжать. Молодые простились у стеклянных ведущих на веранду дверей, Ульяна Александровна поцеловала на ночь папа и прошла к себе во второй этаж, а Павел Иванович и Тентетников в сопровождении рослого камердинера, несшего в руках подсвечник с ярко горящими свечами прошли к коляске и, погрузившись в неё, отправились восвояси.
Ульяна Александровна, прошед к себе, села у столика, по которому стояли многие дорогие её сердцу безделушки и среди которых в чёрной узорчатой рамке стоял портрет чудесной красавицы. Улинька глядела в это неживое, написанное дворовым художником лицо, в эти давно уж закрывшиеся глаза и чувствовала, как её собственные глаза заплывают слезами. Она чувствовала несказанную горечь от того, что не было с ней рядом, в такой важный для всей её будущности день, матери, что с раннего детства своего была она обделена материнской любовью. И ей хотелось верить, что сейчас из той неведомой дали, в которую уносятся души усопших, мать её видит и благословляет. Она молилась об этом, молилась о том, чтобы будущая её жизнь с мужем была бы счастливою, молилась о том, чтобы быть Андрею Ивановичу хорошею женою, и слёзы её лились непрестанно, горькие и сладкие в одно время слёзы.
А тем временем герой наш трясясь в коляске рядом с Тентетниковым и позёвывая в кулак, пытался что-то не совсем впопад отвечать на слова Андрея Ивановича, говорившего без умолку.
– Павел Иванович! Павел Иванович! – говорил тот, – вы себе даже представить не можете, как я сегодня счастлив. Ведь ещё только вчера всё казалось конченным, ничто не влекло к себе, а сегодня всё, всё перевернулось. Всё вышло неожиданно, счастливо, по-новому. И я твёрдо знаю, что новая жизнь меня ожидает, и я всё в этой новой жизни сделаю хорошего. Вот увидите, Павел Иванович! Я всего добьюсь. Всё переустрою. И всё это благодаря вам. Ведь вы явились в мою жизнь точно волшебник. Так всё в один день переменить мог только волшебник. И я вам по гроб жизни теперь обязан, Павел Иванович. Позвольте мне считать вас своим братом, вот вам моя в том рука, – приподнятым тоном произнёс Тентетников, сунувши Чичикову руку для пожатия.
– А? Что? – спросил клюющий носом Чичиков, а потом, сообразивши, что к чему, и пробормотавши: – Да, да, конечно, – пожал белеющую в темноте протянутую Андреем Ивановичем руку.
– Что, где мы? – спросил он у Тентетникова, оглядываясь по сторонам, – далеко ещё?
– Нет, ещё четверть часа – и приедем, – говорил Тентетников, а Чичиков, пихнув Селифана, сказал: – Что так тащишься, болван?! – на что Селифан отвечал:
– Так ведь темно, Павел Иванович, не ровен час ещё и коляску завалишь, сами ведь, небось, потом браниться будете.
– Знаете ли что, любезный, – обратился Чичиков к Андрею Ивановичу, – у меня до вас будет одна необычная просьба. В сущности, полная безделица, но для меня нужная, я вам потом, когда приедем, открою обстоятельства мои: и смех, и грех, как говорится, связанные с моим престарелым дядей, так вот, дорогой мой Андрей Иванович, обещайте не отказать, но держать всё это в тайне, так как это щекотливо для меня.
– О чём вы говорите, Павел Иванович, конечно же, выполню любую вашу просьбу, – радушно и не задумываясь отозвался Тентетников.
«Ну, вот и хорошо, – подумал Чичиков, – ещё одиннадцать душ, очень удачный день». И он, привалясь к краю коляски, намеревался было ещё чуть-чуть вздремнуть, но тут новые сказанные Тентетниковым слова отвлекли его от дремоты.
– А знаете ли, Павел Иванович, что когда я увидел вас впервые въезжающим на двор мой, очень испугался. Принял за чиновника, приехавшего по мою душу… – и Андрей Иванович, пребывая в счастливом настроении, выложил Чичикову всю историю касательно тайного общества, подчеркнув, однако, своё осуждение этого общества и скорый из него выход. Бедный Андрей Иванович! Если бы только он взглянул на Чичикова: ведь у того разве что не по-волчьи горели глаза.
На следующее утро Павел Иванович проснулся рано и в хорошем настроении. Намедни, по возвращении домой, рассказал он нервически счастливому Андрею Ивановичу историю о несуществующем дядюшке, якобы помешавшемся на племянниковых трёхстах крепостных душах, одним словом, рассказал то же, что и его превосходительству генералу Бетрищеву, подпустил к этой истории ещё кое-где туману, для пущей важности, и они с Тентетниковым в тот же вечер совершили купчую на бывшие у Андрея Ивановича мёртвые души.