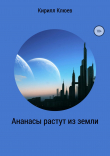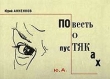Текст книги "Мертвые души. Том 2"
Автор книги: Николай Гоголь
Соавторы: Юрий Авакян
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 27 страниц)
Ну да ладно, вернёмся к чиновникам, которых любезный наш Варвар Николаевич держал за пуговицу крепче, чем иные держат врагов своих за горло. Когда чиновник совсем скисал, кося глазами по стенам, когда бормотания его теряли уже всякую внятность, Варвар Николаевич хлопал его по плечу с целью приободрить и говорил ему приблизительно следующее:
– Да что вы, батенька, расстраиваетесь-то так? Я ведь не топить вас пришёл и вовсе не собираюсь идти по начальству. Я просто хотел с вами словом перекинуться по-свойски, потому как вижу, что вы хороший человек.
Чиновник тут, конечно же, немного приободрялся, начинал дышать ровнее, а Вишнепокромов говорил:
– Да я, собственно, и ухожу уже, и надеюсь, что мы с вами расстаёмся друзьями. Ну? Друзья? – спрашивал он трусящего чиновника, протягивая ему руку словно в знак примирения. Обалдевший от такого наскока чиновник, не понимая ещё всего происходящего, хватал его руку, пожимая своею трясущеюся рукой и говорил, что да, конечно же, друзья; только бы отделаться от Варвара Николаевича поскорее. Тогда Варвар Николаевич, переходя на доверительный тон, говорил, обращаясь к нему, как к новоявленному другу, уже на «ты»:
– Послушай, как там-то, бишь, тебя, Иван Иванович? Послушай, Иван Иванович, я тут в одно место наведаться собрался, а кошелёк, вот незадача, дома забыл, ты не мог бы мне до завтра ссудить красненькую? – и смотрел в косящие глаза лучезарно улыбаясь. Красненькая перекочёвывала в карман Вишнепокромова, а чиновник, глотнувши воздуха, скакал от него что есть мочи, только фалды заячьими ушами развевались по ветру. Метода была надёжная, чиновники жаловаться на него не ходили, да и как им было жаловаться? Потеря для них была не особенно велика, тем более что Вишнепокромов в удачные для него дни возвращал долг то одному, то другому с тем, чтобы через какое-то время вновь одолжиться у старого друга, благо у того и новое дельце приспевало, так что Варвар Николаевич мог бы трудиться и трудиться не покладая рук, потому что у нашего российского чиновничества рыльце всегда в пушку, но он брал лишь столько, сколько ему было необходимо, шёл в трактир, и красненькая превращалась там в бутылки с шампанским или бордоским, а красный цвет ассигнации при помощи какой-то таинственной реакции, наверное, могущей быть понятною лишь с помощью самой передовой науки, сообщался лицу Варвара Николаевича, особенно, как помнит читатель, той его части, что была поближе к носу.
Когда же кто-нибудь, подобно Платону Михайловичу, пытался слегка кольнуть его, то он ничуть не смущался и, не отрицая ничего, говорил, что служит общественной пользе и что хотя взяток так не искоренишь, но всё же чиновники знают, что есть он – Вишнепокромов, и что на них есть его суд. Одним словом, негодяй был отъявленный.
Узнавши об этой его истории, Павел Иванович, думавший вначале сойтись с ним на предмет «мёртвых душ», сейчас расхотел делать это совершенно, понимая, что тут в случае чего одной красненькой не обойдёшься. Однако Варвар Николаевич очень его заинтересовал, и он чувствовал каким-то своим внутренним чувством, что из Вишнепокромова очень даже можно извлечь пользу. Тем временем разговор зашёл о его, Павла Ивановича, путешествиях, о том, что и Платон Михайлович тоже собирается с ним ехать, и что неплохо бы ему растрясти свою хандру по нашим дорогам. Узнавши о том, что через два дня намереваются наши путешественники отправиться в путь, Вишнепокромов стал звать их к себе в гости проездом, и, как ни отнекивался Чичиков, как ни приводил довода, что едет не по своей надобности, тот не уступал и, вцепившись в них с Платоном Михайловичем, точно в известную уже нам пуговицу, – заставил согласиться.
– Что же вы со мной делаете, любезный Варвар Николаевич? – вздохнул Чичиков, в то же время улыбкою показывая, как приятно ему быть побеждённым Варваром Николаевичем. – Ведь мне надобно по поручению его превосходительства генерала Бетрищева сделать визиты по его родственникам, оповестить об помолвке дочери его Ульяны Александровны с господином Тентетниковым Андреем Ивановичем.
– Что! – услышавши знакомое имя, вскричал Вишнепокромов, раздувая усы. – Тентетников! Это ведь эдакая скотина, а вы для него стараетесь?! – негодовал он.
– Позвольте, Варвар Николаевич, вы обижаете меня. Тентетников для меня – никто. Я, может, и сам желал, чтобы его превосходительству открыли на него глаза, но вот воля Александра Дмитриевича, давнего моего друга, так много мне благотворившего и, можно сказать, даже спасавшего, когда враги смели покуситься на самое жизнь мою; воля его для меня священна и поэтому, как бы кому ни не нравился господин Тентетников, но я пообещал его превосходительству помочь в объезде родственников, что и собираюсь выполнить, – и Чичиков замкнулся в лице.
– Павел Иванович, не обижайтесь вы, ради Христа, у меня и в мыслях против вас ничего нет, но этот Тентетников такая скотина! – опять возопил Вишнепокромов, и затем последовал его рассказ об известном уже читателю разрыве между этими двумя господами.
– Ну не скотина ли? – стукнув в сердцах по ручке кресла, в котором сидел, завершил свой рассказ Вишнепокромов, – разве так заведено между приличными господами? Ну, не хочешь знаться, так сделай это в уважительной манере, а не маячь нарочно подле окна… Так нет же, он, подлец, напоказ выставил собственную физиогномию, мол, на, смотри, вот он – я, дома, но знать тебя не хочу.
– Господи, неужто он и впрямь мог до такого дойти, ведь на него и не скажешь?! Видимости он довольно деликатной, да и так – тихий… – удивился Чичиков, с участием глядя на Варвара Николаевича.
А Варвар Николаевич дёрнул в гневе головой и сказал:
– Да, батенька вы мой, вот таков этот господин. И вот таким зятем награждает Господь его превосходительство Александра Дмитриевича. Да будь это прежние времена, я бы не преминул потребовать сатисфакции, я бы показал ему, что такое честь дворянина…
И Вишнепокромов, распаляясь, ещё какое-то время перечислял всё то, что он сделал бы со своим обидчиком, не будь бы таких строгостей со стороны государя в отношении дуэлей. Сейчас же жертвою его гнева падали расстегаи, которых он сжевал уже четыре, откусывая их большими кусками, в перерывах между грозных своих ламентаций и словно не замечая того.
Глаза его метали молнии, усы с налипшими крошками топорщились, лицо из красного сделалось пунцовым, почти сравнявшись в цвете с носом. И тут невнятная давешняя мысль, почти чувство, по которому Павел Иванович угадал полезность для себя в господине Вишнепокромове, стала проясняться, утвердилась в его душе и, обретя очертания, совершенно определилась. И возникла вновь где-то в животе приятная лёгкая щекотка, посетившая его уже сегодня в коляске, когда возвращался он в тоске и смятении чувств, нанеся визит господину Леницыну. Щекотка эта тёплою волною подкатила под сердце Павла Ивановича, и если бы он был натура художественная, то вполне можно было бы сказать, что на него снизошло вдохновение. Он увидел новый свой путь к дому генерала Бетрищева, к руке Ульяны Александровны, к тому немалому приданому, что генерал давал за ней, и путь этот лежал через сидящего здесь за столом и брызжущего капельками слюны Вишнепокромова. Чичиков уже видел, как использует он настроения Варвара Николаевича и обиду, понесённую им от Тентетникова, как всё это можно удачно сплести с известными Чичикову обстоятельствами об участии Тентетникова в тайном обществе и как через того же Вишнепокромова довести до нового губернатора, с которым Павел Иванович в самое ближайшее время намеревался сойтись, как только возможно короче. Всё пришлось, как нарочно, кстати: и излишняя болтливость Тентетникова, и знакомство с Леницыным, тоже имеющим к Тентетникову претензию, и гневно жующий расстегаи Вишнепокромов, которому при первом удобном же случае решил Чичиков открыть тайну Андрея Ивановича, так как писать доносы самому почитал недостойным.
– Полно вам, Варвар Николаевич, – скучая, отозвался на горячие реплики Вишнепокромова брат Платон, – уж рассказали бы что занимательное или весёлое, а то всё об одном и том же! Всякий раз, как приедете – про это поминаете! Да бог с ним, с этим Тентетниковым, – давно уж забыть пора!
– И вправду, Варвар Николаевич, расскажи чего весёлого, ведь вон у тебя сколько историй, – поддержал младшего брата Василий Михайлович.
– Что же вам, батюшка, рассказать, – отходя от гнева в лице, задумчиво произнёс Вишнепокромов, – ума не приложу даже. Ну, может быть, из дел, случавшихся по службе. Ведь у нас, правда ваша, многое бывало… – и он, усмехнувшись, уставился в потолок, припоминая. – Ну, вот хотя бы это, – сказал он, оживляясь и приступая к рассказу. – Выехали мы как-то с командой в имение к помещику Корнаухову Фаддею Лукичу, так как прискакал от него нарочный и объявил, что, дескать, горит барин, – пожар на хозяйственном дворе. Ну, мы, ясное дело, тут же повскакали все на дроги и на двух дрогах при двух же бочках покатили. Надо сказать, что я тогда ходил ещё в младших офицерах, а начальствовал над нами ныне покойный, Царство ему Небесное, Афанасий Матвеевич Кургузый. Был он в полковничьем чине, как и я ныне, человек был нрава сердитого, говорят, что случалось даже жену свою поколачивал, но с манерами господин, одевался всегда с шиком и, надо прямо сказать, человек неплохой. Так вот, едем мы, песни поём, вода в бочках плещет, небо синее, и вдалеке уже столб дыма виднеется, горит, стало быть, жарко; кучера стараются, стегают по лошадям, а в траве, знаете ли, господа, – кузнечики, в небе жаворонки, одним словом – божья благодать, а мы на пожар едем. Приехали, а на хозяйственном дворе, почитай, одни головешки остались, огонь на скотный двор перекинулся и уж там горит. Мы, конечно, туда, разматываем кишку, помпу ставим и давай поливать. Тут погаснет, там прорвёт, там погаснет, тут опять задымится. Одним словом, вылили две бочки воды, вымазались, перепачкались, как черти, один наш Афанасий Матвеевич точно с картинки, перчатки белые, пуговицы сияют, панталоны, что твои снега, каска на солнце горит; ходит вокруг, усы покручивает. Послали мы бочки к реке затаривать, так как воды ни капли, сидим, ждём, потому как огонь ещё кое-где полыхает, но уж правда, не так чтобы сильно. А скотный двор ровно что море. Видать, года два не чищен, и мы тут ещё всю эту жижу двумя бочками воды развели, так что корове, господа, чтобы не соврать, но по брюхо будет. И тут, как на беду, наш Афанасий Матвеевич подходит к стеночке, с виду вполне благополучной, и, ручки на груди скрестя, на манер Бонапарта, решает к ней прислониться. Прислоняется, и стеночка тут же рушится, а на бедного Афанасия Матвеевича сыплются откуда-то из-под карнизу и головешки, и уголья, и зола, и всё это, надо сказать, господа, в тлеющем состоянии. Он, конечно, сразу ничего не понимает, стоит выпятив глаза, весь облепленный угольями, а потом вдруг начинает прыгать, хлопать себя по бокам, по спине и выделывать такие антраша, на какие способен лишь человек с фунтом горящих углей за шиворотом. Мундир на нём тут же начинает тлеть и дымиться, а он бегает по двору и кричит: «Окатите водой, братцы, окатите водой!» А где её, эту воду, взять – вся вышла. И смешно, и страшно на него глядеть, потому что не ровен час сгорит. Тут он понимает, что воды нет, срывает с себя мундир и в одной рубашке бултыхается в разведённую нами на скотном дворе лужу и скрывается там с головой. Конечно, тут же всё гаснет, он выпрыгивает, протирает глаза, сурово глядит на нас, а сам весь зелёный, точно водяной. Мы, конечно же, крепимся, как можем, чтобы не расхохотаться, но держимся уже из последнего. А Афанасий Матвеевич, сидя в этой жиже почти горло, начинает что-то нашаривать вокруг себя, чего, мы сперва не понимаем, но потом он вытягивает это из лужи и, морща для острастки своё зелёное лицо, натягивает на голову облепленную навозом каску, а из каски, точно из ведра… ха, ха, ха, – рассмеялся, не докончив фразы, Варвар Николаевич.
И Чичиков с братьями, с интересом слушавшие его в продолжения всего рассказа и к концу начавшие уже улыбаться, словно предчувствуя его концовку, тоже рассмеялись, ибо это действительно было смешно, хоть и несколько грубо и, может быть, безжалостно – окунать с головой бедного Афанасия Матвеевича Кургузого в навозную лужу. Но этому виной конечно же, обстоятельства, не сгорать же заживо почтенному господину. И история эта снова и в который раз учит нас, что ход вещей и событий, зачастую и для многих, сильнее укоренившихся воззрений, стремлений и привычек. Надеюсь, господа, вы согласитесь, что у вас, как и у почтеннейшего, хотя и немного сурового Афанасия Матвеевича Кургузого, нет стремления и привычки нырять в навозную лужу и что ваши воззрения тоже далеки от этого, но опять же – не сгорать же, не сгорать человеку. Но оставим наши мудрствования, читатель, и вернёмся вновь к столу, вокруг которого сидят четверо хохочущих мужчин. Причём громче и заразительнее остальных хохотал сам рассказчик, может быть оттого, что живее прочих видел всю рассказанную им картину, а не по некоторой грубости, свойственной его натуре, как могли бы вы подумать. Старший Платонов тоже хохотал от души, хотя сдержаннее, нежели Варвар Николаевич, и хохот его, несколько смолкавший, вновь набирал силу, вероятно, когда он заново представлял себе сцену с нахлобучиванием на и без того перемазанную голову некогда победно сиявшей на солнце каски. Чичиков смеялся очень деликатно, склонив по обыкновению голову набок и делая наиприятнейшее лицо, словно бы говоря, что он ценит, очень ценит переданный Варваром Николаевичем комизм анекдота, но что поделаешь, врождённое чувство тактичности не позволяет ему смеяться громче, несмотря на то, что этого ему, конечно же, очень хочется. А Платон Михайлович не смеялся вовсе, лишь слегка и сонно улыбаясь, он помешивал серебряной ложечкой кофий у себя в чашке, глядя на Вишнепокромова из-под полуопущенных век. Так что мы несколько ошиблись, когда предложили тебе, читатель, вернуться к столу, вокруг которого сидело четверо (как нам казалось) хохочущих мужчин.
«Да, пресмешной, надо сказать, анекдот, – подумал Чичиков, – надо бы его запомнить и с Варваром Николаевичем поближе сойтись, и не затягивая времени. Очень приятный человек». Вишнепокромов действительно понравился Чичикову. Даже несмотря на ту некоторую робость, что испытал Павел Иванович, когда узнал он о практикуемой Вишнепокромовым в отношении чиновников методе, его привлекал этот господин, вероятно, как живописца добрая кисть или набор красок, посредством которых надеется создать он замечательную картину, или как тянется рука ваятеля за стилом, которым он уже готов вырубить из белеющей глыбы мрамора совершенную статую. Так и Павел Иванович, не давая себе отчёта, где-то в глубинах своей души, до которых, может быть, и не достигал свет его рассудка, испытывал симпатию к Вишнепокромову, как к будущему помощнику в замышляемом им деле.
Смех понемногу утих, и Василий Михайлович потянулся было к серебряному с затейливыми узорами кофейнику, предлагая гостям выкушать ещё по одной чашечке кофию, на что Павел Иванович отказался, сославшись на то, будто кофий крепит, а это не совсем полезно в отношении геморроидальном, а Вишнепокромов ухмыльнулся и, протянув свою чашечку Василию Михайловичу, сказал: «А мне, батюшка, налей, я от него лучше сплю».
И вправду, дело уже шло к ночи, за окном было и вовсе темно, так что неразличимы были даже стволы дерев, плотно облегающих дом. Василий Михайлович велел сменить свечи и принести стол для игры.
– Как вы на сей счёт, господа? – спросил он, обводя взглядом собравшихся.
– Что ж, я не прочь затеять банчишку, – отозвался Вишнепокромов.
– Как изволите сказать, – согласился Чичиков.
– Ну, тогда прошу рассаживаться, – сказал Василий Михайлович, и все перешли к зеленеющему сукном, точно яркая лужайка, столику.
Игра пошла не то чтобы, вялая, но без должного азарту, разве что Варвар Николаевич отдавался игре полною душою: ожесточённо дуплился, на каждый семпель загибал утку, прибавляя на раз и на два, да и карта, признаться, шла ему, то и дело с его угла раздавалось «пароле» да «пароле пе»; одним словом – был в возбуждении и удовольствии. Прочие же «ловили мух» и отвлекались на посторонние разговоры.
– Ну что же вы, господа?! Ну нельзя же так! – сердился Варвар Николаевич. – Уж коли сели, так извольте играть, а то даже неинтересно, право… Вот вы, Платон Михайлович, уже второй раз «зевнули», – сказал он, обратя внимание Платона на его промахи.
– Да с вами играть, Варвар Николаевич, что с бритвы мёд лизать, – лениво проговорил Платон и добавил: – Я, право, не знаю, как вы, господа, но мне надоело.
– Ну доиграйте хотя бы партию, – возмутился Вишнепокромов, – нельзя же вот так, посреди игры… Не демократ же вы какой-нибудь, право слово.
Партия была доиграна, но игра разладилась, и, к большому неудовольствию Варвара Николаевича, игроки, отсев от стола, перешли в диванную и взялись за трубки. Разговор, не прерывавшийся и во время игры, как-то сам собой зашёл об предстоящем Павлу Ивановичу путешествии. Из жилетного кармана извлечён был заветный списочек, и Павел Иванович, читая фамилии, в нём означенные, стал сызнова выспрашивать у своих собеседников о тех лицах, коим он был обречён нанести визит.
Нам с вами, уже знакомыми с главным направлением его вопросов, не стоит их тут вновь приводить, так как все они были сделаны касательно количества как живых, так и мёртвых душ у того или другого из помещиков, коих Чичикову предстояло вскорости посетить. Но вопросы эти ставились Павлом Ивановичем с известною осторожностью и маскировкою, достигавшеюся им через разговоры об эпидемиях и морах, постигающих регулярно среднерусские губернии. Собеседники же его, услыхав оглашенные им фамилии, оживились и многое сумели порассказать ему и дельного и смешного о лицах, служивших целью будущего его странствования. Имя полковника Кошкарёва вызвало у Василия Михайловича горький смех, а Вишнепокромов, тот весь-таки зашёлся от хохота, рассыпая вкруг себя трубочный пепел. Чичиков, присоединясь к общему веселию, объявил, что имел уже удовольствие побывать у Кошкарёва и тоже находит этого господина презабавным.
– Жаль его, – вступил в разговор Платон Михайлович, – он, бедняга, думает, что и впрямь одними лишь циркулярами да распоряжениями можно достичь до дела…
– Это как в том анекдоте, – выпуская облако табачного дыма, оживлённо проговорил Вишнепокромов. – Раз над артельщиками поставили мастера и спрашивают у некоего господина, через которого шло его назначение: «Хорош поведением, что ли?» – «Нет, нехорош!» – «Не пьёт, что ли?» – «Нет, пьяница». – «Умён?» – «Нет, не умён». – «Так, что же он?» – «Повелевать умеет,» – и он расхохотался сам вперёд прочих.
– Это бы ещё хорошо, – вставил Василий Михайлович, – повелевать – это тоже наука. Он же превратил всё бог знает во что, носится по имению, точно курами оппетый. Вырядил своих лапотников в немецкие кафтаны… тьфу, – сплюнул он в сердцах, – и смех и грех только. Куды только родственники смотрят, ведь неровен час и угодит в жёлтый дом; а имение пойдет с молотка, я в этом уверен безо всякого сомнения. Вот вы, Павел Иванович, – обратился он к Чичикову, – замолвили бы перед его превосходительством слово, по старой дружбе, обратили бы его внимание, а не то ведь неизвестно кому всё достанется, жалко ведь.
На что Чичиков, сделавши сурьёзное лицо, долженствующее свидетельствовать об его озабоченности судьбою полоумного полковника Кошкарёва и его имения, подтвердил своё обязательное ходатайство перед его превосходительством генералом Бетрищевым по словам Василия Михайловича. Подобные же замечания и разбирательства сопутствовали и остальным означенным в списке фамилиям, коих помимо Кошкарёва набралось ещё четыре. Но мы не хотим забегать вперёд ни с самими именами, ни с подробностями, касающимися до них, дабы не портить читателю удовольствие от скорого с ними знакомства. Давайте, господа, не спеша, вместе с Павлом Ивановичем и его неизменными Селифаном и Петрушкой отправимся в путь и узрим сами, воочию те места и те лица, с которыми сведёт его предстоящая ему дорога. Но об этом немного после, так как наши герои уже прощаются друг с другом. И то дело, время уже позднее, и пора бы в постель на боковую. Тем паче, что выкуривший три трубки Варвар Николаевич, почувствовав усталость и некоторую сонливость, вероятно, случившуюся с ним посредством выпитого им кофия, собрался восвояси. На прощание он шумно облобызался с обоими Платоновыми, а Чичикова даже притянул к себе и, обняв, словно намереваясь задушить, влепил ему в бритую и пахнущую тем редким и любимым Павлом Ивановичем сортом мыла щёку такой «безе», что у Павла Ивановича ещё некоторое время горела кожа. И Чичиков как вспоминал об этом поцелуе, так досадливо морщился и сплёвывал.
– Обяжете, очень обяжете, господа, – погромыхивал, несмотря на сонливость, Вишнепокромов, – через два дня жду вас у себя в Чёрном, и чтобы без никаких, – сказал он, состроив строгие глаза.
– Приедем, – сказал Чичиков, и, вздохнувши посвободнее, когда коляска Варвар Николаевича скрылась за оградой, он вслед за братьями прошёл в дом.
Уже лёжа в постланной Петрушкой большой, под балдахином, кровати, Павел Иванович вернулся к своим расчётам об Вишнепокромове, обдумывая их то с одной, то с другой стороны, и уверился, что всё это может завязаться весьма хорошо. Судьба Тентетникова, которой вздумал он было известным образом распорядиться, мало занимала его. Наоборот, он даже ощутил прилив некоторой гордости, смешанной с удовольствием, от мысли, что можно по своему усмотрению располагать чужою судьбой. Поэтому Тентетников казался сейчас Чичикову маленьким, ничтожным и кругом обязанным ему человеком. «Ведь он совсем дурак, – вспомнил Чичиков свою давнюю об нём мысль, – совсем дурак…» И уже засыпая, на самом краю между сном и бодрствованием, успел подумать о том, чтобы подучить завтра Селифана объявить при братьях Платоновых, будто подаренная ему Тентетниковым коляска в ущербе, а кони в хвори или что-нибудь подобное, с тем, дабы ехать, воспользовавшись экипажем и лошадьми своих гостеприимных хозяев. И душа его, подстрекаемая сими приятными мыслями к расслаблению, опустилась в сон.
Но, несмотря на столь покойное отхождение ко сну, на столь благостное его начало, Павел Иванович проснулся поутру с чувством какого-то неопределённого беспокойства, навеянного, как нам думается, посетившим его под утро странным сновидением.
Всё мерещилась ему перед самым пробуждением непонятно откуда взявшаяся толстая баба, обтянутая синей запаской у пояса, будто бы бегущая вдогонку за его коляской. Баба тянула к нему полные руки, растопыривала короткие пальцы, точно намереваясь его схватить. Чичикову даже видны были её вздрагивающие при каждом шаге обтянутые синей материей груди, так явно она ему мерещилась. И отчего-то эта картина, которая могла бы вполне понравиться иному, тревожила Павла Ивановича, и нагонявшая его баба сеяла в душе его тоску. Чичиков подумал, что лучше бы ему проснуться, и открыл глаза. Баба тотчас же исчезла, и через какую-нибудь минуту Павел Иванович навряд ли мог рассказать о том, что, собственно, ему снилось, но вот ощущение беспокойства, посеянное в душе бесстыдным персонажем его сна, осталось.
Чичиков оглядел комнату, служившую ему опочивальней, и в свете солнечных лучей, пробивающихся сквозь зелень тянувшихся к окну липовых ветвей, она показалась ему более привлекательной, нежели вчера в полутьме, которую тщилась разогнать одинокая свеча. Даже строгая громадная кровать под балдахином, при взгляде на которую у Павла Ивановича помимо его воли вспыхнули вечером в голове слова: «почил на смертном одре», непонятно к кому и чему относившиеся, даже эта кровать глядела сегодня веселее. Подползши к её краю, Павел Иванович присел, спустивши с неё ноги, и, едва дотягиваясь ими до ночных туфель, принялся звать своего лакея Петрушку. Петрушка появился в дверях заспанный, с куриным пёрышком в волосах, и, разлепив свои большие губы, спросил:
– Одевать, что ль?
– Одевать, что ль? – передразнивая, прикрикнул на него Чичиков. – Одевать, что ль? – снова передразнил он его на иной манер. – Погляди только на себя, образина, каким являешься? Хорошо, что сертук успел напялить, – крикнул на него Чичиков, – розги по тебе плачут…
Сложив худые с крупными пальцами руки впереди пупа, Петрушка мялся с ноги на ногу, с обиженным и в то же время независимым видом поглядывая в окно, как бы говоря этой гримасой, что, дескать, вот так всегда и ни за что ему нагорает, но он уже привык и смирился со своей участью. Смерив полным презрения взглядом его длинную фигуру, Чичиков сказал:
– Выправь бритву, да помягче, барина брить будешь.
И сойдя с кровати, прошёл к большому висевшему на стене зеркалу в резной золочёной раме. Осмотр собственной физиогномии не вполне удовлетворил его. Он потёр тыльной стороной ладони у себя по щеке, проверяя на жёсткость вылезшую за ночь щетину, поковырял прыщик, расцветший подле носа, но наибольшую тревогу Павел Иванович ощутил, разглядывая собственную шевелюру. В последнее время ему стало казаться, что волос у него на голове стал будто бы не так густ, как прежде, и поэтому он по утрам перебирал пальцами каждую из своих прядей, укладывая их друг к дружке, перед тем как причесать. И на этот раз, разложив их в привычном уже порядке, он слегка прошёлся по волосам гребёнкой и, не найдя особых проплешин, несколько успокоился. Тут вернулся Петрушка, принеся с собой горячих полотенец, и Чичиков, прижав их к щекам, стал делать компресс, так способствующий более лёгкому сбриванию щетины. Но ему, видать, было не суждено сегодня насладиться приятным теплом, идущим от сырых полотенец, ибо Петрушка, словно бы взялся его уморить.
– Я тебе поплюю, я тебе поплюю, мерзавец ты этакий, – взвился Павел Иванович, увидя в зеркало, как стоящий у него за спиной Петрушка, готовящийся к роли цирюльника, уже совершенно собрался плевать в чашку с мылом, желая навести пену для бритья на собственной слюне.
– Да что такого, барин, – вскинул костлявые плечи Петрушка, показывая удивление, – все ведь так делают, даже и сами брадобреи, – сказал он.
– Вот я тебе сделаю, гусь ты эдакий, – закричал на него Чичиков, – сей же час чтобы развёл на варёной воде. Сколько тебя учить, рожа! – и Павел Иванович в сердцах швырнул в него скомканные полотенца.
Петрушка выскочил из комнаты, и полотенца, шмякнув об дверь мягким белым комом, сползли на пол.
Наконец с грехом пополам приступили к бритью, и Чичиков долго ещё ворчал, зло поглядывая на Петрушку через зеркальное стекло. На что Петрушка, делающий вид, будто не видит этих взглядов и выказывая деланную заботу об барине, говорил:
– Извольте сидеть спокойно, не дёргайте бородой, неровен час порежетесь.
Закончив бритьё, Павел Иванович умылся, фыркая и брызгая вокруг себя фонтанчиками водяных капель, надушился одеколоном, не забыв прижечь смоченной в водке тряпочкой появившийся вблизи носа прыщ, и принялся за одевание. Петрушка, боясь снова чем-либо прогневить своего барина, старался как только мог, разглаживая несуществующие складочки на сертуке и оббирая никому, кроме него, невидимые пушинки. Но Павлу Ивановичу в это утро решительно невозможно было угодить. Старания суетящегося Петрушки были увенчаны ещё несколькими горячими комплиментами, и он, закончив прибирать своего хозяина, немедля ретировался из комнаты. А Павел Иванович, оглядев в зеркале собственное отражение, не то чтобы остался им недоволен, но просто не ощутил, как это бывало прежде, симпатии к себе, выражавшейся, как вероятно помнит читатель, похлопыванием по щекам, пощипыванием подбородка, возгласами вроде «мордашки» и прочим подобным. Сумрачное расположение его духа проистекало, надо думать, не от давно уж позабытого им сна и не от нерасторопности глупого слуги; коренилось оно в чём-то другом, и, как нам ни прискорбно уличить в том нашего героя, причиной ему служила необходимость поездки к Хлобуеву с тем, чтобы доплатить разницу в пять тысяч рублей к оговорённой ими вчера сумме. Правда пять тысяч эти были обещаны Чичикову, как вы помните, Платоном Михайловичем, но Чичиков сегодня уже немного сожалел о сделанном им вчера приобретении, объясняя свой поступок влиянием минуты и авторитетности Костанжогло. Сейчас ему представлялись все те долгие и могущие увенчаться неуспехом труды, которые он взваливал на себя, и давешние его рассуждения о том, что земли можно распродавать и по частям, что остаток их можно бы заложить в ломбард, уже не казались ему привлекательными. Вокруг его поспешного приобретения значился некий труд, присутствовала некая суета, и это казалось обременительным Павлу Ивановичу. Тем более, что перед ним забрезжили иные предметы и цели, коих можно было достигнуть не с таким напряжением всех своих душевных и телесных сил, а с помощью одной лишь ловкости и расчёта. Но тут грустные размышления Павла Ивановича были прерваны слугой братьев Платоновых, явившимся звать его к завтраку, и Чичиков, ещё раз оглядев себя в зеркале, прошёл в столовую. Братья уже сидели за столом, и Чичиков, поприветствовав обоих, уселся на подставленный ему слугой стул.
– Как спалось вам, Павел Иванович? – спросил брат Василий после взаимных поклонов, – не беспокоило ли что?
На что Чичиков отвечал, что спалось ему великолепно, что так почивают одни лишь младенцы и что таким изумительным и здоровым воздухом, как тот, что лился к нему в форточку, он давно уже не дышал. Всё это было сказано с самою обходительною миной и дополнено такой улыбкой, что никто допустить бы не посмел в Павле Ивановиче дурного настроения.
Обменявшись ещё несколькими ничего не значащими фразами с хозяевами, герой наш приступил к завтраку.
Завтрак состоял из сваренных всмятку яиц, блинов с икрою и холодной телятины. Помимо этого были ещё пирожки со сладкой начинкою, стояло в большом фаянсовом кувшине молоко, и дышал ароматным паром серебряный кофейник с кофием.
Павел Иванович начал свою утреннюю трапезу с яйца; оббив скорлупку на яичной макушке, он осторожно ложечкой сковырнул белую тугую шляпку белка и в обнаружившийся под ней ещё горячий, оранжевый желток положил кусочек маслица, добавил горчицы на кончике ножа, подождал, пока масло растает и, перемешав ложечкой содержимое сваренного всмятку яйца, съел.
– Очень рекомендую, – сказал он, обращаясь к братьям, – так сказать, яйца по-английски. В бытность мою на таможне перенял от одного задержанного контрабандиста. Весьма вкусно.