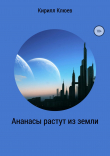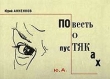Текст книги "Мертвые души. Том 2"
Автор книги: Николай Гоголь
Соавторы: Юрий Авакян
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 27 страниц)
Братья послушали его совета и согласились, что и вправду вкусно. Несмотря на некоторую подавленность, о которой говорено было нами ранее, Павел Иванович ел не без аппетита, отдав свою дань и телятине, и блинам, которые он, основательно сдобрив икрою, складывал в треугольничек и целиком заправлял в рот, где они лопались, точно перезревший плод, из которого наместо сока текла восхитительно свежая икра. Да, губа не дура у нашего героя, и, описывая его прилежание, оказанное блинам, мы заметили, как у нас самих навернулась слюна, и мы были бы не прочь оказать должное уважение этому блюду, может быть, самому русскому изо всей тьмы известных русской кухне блюд. Скажите только, где в мире, у какого народа на столе видели вы этакие пышные, пропитанные топлёным маслом блины, жаркие и жёлтые, точно солнце, так и просящиеся в рот со сковородки? У немца с его колбасами, кишками да свиными ногами? У француза с его лягушками да улитками? Или у англичанина, жующего свою жилистую бычачину с жареной картошкой, и сквозь набитый рот бормочущего: «Ах, ах, ах – ростбиф, ростбиф». А где, скажите мне, милостивые государи и милостивые государыни, где, в какой стране полнятся реки от ходящих в них несчитанных табунов длиннорылых осетров, тучных от распирающей их бока икры, до которой так падки те же немцы да французы и которую везут за море бочками русские купцы, обращая её в звонкое золото? Где, ответьте мне, дорогие мои читатели? Не ответите, ибо такая страна одна в целом свете, и имя ей – Русь. Изобильная, добрая и ласковая матушка Русь. Одна она такая в целом свете.
Но, однако, мы увлеклись, господа, пора из поднебесья, куда были восхищены мы нашими рассуждениями, опуститься вниз и послушать разговоры, которые вёл Чичиков с братьями Платоновыми, уже успевшими покончить завтрак и перейти в кабинет Василия Михайловича. А разговор этот касался как раз того предмета, который так омрачал настроение Павла Ивановича, а именно поездки к Хлобуеву. Платон Михайлович считал, что с этим делом надо развязаться побыстрее, дабы не оттягивая приступить к сборам в предстоящую им дорогу. Поэтому он достал из своей шкатулки пять туго перевязанных пачек ассигнаций и, передавая Чичикову, спросил: «Желаете ли, Павел Иванович, чтобы и я отправился с вами?»
На что Чичиков отвечал, что ни к чему ему себя тревожить, что дело совсем пустяшное, на какие-нибудь две минуты, и что его гостеприимные хозяева не успеют и оглянуться, как он уже снова будет здесь. И с этими словами, поблагодарив Платона за предложение помощи и одолжение, Чичиков укатил. Путь его лежал по знакомым уже ему местам. Степная равнина, вдоль которой бойко бежала его коляска, круто выпуклилась, точно для того, чтобы лучше показаться ему своею полосато пестревшей гладкой покатостью. По зелёному полю резко пробивалась чёрная орань, только что взрытая плугом. За ней лентой яркого золота – нива сурепицы, полосы бледно-зелёного, вышедшего в трубку хлеба – и далее как снег белые кусты. И вдруг нежданно яр среди ровной дороги – обрыв во глубину и вниз, а там внизу, в глубине леса, за близкими зелёными – отдалённые синие, за ними лёгкая полоса песков серебряно-соломенного цвета, и потом ещё отдалённые леса, лёгкие, как дым, и самого воздуха легчайшие, и в воздухе этом, точно бы в нём висящая, махала крыльями над сияющей под солнцем стремниной тонкая и прозрачная, как акварель, ветряная мельница. На въезде в свою уже деревню Чичиков приметил корявую и какую-то пыльную иву, выросшую почему-то на краю большой и грязной лужи, покосившийся плетень, неизвестно что отгораживающий, на котором чистя перья сидели цветные куры, свинью нежащуюся в грязи у ивы. Сорока, сидевшая в ветвях дерева, слетела на брюхо млеющей в тёплой грязи скотине, но свинья не шевельнулась и лишь ленивым хрюканьем изъявляла неудовольствие от постороннего прикосновения.
Чичиков велел Селифану править к одноэтажному дому, в котором обитал Хлобуев со своими домочадцами и который был, вероятно, задуман архитектором как флигель при господском доме, том недостроенном и почерневшем от времени и непогоды, что глянул в прошлый приезд на Павла Ивановича неприветливыми пустыми окошками. Хлобуев, как и в первый его приезд, случившийся с Платоном Михайловичем и Костанжогло, выбежал навстречу, радушно улыбаясь. Лицо его было и доброе, и жалкое в одно время, и Павел Иванович, глядя на него, от чего-то почувствовал себя раздражённым, так, точно эта улыбка, за которой пытался Семён Семёнович скрыть всю растерянность свою и тревогу, просила о снисхождении к нему, а Чичиков никак не хотел снизойти до жалости к этому «блудному сыну», как он его прозвал.
– Павел Иванович, голубчик мой, – возгласил Хлобуев, суетясь у коляски и с надеждой заглядывая в глаза Чичикову. – Приехали, одолжили приездом. Как же, как же, понимаю – слово дворянина, как же… – хлопотал он, помогая Чичикову сойти, и Павел Иванович, обыкновенно соскакивающий с подножки своего экипажа с ловкостью, как мы об этом говорили уже не раз, почти военного человека, позволил тут Хлобуеву свести себя на землю, разве что не величественно закинувши голову и осанисто развернувши грудь и приподняв живот. – Пройдёмте в дом, Павел Иванович, – просительно заглядывая ему в глаза, говорил Хлобуев, нежно беря его за руку у локтя, на что Чичиков, не сменяя важности в лице и, более того, сдобряя её ещё и некоторой порцией суровости, сказал:
– Никак не могу, любезный Семён Семёнович. Временем, к сожалению, не располагаю никаким. Как вы, вероятно, знаете, мы с Платоном Михайловичем решили предпринять некий вояж, так что надо спешить со сборами. Поэтому давайте покончим тут и без церемоний.
– Что ж, воля ваша, Павел Иванович. Я понимаю, как же… – лепетал Хлобуев, и краска наползла ему па лицо. Он опустил глаза, стараясь не глядеть на Чичикова, руки его мелко дрожали, и, видимо, для того, чтобы скрыть эту дрожь в пальцах, он теребил какую-то былинку, ломая её на множество кусочков.
– Семён Семёнович, – приступил Чичиков к делу, – из оговорённых нами вчера пяти тысяч я привез вам сегодня три…
– Как же, Павел Иванович, – растерянно глянул на него Хлобуев, – мне никак не можно, чтобы только три, мне ведь по обязательствам платить надобно…
– Экий вы, верно, несговорчивый, Семён Семёнович, – поморщился Чичиков, – я уже и жалею, что ввязался в это приобретение. Ежели бы не Константин Фёдорович, я бы и не покупал вашего имения. Да его, простите, и имением назвать нельзя, – сказал он, продолжая брезгливо морщиться. – Ведь только войдя в ваше бедственное положение, согласился на вашу цену, а не то бы и половины не дал, вот вам крест, – крестясь, сказал Чичиков.
Хлобуев покраснел пуще прежнего и, не поднимая глаз на Чичикова, пробормотал:
– Мне никак не можно, чтобы только три тысячи, мне ведь платить надобно, – но голос его был тих и звучал неуверенно.
– Ну хорошо, – поднял брови Чичиков, как бы показывая, что он готов на какое-то решение, – коли вы так упрямы и не хотите входить ни в чьи обстоятельства, кроме своих, то нам с вами не поздно пойти и на попятную. Купчей мы ещё, слава богу, не совершали, и это упрощает нам всё. Несите деньги назад, и дело с концом, – сказал он, слегка пожимая плечами. Благо для Чичикова не было сегодня рядом с ним Платона Михайловича, который смог бы укротить его бесцеремонное поведение и защитить беспомощного и потерянно стоящего перед ним Хлобуева.
– Что ж вы это так, Павел Иванович, – сказал Хлобуев, – за что же это? Ведь, казалось бы, обо всём договорились вчера, обо всём условились. И пять-то тысяч у вас, наверное, при себе имеются. Ведь они-то Платоном Михайловичем обещаны были, а он не такой человек, чтобы заместо пяти тремя тысячами ссудить.
– Несите деньги, – сказал Чичиков, оставаясь равнодушным, хотя его и кольнула мысль о том, что Хлобуев видит всё как оно есть, видит бесчестность Чичикова, и что все те его разговоры об обстоятельствах, в которые Семён Семёнович якобы не хочет входить, гроша ломаного не стоят.
– Ну хорошо, – вздохнул Хлобуев, смирясь, – три так три, а остальные когда ж?
– Две через пару деньков, а вторую половину, как уговаривались, – ответил Чичиков, а сам подумал, что и со второй половиной тоже потянет, так как будет ещё в отъезде, а Хлобуев – невелика птица – подождёт. Передав Семёну Семёновичу три перетянутые бечёвкой пачки, Чичиков уселся в свою щегольскую коляску и, даже не попрощавшись как следует, поехал восвояси. По пути в имение Платоновых он велел Селифану объявить при братьях об якобы имеющейся в экипаже поломке или о хвори какой-либо из лошадей.
– Только от себя объяви, понял? Чтобы не было видно, будто по моему наущению.
– Будет сделано, – сказал Селифан с растяжкой, – не извольте беспокоиться, Павел Иванович. Об Чубаром объявлю, чтоб его волки съели. Экая подлая скотина, – и Селифан ещё долго сыпал на прядающего ушами нелюбимого им коня всяческие ругательства и угрозы.
А Павел Иванович, трясясь на эластических подушках своего экипажа, чувствовал нечто неприятное, что засело в груди, точно жаба под корягой. Неприятное это давило на сердце, рождая тёмные мысли, которые множились в его голове, как опара в квашне, замешанная на злости и стыде. Да, стыде, как это, может быть, и удивительно тебе, читатель, но стыд тот был совсем иного свойства. Чичиков стыдился не своего поступка перед Хлобуевым, а того, что поступок сей был виден Семёну Семёновичу во всей его выпуклой отчётливости. Вот этой своей оплошности и стыдился Чичиков перед самим собою, за это злился на себя, ругая при том Хлобуева последними словами.
В имении же братьев Платоновых, куда в скором времени прибыл вновь наш герой, шли самые что ни на есть отчаянные сборы в дорогу. Платон Михайлович, несмотря на известную уже всем всегдашнюю сонливость и заметное ко всему равнодушие, тем не менее весьма заинтересованно вникал в подробности своего гардероба, коему предполагалось отправиться с ним в путешествие. Высказав изрядную придирчивость в отношении галстуков и сорочек тонкого голландского сукна, он с не меньшим участием отнёсся и к сертукам, и к панталонам, чей черёд пришёл также улечься в его дорожный сундук, в который отправилась также и фрачная пара, и лаковые бальные туфли, и прочие мелочи, коими хочет отличиться в свете молодой ещё холостяк и из чего Чичиков вывел для себя две вещи. Первое – то, что Платон по-настоящему серьёзно надеялся на предстоящее им обоим путешествие, как на верное лекарство от съедающей его скуки, и второе – что не нужно будет разыгрывать комедию с Селифаном, потому как при таком количестве скарба, не считая ещё и провианта, которым занялись по приказанию брата Василия, и разговора быть не могло об том, чтобы разместиться в его, Павла Ивановича, коляске.
Платон Михайлович, слегка раскрасневшийся от хлопот и с выражением оживлённой улыбки в лице, чего от него, признаться, никто уже не ждал, обратился к Чичикову:
– Ну как, уладили с Хлобуевым? Всё в порядке? – спросил он.
– О да, всё в наиполнейшем порядке, Семён Семёнович согласился даже повременить со второй частью долга, – отозвался Чичиков, несколько приподнятым тоном, словно удостоверяя им, в каком отменном порядке находятся его отношения с Хлобуевым. – Куда столько припасов, Платон Михайлович? – спросил он, в свою очередь, у Платона, кивая в сторону приготовляющих поклажу слуг, – к тому же ещё и провизия… – пожал Павел Иванович плечами, но вежливой улыбкою стушёвывая могущую быть резкость вопроса.
– Да разве много? – вступился за Платона бывший тут же брат Василий. – По мне, так в самый раз, а провизия ясно на что. В дороге проголодаетесь, вот и поедите.
– Но я, признаться, думал, что мы не настолько издержим средств, чтобы не иметь возможности пообедать в трактире? – сказал Чичиков.
– Обедайте, ради бога, – отвечал брат Василий, – это очень даже хорошо. Как без горячего обеда, но к чему тратиться на прочую снедь, когда столько есть своего, а ведь дорога предстоит вам длинная, к тому же, Павел Иванович вы не знаете нашей губернии тут можно проехать сто вёрст – и ни трактира, ни лавки, ни села не встретишь, а ведь голод не тётка, его не уговоришь.
– Сдаюсь, сдаюсь, – рассыпчато рассмеялся Чичиков, – убедили, Василий Михайлович, конечно же, вы правы, и я, не зная местных обстоятельств, не должен давать вам советов, – и он в шутливом жесте приподнял руки, показывая, точно и впрямь сдаётся, а сам подумал: «Экий я дурак, и чего лезу, пусть их накладывают поболее, мне же лучше – деньги целее будут».
Тут, дождавшись окончания разговора между господами, подошёл слуга Платоновых и объявил, что Чичикова спрашивает кучер его Селифан, и Чичиков, извинившись перед братьями, вышел на крыльцо. Селифан, топтавшийся у крыльца, мял в руках шапку и, глядя на Чичикова, молчал.
– Ну, чего молчишь? – спросил Чичиков, усмехаясь, на что Селифан приложил ладонь ко рту и, заговорщицки оглядываясь, зашептал громким шёпотом:
– Так ведь приказано вами было, чтобы при господах.
– Ладно, так говори, – сказал Чичиков, морща нос.
– Так ведь, Павел Иванович, Чубарый-то тое, захворал – заговорил Селифан, стараясь придавать голосу как можно более правдивую интонацию.
– Да что ты? – вскинул Чичиков брови, забавляясь видом Селифана. – И чем же он у тебя захворал?
– Да у него тое… Захромал на левую заднюю. Мобыть, гниль копытная, а мобыть, ещё чего, – сказал Селифан и развёл руками, – очень вредный конь, Павел Иванович, его бы продать… – затянул он свою извечную песню.
– Ох, выпороть бы тебя, братец, – сказал Чичиков Селифану, на что тот искренне удивился и распахнув глаза, спросил:
– За что, Павел Иванович? – так как полагал, что замечательным образом выполнил наказ своего барина.
– Как за что, – сказал Чичиков, напуская на лицо серьёзность, – Чубарый-то у тебя захромал, – и, посмеиваясь, пошёл в дом, оставив недоуменно мигающего глазами Селифана.
– Что там у вас, Павел Иванович, – спросил у входящего в комнату Чичикова брат Василий, – ничего серьёзного?
– Не знаю, Василий Михайлович, кучер говорит, что одна из лошадей хромает, будто бы что-то с копытом, ну, да я думаю, к отъезду всё будет в порядке, так что не извольте беспокоиться, – отвечал Чичиков, показывая лёгкую озабоченность в своём тоне.
– Надо сказать на конюшне, чтобы поглядели, – сказал Василий Михайлович, – у меня старший конюх толк в своём деле знает, так что не сомневайтесь, – всё будет в порядке. С другой стороны, что бы вам, Павел Иванович, не передержать своих лошадей у нас? – продолжал брат Василий, – они тут и перекормятся, и уход за ними будет самый что ни на есть отменный, – приедете, получите их в наилучшем виде, а ехать можно и на наших лошадях, и то дело, смотрите, каков багаж, в любом разе в вашей коляске не уместится, – говорил Василий так, словно читал заповедные мысли Чичикова. Чичиков же для виду состроил некоторое сомнение в своём лице, попытался якобы возразить, но опять же нерешительно, давая понять, что он, конечно же, ничего не имеет против, только не хочет обременять этой заботой Платоновых. Но Василий Михайлович стоял на своём, крепко ухватившись за понравившуюся ему мысль, так что после недолгих пререканий было решено ехать на новой четырёхместной коляске братьев Платоновых с откидным кожаным верхом и кожаной полостью, в которой вольно могли бы себя чувствовать наши путешественники и где было достаточное место багажу.
Конец этого дня и весь следующий, предстоящий отъезду, прошли как-то хлопотливо и незаметно, никакие события, кроме сборов в дорогу не наполняли их. Платон Михайлович с нетерпением ждал отъезда, и его сонное выражение отступило, сменившись нетерпеливым и радостным ожиданием. В последний вечер они много говорили о предстоящей дороге, намечая маршруты, по которым будут объезжать родственников генерала Бетрищева; выкушав за этими разговорами самовар чаю и уже изрядно припозднившись, герои наши отправились почивать с тем, чтобы вставши поутру, двинуться в путь.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Утром Павел Иванович проснулся, как принято говорить в таких случаях, с первыми лучами солнца и в немного возбуждённом настроении; проделав всегдашний свой утренний туалет и сбрызнувшись напоследок одеколоном, он прошёл в уже знакомую нам столовую. К удивлению своему, он застал там одного лишь брата Василия, да и того в каком-то странном, смешанном расположении духа. На вопрос Чичикова, где же Платон Михайлович, неужели же изволят ещё почивать, Василий махнул досадливо рукой и, не глядя на Чичикова, сказал:
– Даже не знаю, что вам и отвечать, Павел Иванович! Заперся в своей комнате – не выходит.
– Как же так, – удивился Чичиков, – а как же поездка, ведь уговаривались выехать об десятом часе, а теперь уж девять?
– Ума не приложу, Павел Иванович, говорит, что раздумал ехать, что не видит смыслу в том никакого и что лучше ему оставаться дома.
– Бог мой! Это даже довольно странно, – сказал Чичиков, обращаясь к Василию Михайловичу. – Согласитесь, что это довольно странно. – И на лице его выразилось недоумение вовсе неподдельное. На что Василий Михайлович лишь молча пожал плечами и развёл руками, как бы говоря этим жестом, что он и сам ничего понять не может.
– Может быть, Платон Михайлович на меня в претензии за что-нибудь? Или, может, кто расстроил его? Никто поутру не приезжал? – спросил Павел Иванович, у которого мелькнула мысль о Хлобуеве и о том, что он мог заявиться спозаранку и, нажаловавшись на Чичикова, повлиять на настроение Платона Михайловича и смешать его планы. Но брат Василий уверил Павла Ивановича, что никого с утра не было и что брат его как заперся с ночи у себя в спальной, так с тех пор и не выходил.
– Странно…, – ещё раз произнёс Чичиков, теперь уж и впрямь ничего не понимая.
– Мне, конечно, совестно вам это предлагать, – сказал ему брат Василий, – но, может быть, вы, Павел Иванович, попробовали бы сами с ним переговорить?
– Отчего же совестно, – отозвался Чичиков, – я и сам хотел вас просить об этом.
– Ну всё же через дверь: не пристало ни лицу вашему, ни чину, – сказал Василий Михайлович, слегка конфузясь.
– Экая безделица, – отозвался Чичиков, – да ежели обращать внимание на подобные пустяки, свет бы остановился. Нет, Василий Михайлович, решительно идёмте, ведь просто необходимо с вашим братом переговорить. И они, не притронувшись к стынущему завтраку, вышли из столовой. Двери, ведущие в спальный покой Платона Михайловича, действительно были заперты, и брат Василий, повернув дважды дверную ручку, возгласил:
– Платон, выйдешь ты или нет, наконец? Тут Павел Иванович хочет с тобой переговорить. Это неучтиво, в конце концов! – повысил он голос.
Из-за двери послышалась какая-то вялая возня, раздалось по полу шарканье ночных хлопанцев, и в приотворённую дверь высунулась взлохмаченная голова Платона Михайловича. На заспанном лице его поселилось вновь привычное ему сонное выражение, и двойное это впечатление от его физиогномии было столь сильно, что, вероятно, на всякого нагнало бы тоску.
– Что случилось с вами, любезнейший Платон Михайлович? – строя в лице крайнюю озабоченность и тревогу, проговорил Чичиков. – Уж не худо ли вам? В здравии ли вы, а то, может, послать за доктором? – вопрошал он, прижимая в тревоге ладони к своей груди.
На что Платон Михайлович пробормотал что-то неразборчивое и выдохнул из себя воздух на манер того, как выдыхает воздух лопнувший бычий пузырь – из тех, что крашенными продают детворе на ярмарках.
– Платоша, да что с тобой, очнись, – с беспокойством проговорил Василий Михайлович, встряхнувши брата за плечи, на что тот выдохнул ещё раз и заговорил разборчивее.
– Павел Иванович… покорнейше прошу… простить, но я не поеду… – проговорил он с остановками, запинаясь чуть ли не после каждого слова, точно задумываясь о том, стоит ли ему зевнуть или продолжать начатую речь. Чичиков, знавший его расположение к скуке, тем не менее ни разу ещё не видал его в таком состоянии. И, конечно же, он даже и подумать не мог, что дойдёт до подобного каприза со стороны Платона Михайловича после тех радостных и долгих сборов, которыми Платон занимался с удовольствием, можно сказать, почти что два дня.
– Да что, собственно, случилось, Платон Михайлович, что могло произойти такого за ночь, чтобы вы так переменились в своих решениях? – спросил Чичиков.
– И не знаю, Павел Иванович, – отозвался Платон, – просто не то что ехать, думать о поездке не могу. Такая, вы меня простите, пустая трата времени, и к чему? – медленно, точно жуя кашу, промямлил он. – Вы, конечно же, езжайте, вам ведь по делу, а я не хочу… – И он сокрушённо качнул нечёсаною головою.
– Голубчик вы мой, Платон Михайлович, – чуть ли не возопил Чичиков, – да как же так, после того как всё готово, всё собрано, маршруты начертаны… Да я не поеду без вас, я просто заблужусь! И потом, я уж настроен ехать с вами вдвоём, а тут такая оказия…
– Уж увольте, Павел Иванович, не могу, не могу, – говорил почти что со слезой Платон Михайлович, – не поеду. А вы не держите на меня сердца, поезжайте. Вам ведь надо… А на обратном пути снова к нам; а заблудиться не заблудитесь – кучера довезут…
Ещё какое-то время Чичиков со старшим Платоновым пытались его уломать: говорили, что ему обязательно понравится в дороге, что это только поначалу ему не хочется, а потом всё пройдет, напоминали ему об его обещании, данном Вишнепокромову, – обязательно быть у того, но ничто не помогало, ничто не рождало в нём отклика. Душа его оставалась безучастной к приводимым ими резонам, и он, не переставая отнекиваться, оставался равнодушным и сонным, так что казалось, словно весь он обложен ватой, сквозь которую не могут пробиться слова убеждения, произносимые и Чичиковым, и Василием Михайловичем. Наконец, видя бесполезность уговоров и то, что они не оказывали в Платоне никакого действия, вызывая разве что плохо скрываемую досаду, Чичиков отступился, хотя Василий Михайлович ещё некоторое время продолжал усовещать своего брата, но видя, что Павел Иванович стоит, примолкнув, с растерянным и красным лицом, замолчал и он, бросив в сердцах:
– Экой же ты, брат… – он стукнул кулаком об ладонь другой руки и, круто повернувшись на каблуках, пошёл прочь.
– Ну что ж, Платон Михайлович, давайте прощаться, – сказал Чичиков, нарушая возникшее молчание, – не поминайте лихом… Очень жаль, очень жаль… – немного помолчав, добавил он, огорчённо покачавши головой.
– Прощайте, Павел Иванович, – ответил ему младший Платонов, – не обессудьте, но так уж вышло… – и они, обнявшись, расцеловались на прощание, но объятия эти вышли несколько формальными и в них сквозило холодом.
Чичиков отправился вослед старшему из братьев, слыша, как, за спиной скрипнув, затворилась дверь и щёлкнул ключ в замке. Сойдя в столовую, он ещё какое-то время говорил с Василием Михайловичем, обсуждая случившееся с Платоном происшествие, но ни тот, ни другой так и не смогли взять в толк, отчего же могло оно произойти.
Несмотря на неприятный осадок, оставленный в нём описанной нами сценкой, Чичиков не отказался от завтрака, считая, что независимо оттого, как повёл себя его несостоявшийся товарищ по путешествию, ехать на пустой желудок глупо, и не мешкая принялся за порядком остывшие уже кушания. Брат Василий тоже пробовал было ковырять вилкой в своей тарелке, но еда, как надо думать, не шла ему в горло, и он приказал подать себе рюмку водки. Выказывая явственное беспокойство об брате и зная его склонность к меланхолии, он тем не менее решительно не понимал причин такого его поведения. Хотя мы, как нам кажется, вполне догадались о том, что же случилось с Платоном Михайловичем. Проснулся он, как и Чичиков, довольно рано и в несколько нервическом состоянии. Какая-то глухая досада ощутилась им где-то в глубине сердца, досада, причин которой он ещё не знал. Он подумал о предстоящей дороге, о тех бесчисленных вёрстах, которые предстоит ему проехать для того, чтобы посетить малознакомых и вовсе неинтересных ему людей, вести с ними пустые и ни к чему не ведущие разговоры, уставать от их общества, от неудобств, подстерегающих путника на наших российских дорогах, от самой дороги, в конце концов – для того лишь только, чтобы в конце пути стремиться, как к несказанной радости, к возвращению в родимый дом, бывший для него лучшим и наижеланнейшим местом на земле. «К чему это, если можно, и не уезжать из дому, оставаясь в этом дорогом с самого детства сердцу месте. К чему – если все впечатления, к которым стремишься, вместо новизны обдадут скукой и пошлостью. Нет, лучше уж никуда не уезжать», – думал Платон Михайлович, поглубже зарываясь в подушку. Он вспомнил о том, как суетился в последние дни, обо всех тех заботах, что проявил он о галстухах и воротничках, и ему стало не просто досадно, но горький стыд залил тогда его сердце, так что он даже вцепился зубами в край тёплого одеяла, коим укрывался. «Какая глупость, – думал он, – к чему всё это… Не хочу… Не хочу…» Затем пришла ему в голову мысль о том, что придётся объясняться с Павлом Ивановичем об отказе ехать с ним, что Чичиков вполне может принять это на свой счёт и обидеться. Но нежелание ехать было так сильно, что и это не остановило его. «Ну и пусть, – подумал он, – всё равно, всё к чёрту». И единственное его желание стало то, чтобы Павел Иванович поскорее уезжал. Сумятица в мыслях и в душе привели скоро к тому, что он погрузился в состояние, близкое ко сну наяву, и состояние это было приятно и принесло успокоение. Вот что, собственно, произошло с Платоном Михайловичем, и если бы мы хотели быть более краткими и описывать все душевные состояния наших героев одною фразой или одним-двумя словами, что нам кажется вовсе неинтересным, то мы попросту бы сказали, что Платон Михайлович – «перегорел».
Покончивши с завтраком, Павел Иванович собрался ехать; Василий Михайлович распорядился, чтобы из коляски убрали сундук с вещами брата Платона, и, расцеловавшись крест-накрест с хозяином, Чичиков покатил в удобной платоновской коляске, запряжённой сытыми гнедыми лошадьми, пообещав обернуться недельки в две-три. В кучерах у него был Селифан, и Петрушка сидел рядом с ним на козлах, гордо держа голову и, верно, почитая себя наилучшим украшением щегольской с красными спицами коляски. После того, как стало известно об отказе Платона Михайловича от поездки, Чичиков решил взять с собою своих людей, как более знающих его склонности и привычки. Новая коляска мягко огибала все случавшиеся неровности дороги, гибкие рессоры её покачивали Павла Ивановича точно на волнах мирного моря, баюкая бывшие в нём дурные мысли и впечатления от сегодняшнего утра. Он стал угреваться на уже почти вошедшем в силу солнышке, и мало-помалу настроение у него, так привыкшего в своей хлопотливой жизни к поскрипыванию колёс, мерному топоту бегущих лошадей, летящему над дорогой и дующему в лицо ветру, настроение его стало ровно, он умерил горевшую в нём пусть и небольшую досаду, и от бывшего осадка не осталось и следа, как не остаётся следа от грязной ноздреватой льдинки, тающей и плавящейся под лучами весеннего солнца.
Верста за верстою укладывались под колёса мягко катившегося экипажа и слагались в путь, всё дальше уводивший его от имения Платоновых. Незаметно отмахали они более двадцати вёрст по тому маршруту, что начертал Павел Иванович с помощью Платона, и понемногу стали появляться приметы близкого селения. А вскоре и само оно показалось вдали. Но селение это, видно, почитало себя городом, потому как у въезда в это «нечто» стоял будочник и на вопрос Павла Ивановича, как называется сей населённый пункт, отвечал сонно и с зевотой, что город сей называется Заморск. А так как никакого моря поблизости не располагалось, что доподлинно было известно Чичикову, то он совершенно определил для себя, что название это иного известного корню, что, конечно же, могло и не совпадать с мнением обитателей сего… ну, да ладно, скажем, городка. Проезд через городок тоже не дал для Павла Ивановича ничего нового, не принёс никаких открытий, потому что тот был, как и все подобные городишки, известного пошибу. Те же старые домишки, полусгнившие крыши, поросшие мхом, травой и даже кустарником, мелочные лавчонки, где продавался чай, дёготь, сахар, хомуты, и редкие прохожие на улицах, с интересом провожающие долгим взглядом незнакомую коляску с седоком, выделявшимся из того общего ряду, к которому были привычны местные обыватели. Единственное, что как-то развлекло Павла Ивановича во время проезда по городишку, была жёлтая собака, бросившаяся под колеса коляски и бежавшая с нею рядом какое-то время, лая на мелькающие спицы оскаленным ртом. Глаза у неё горели, и этой дуре собачьего племени, наверное казалось, что она выполняет очень важную и нужную работу, за которую надо бы её похвалить, потрепать по холке, а может, и угостить бычачьей костью с ошмётком мяса, но она получила от Селифана иное угощение. Он перетянул её кнутом, и собака, завизжав, поджала хвост и кинулась в сторону, при этом у неё на морде было такое обиженно-недоумевающее выражение, будто она и впрямь не могла взять в толк, как это за такую хорошую работу, за такое весёлое времяпрепровождение и вдруг – побои. Чичиков поглядел на неё и рассмеялся, ему отчего-то стало приятно, что собаке досталось кнута. Городишко остался позади, исчезнувши за бугром, исчезнувши из памяти нашего героя так, точно его и не существовало на земле вовсе. Что, впрочем, и неудивительно. Сколько их в нашем отечестве, таких городишков, что и существуют и вроде бы и не существуют вовсе, в которых живут жители, будто и не живущие вовсе, и это странное положение существующего несуществования до боли российское и, может быть, только России присущее, потому как только из такой обильной горсти, в которую собрала отчизна наша бессчётные земли, города, селения и жизни, только из такой горсти, сквозь неплотно сжатые пальцы могут просыпаться, точно медяки, все эти городишки и судьбы, обречённые на прозябание.
Дорога, шедшая под уклон, снова стала вползать на круглый холм, и коляска, взбежавшая на его пологую верхушку, чуть ли не упёрлась во вставшую перед глазами лесную стену. Солнечный свет лежал на деревьях, то выступающих у края леса округлыми своими кронами, то уходивших подальше от дороги и купающих листву в тени, отбрасываемой другими деревами. Дорога врезалась в лес, пролетев сквозь клёны и дубы, вышла на луг, где поднимались тростники, и вновь помчалась сквозь лес ещё высший. По левую её сторону темнели стволами дубы, одетые необычайно яркою пушистою листвой, по правую – беспредельным частоколом белели берёзы. А лес, становясь всё гуще, забирал всё выше и выше, одевая новый встающий на пути холм, который вполне прилично было бы величать и горою. Но добрые кони, не сбавляя мерного бегу, вознесли Павла Ивановича и на эту вершину, где лес вдруг заканчивался и открывался весь залитый солнцем луг, на который отсюда, из густой тени леса, больно было глядеть, так слепила глаза его блестящая на солнце, покрытая цветами и травою покатость, сползавшая вниз, в разлитую чуть ли не до горизонта долину, где островами стояли леса – то тёмные, ближайшие, то дальние прозрачные, точно дым; лежали поля, то вспаханные и чернеющие квадратным платом, то зелёные от поднявшихся уже хлебов, то золотые от цветущей сурепицы, отороченные червонной оторочкой пушистых цветков будяка. Снизу, из-под самого солнечного подножия холма, послышался звук охотничьего рога, сменившийся глухим и далёким лаем ставшей на след стаи. Самой охоты ещё не было видать, и Павел Иванович подумал: «Надо же, и кому взбрело в голову охотиться об такую пору?» – а коляска его тем временем стала съезжать на пологий луг.