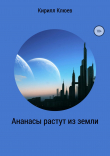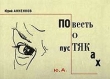Текст книги "Мертвые души. Том 2"
Автор книги: Николай Гоголь
Соавторы: Юрий Авакян
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 27 страниц)
В довершение хорошего, портной в это время принёс <платье>. <Чичиков> получил желанье сильное посмотреть на самого себя в новом фраке наваринского пламени с дымом. Натянул штаны, которые обхватили его чудесным образом со всех сторон, так что хоть рисуй. Ляжки так славно обтянуло, икры тоже, сукно обхватило все малости, сообща им ещё большую упругость. Как затянул он позади себя пряжку, живот стал точно барабан. Он ударил по нём тут щёткой, прибавив: «Ведь какой дурак, а в целом он составляет картину!» Фрак, казалось, был сшит ещё лучше штанов: ни морщинки, все бока обтянул, выгнулся на перехвате, показавши весь его перегиб. Под правой мышкой немного жало, но от этого ещё лучше прихватывало на талии. Портной, который стоял в полном торжестве, говорил только: «Будьте покойны, кроме Петербурга, нигде так не сошьют». Портной был сам из Петербурга и на вывеске выставил: «Иностранец из Лондона и Парижа». Шутить он не любил и двумя городами разом хотел заткнуть глотку всем другим портным, так, чтобы впредь никто не появился с такими городами, а пусть себе пишет из какого-нибудь «Карлсеру» или «Копенгара».
Чичиков великодушно расплатился с портным, и, оставшись один, стал рассматривать себя недосуге в зеркале, как артист с эстетическим чувством и con amore. Оказалось, что всё как-то было ещё лучше, чем прежде: щёчки интереснее, подбородок заманчивей, белые воротнички давали тон щеке, атласный синий галстук давал тон воротничкам; новомодные складки манишки давали тон галстуку, богатый бархатный <жилет> давал <тон> манишке, а фрак наваринского дыма с пламенем, блистая, как шёлк, давал тон всему. Поворотился направо – хорошо! Поворотился налево – ещё лучше! Перегиб такой, как у камергера или у такого господина, который так чешет по-французски, что перед ним сам француз ничего, который, даже и рассердясь, не срамит себя непристойно русским словом, даже и выбраниться не умеет на русском языке, а распечёт французским диалектом. Деликатность такая! Он попробовал, склоня голову несколько набок, принять позу, как бы адресовался к даме средних лет и последнего просвещения: выходила просто картина. Художник, бери кисть и пиши! В удовольствии, он совершил тут же лёгкий прыжок, вроде антраша. Вздрогнул комод и шлёпнулась на землю склянка с одеколоном; но это не причинило никакого помешательства. Он назвал, как и следовало, глупую склянку дурой и подумал: «К кому теперь прежде всего явиться? Всего лучше…»
Как вдруг в передней – вроде некоторого бряканья сапогов с шпорами и жандарм в полном вооружении, как <будто> в лице его было целое войско.
«Приказано сей же час явиться к генерал-губернатору!» Чичиков так и обомлел. Перед ним торчало страшилище с усами, лошадиный хвост на голове, через плечо перевязь, через другое перевязь, огромнейший палаш привешен к боку. Ему показалось, что при другом боку висело и ружье, и чёрт знает что: целое войско в одном только! Он начал было возражать, страшило грубо заговорило: «Приказано сей же час!» Сквозь дверь в переднюю он увидел, что там мелькнуло и другое страшило, взглянул в окошко – и экипаж. Что тут делать? Так, как был, в фраке наваринского пламени с дымом, должен был сесть и, дрожа всем телом, отправился к генерал-губернатору, и жандарм с ним.
В передней не дали даже и опомниться ему. «Ступайте! Вас князь уже ждёт», – сказал дежурный чиновник. Перед ним, как в тумане, мелькнула передняя с курьерами, принимавшими пакеты, потом зала, через которую он прошёл, думая только: «Вот как схватит, да без суда, без всего, прямо в Сибирь!» Сердце его забилось с такой силою, с какой не бьётся даже у наиревнивейшего любовника. Наконец растворилась пред ним дверь: предстал кабинет, с портфелями, шкафами и книгами, и князь гневный, как сам гнев.
«Губитель, губитель! – сказал Чичиков. – Он мою душу погубит, зарежет, как волк агнца!»
– Я вас пощадил, я позволил вам остаться в городе, тогда как вам следовало бы в острог; а вы запятнали себя вновь бесчестнейшим мошенничеством, каким когда-либо запятнал себя человек.
Губы князя дрожали от гнева.
– Каким же, ваше сиятельство, бесчеловечнейшим поступком и мошенничеством? – спросил Чичиков, дрожа всем телом.
– Женщина, – произнёс князь, подступая несколько ближе и смотря прямо в глаза Чичикову, – женщина, которая подписывала по вашей диктовке завещание, схвачена и станет с вами на очную ставку.
Чичиков стал бледен, как полотно.
– Ваше сиятельство! Скажу всю истину дела. Я виноват; точно, виноват; но не так виноват. Меня обнесли враги.
– Вас не может никто обнесть, потому что в вас мерзостей в несколько раз больше того, что может <выдумать> последний лжец. Вы всю свою жизнь, я думаю, не делали небесчестного дела. Всякая копейка, добытая вами, добыта бесчестно, есть воровство и бесчестнейшее дело, за которое кнут и Сибирь! Нет, теперь полно! С сей же минуты будешь отведён в острог и там, наряду с последними мерзавцами и разбойниками, ты должен <ждать> разрешенья участи своей. И это милостиво ещё, потому что <ты> хуже их в несколько <раз>: они в армяке и тулупе, а ты…
Он взглянул на фрак наваринского пламени с дымом и, взявшись за шнурок, позвонил.
– Ваше сиятельство, – вскрикнул Чичиков, – умилосердитесь! Вы отец семейства. Не меня пощадите – старуха мать!
– Врёшь! – вскрикнул гневно князь. – Так же ты меня тогда умолял детьми и семейством, которых у тебя никогда не было, теперь – матерью!
– Ваше сиятельство, я мерзавец и последний негодяй, – сказал Чичиков совершенно упавшим голосом. – Я действительно лгал, я не имел ни детей, ни семейства; но, вот бог свидетель, я всегда хотел иметь жену, исполнить долг человека и гражданина, чтобы действительно потом заслужить уваженье граждан и начальства… Но что за бедственные стечения обстоятельств! Кровью, ваше сиятельство, кровью нужно было добывать насущное существование. На всяком шагу соблазны и искушенье… враги, и губители, и похитители. Вся жизнь была – точно вихорь буйный или судно среди волн по воле ветров. Я – человек, ваше сиятельство!
Слёзы вдруг хлынули из глаз его. Он повалился в ноги князю, так, как был, во фраке наваринского пламени с дымом, в бархатном жилете с атласным галстуком, новых штанах и причёсанных волосах, изливавших чистый запах одеколона.
– Поди прочь от меня! Позвать, чтобы его взяли, солдат! – сказал князь взошедшим.
– Ваше сиятельство! – кричал <Чичиков> и обхватил обеими руками сапог князя.
Чувство содроганья пробежало по всем жилам<князя>.
– Подите прочь, говорю вам! – сказал он, усиливаясь вырвать свою ногу из объятья Чичикова.
– Ваше сиятельство! Не сойду с места, покуда не получу милости! – говорил <Чичиков>, не выпуская сапог и проехавшись, вместе с ногой, по полу в фраке наваринского пламени и дыма.
– Подите, говорю вам! – говорил он с тем неизъяснимым чувством отвращенья, какое чувствует человек при виде безобразнейшего насекомого, которого нет духу раздавить ногой. Он стряхнул так, что Чичиков почувствовал удар сапога в нос, губы и округлённый подбородок, но не выпустил сапога и ещё с большей силой держал ногу в своих объятьях. Два дюжих жандарма в силах оттащили его и, взявши под руки, повели через все комнаты. Он был бледный, убитый, в том бесчувственно-страшном состоянии, в каком бывает человек, видящий перед собою чёрную, неотвратимую смерть, это страшилище, противное естеству нашему…
В самых дверях на лестницу навстречу – Муразов. Луч надежды вдруг скользнул. В один миг с силой неестественной вырвался он из рук обоих жандармов и бросился в ноги изумлённому старику.
– Батюшка, Павел Иванович, что с вами?
– Спасите! Ведут в острог, на смерть…
Жандармы схватили его и повели, не дали даже и услышать.
Промозглый сырой чулан с запахом сапогов и онуч гарнизонных солдат, некрашеный стол, два скверных стула, с железною решёткой окно, дряхлая печь, сквозь щели которой шёл дым и не давало тепла, – вот обиталище, где помещён был наш <герой>, уже было начинавший вкушать сладость жизни и привлекать вниманье соотечественников в тонком новом фраке наваринского пламени и дыма. Не дали даже ему распорядиться взять с собой необходимые вещи, взять шкатулку, где были деньги. Бумаги, крепости на мёртвые <души> – всё было теперь у чиновников! Он повалился на землю, и плотоядный червь грусти страшной, безнадёжной, обвился около его сердца. С возрастающей быстротой стала точить она это сердце, ничем не защищённое. Ещё день такой, день такой грусти, и не было <бы> Чичикова вовсе на свете. Но и над Чичиковым не дремствовала чья-то всеспасающая рука. Час спустя двери тюрьмы растворились: взошёл старик Муразов.
Если бы терзаемому палящей жаждой влил кто в засохнувшее горло струю ключевой воды, то он бы не оживился так, как оживился бедный Чичиков.
– Спаситель мой! – сказал Чичиков, схвативши вдруг его руку, быстро поцеловал и прижал к груди. – Бог да наградит вас за то, что посетили несчастного!
Он залился слезами.
Старик глядел на него скорбно-болезненным взором и говорил только:
– Ах, Павел Иванович! Павел Иванович, что вы сделали?
– Я подлец… Виноват… Я преступил… Но посудите, посудите, разве можно так поступать? Я – дворянин. Без суда, без следствия, бросить в тюрьму, отобрать всё от меня: вещи, шкатулка… там деньги, там всё имущество, там все моё имущество, Афанасий Васильевич, – имущество, которое кровным потом приобрёл…
И, не в силах будучи удерживать порыва вновь подступившей к сердцу грусти, он громко зарыдал голосом, проникнувшим толщу стен острога и глухо отозвавшимся в отдаленье, сорвал с себя атласный галстук и, схвативши рукою около воротника, разорвал на себе фрак наваринского пламени с дымом.
– Павел Иванович, всё равно: и с имуществом, и со всем, что ни есть на свете, вы должны проститься. Вы подпали под неумолимый закон, а не под власть какого человека.
– Сам погубил себя, сам знаю – не умел вовремя остановиться. Но за что же такая страшная <кара>, Афанасий Васильевич? Я разве разбойник? От меня разве пострадал кто-нибудь? Разве я сделал кого несчастливым? Трудом и потом, кровавым потом добывал копейку. Зачем добывал копейку? Затем, чтобы в довольстве прожить остаток дней, оставить что-нибудь детям, которых намеревался приобресть для блага, для службы отечеству. Покривил, не спорю, покривил… что ж делать? Но ведь покривил, увидя, что прямой дорогой не возьмёшь и что косой дорогой больше напрямик. Но ведь я трудился, я изощрялся. А эти мерзавцы, которые по судам берут тысячи с казны, иль небогатых людей грабят, последнюю копейку сдирают с того, у кого нет ничего!.. Афанасий Васильевич! Я не блудничал, я не пьянствовал. Да ведь сколько трудов, сколько железного терпенья! Да я, можно сказать, выкупил всякую добытую копейку страданьями! Пусть их кто-нибудь выстрадает то, что я! Ведь что вся жизнь моя: лютая борьба, судно среди волн. И потеряно, Афанасий Васильевич, то, что приобретено такой борьбой…
Он не договорил и зарыдал громко от нестерпимой боли сердца, упал на стул, и оторвал совсем виснувшую разорванную полу фрака, и швырнул её прочь от себя, и, запустивши обе руки себе в волосы, об укрепленье которых прежде старался, безжалостно рвал их, услаждаясь болью, которую хотел заглушить ничем неугасимую боль сердца.
– Ах, Павел Иванович, Павел Иванович! – говорил <Муразов>, скорбно смотря на него и качая <головой>. – Я всё думаю о том, какой бы из вас был человек, если бы так же, и силою и терпеньем, да подвизались бы на добрый труд и для лучшей <цели>! Если бы хоть кто-нибудь из тех людей, которые любят добро, да употребили бы столько усилий для него, как вы для добыванья своей копейки!.. Да умели бы так пожертвовать для добра и собственным самолюбием, и честолюбием, не жалея себя, как вы не жалели для добыванья своей копейки!..
– Афанасий Васильевич! – сказал бедный Чичиков и схватил его обеими руками за руки. – О, если бы удалось мне освободиться, возвратить моё имущество! Клянусь вам, повёл бы отныне совсем другую жизнь! Спасите, благодетель, спасите!
– Что ж могу я сделать? Я должен воевать с законом. Положим, если бы я даже и решился на это, но ведь князь справедлив, – он ни за что не отступит.
– Благодетель! Вы всё можете сделать. Не закон меня страшит, – я перед законом найду средства, – но то, что непов<инно> я брошен в тюрьму, что я пропаду здесь, как собака, и что моё имущество, бумаги, шкатулка… спасите! – Он обнял ноги старика, облил их слезами.
– Ах, Павел Иванович, Павел Иванович! – говорил старик Муразов, качая <головою>. – Как вас ослепило это имущество! Из-за него вы и бедной души своей не слышите!
– Подумаю и о душе, но спасите!
– Павел Иванович! – сказал старик Муразов и остановился. – Спасти вас не в моей власти, – вы сами видите. Но приложу старанье, какое могу, чтобы облегчить вашу участь и освободить. Не знаю, удастся ли это сделать, но буду стараться. Если же, паче чаянья, удастся, Павел Иванович, – я попрошу у вас награды за труды: бросьте все эти поползновенья на эти приобретения. Говорю вам по чести, что если бы я и всего лишился моего имущества, – а у меня его больше, чем у вас, – я бы не заплакал. Ей-ей, <дело> не в этом имуществе, которое могут у меня конфисковать, а в том, которого никто не может украсть и отнять! Вы уж пожили на свете довольно. Вы сами называете жизнь свою судном среди волн. У вас есть уже чем прожить остаток дней. Поселитесь себе в тихом уголке, поближе к церкви и простым, добрым людям; или, если знобит сильное желанье оставить по себе потомков, женитесь на небогатой доброй девушке, привыкшей к умеренности и простому хозяйству. Забудьте этот шумный мир и все его обольстительные прихоти; пусть и он вас позабудет. В нём нет успокоенья. Вы видите: всё в нём враг, искуситель или предатель.
Чичиков задумался. Что-то странное, какие-то неведомые дотоле, незнаемые чувства, ему необъяснимые, пришли к нему: как будто хотело в нём что-то пробудиться, что-то подавленное из детства суровым, мёртвым поученьем, бесприветностью скучного детства, пустынностью родного жилища, бессемейным одиночеством, нищетой и бедностью первоначальных впечатлений, суровым взглядом судьбы, взглянувшей на него скучно, сквозь какое-то мутно занесённое зимней вьюгой окно.
– Спасите только, Афанасий Васильевич! – вскричал он. – Поведу другую жизнь, последую вашему совету! Вот вам моё слово!
– Смотрите же, Павел Иванович, от слова не отступитесь, – сказал Муразов, держа его руку.
– Отступился бы, может быть, если бы не такой страшный урок, – сказал, вздохнувши, бедный Чичиков и прибавил: – Но урок тяжёл; тяжёл, тяжёл урок, Афанасий Васильевич!
– Хорошо, что тяжёл. Благодарите за это бога, помолитесь. Я пойду о вас стараться.
Сказавши это, старик вышел.
Чичиков уже не плакал, не рвал на себе фрак и волос: он успокоился.
– Нет, полно! – сказал он наконец, – другую, другую жизнь. Пора в самом деле сделаться порядочным. О, если бы мне как-нибудь только выпутаться и уехать хоть с небольшим капиталом, поселюсь вдали от… А купчие?.. – он подумал: «Что ж? Зачем оставить это дело, стольким трудом приобретённое?.. Больше не стану покупать, но заложить те нужно. Ведь приобретенье это стоило трудов! Это я заложу, заложу, с тем чтобы купить на деньги поместье. Сделаюсь помещиком, потому что тут можно сделать много хорошего». И в мыслях его пробудились те чувства, которые овладели им, когда он был <у> Костанжогло, и милая, при греющем свете вечернем, умная беседа хозяина о том, как плодотворно и полезно занятье поместьем. Деревня так вдруг представилась ему прекрасно, точно бы он в силах был почувствовать все прелести деревни.
– Глупы мы, за суетой гоняемся! – сказал он наконец. – Право, от безделья! Всё близко, всё под рукой, а мы бежим за тридевять <земель>. Чем не жизнь, если займёшься хоть бы и в глуши? Ведь удовольствие действительно в труде. И ничего нет слаще, как плод собственных трудов… Нет, займусь трудом, поселюсь в деревне, и займусь честно, так, чтобы иметь доброе влияние и на других. Что ж в самом деле, будто я уже совсем негодный? У меня есть способности к хозяйству; и я имею качества и бережливости, и расторопности, благоразумия, даже постоянства. Стоит только решиться, чувствую, что есть. Теперь только истинно и ясно чувствую, что есть какой-то долг, который нужно исполнять человеку на земле, не отрываясь от того места и угла, на котором он постановлен.
И трудолюбивая жизнь, удалённая от шума городов и тех обольщений, которые от праздности выдумал, позабывши труд, человек, так сильно стала перед ним рисоваться, что он уже почти позабыл всю неприятность своего положения и, может быть, готов был даже возблагодарить провиденье за этот тяжёлый <урок>, если только выпустят его и отдадут хотя часть. Но… одностворчатая дверь его нечистого чулана растворилась, вошла чиновная особа – Самосвистов, эпикуреец, собой лихач, отличный товарищ, кутила и продувная бестия, как выражались о нём сами товарищи. В военное время человек этот наделал бы чудес: его бы послать куда-нибудь пробраться сквозь непроходимые, опасные места, украсть перед носом у самого неприятеля пушку, – это его бы дело. Но за неимением военного поприща, на котором бы, может быть, он был честным человеком, он пакостил и гадил. Непостижимое дело! С товарищами он был хорош, никого не продавал, и, давши слово, держал: но высшее над собою начальство он считал чем-то вроде неприятельской батареи, сквозь которую нужно пробиваться, пользуясь всяким слабым местом, проломом или упущением…
– Знаем всё об вашем положении, всё услышали! – сказал он, когда увидел, что дверь за ним плотно затворилась. – Ничего, ничего! Не робейте: всё будет поправлено. Всё станет работать за вас и – ваши слуги! Тридцать тысяч на всех – и ничего больше.
– Будто? – вскрикнул Чичиков. – И я буду совершенно оправдан?
– Кругом! Ещё и вознагражденье получите за убытки.
– И за труд?..
– Тридцать тысяч. Тут уже всё вместе – и нашим, и генерал-губернаторским, и секретарю.
– Но позвольте, как же я могу? Мои все вещи… шкатулка… всё это теперь запечатано, под присмотром…
– Через час получите всё. По рукам, что ли?
Чичиков дал руку. Сердце его билось, и он не доверял, чтобы это было возможно…
– Пока прощайте! Поручил вам <сказать> наш общий приятель, что главное дело – спокойствие и присутствие духа.
«Гм! – подумал Чичиков, – понимаю: юрисконсульт!»
Самосвистов скрылся. Чичиков, оставшись, всё ещё не доверял словам, как не прошло часа после этого разговора, как была принесена шкатулка: бумаги, деньги – и всё в наилучшем порядке. Самосвистов явился в качестве распорядителя: выбранил поставленных часовых за то, что небдительно смотрели, приказал приставить ещё лишних солдат для усиленья присмотра, взял не только шкатулку, но отобрал даже все такие бумаги, которые могли бы чем-нибудь компрометировать Чичикова; связал всё это вместе, запечатал и повелел самому солдату отнести немедленно к самому Чичикову, в виде необходимых ночных и спальных вещей, так что Чичиков, вместе с бумагами, получил даже и всё тёплое, что нужно было для покрытия бренного его тела. Это скорое доставление обрадовало его несказанно. Он возымел сильную надежду, и уже начали ему вновь грезиться кое-какие приманки: вечером театр, плясунья, за которою он волочился. Деревня и тишина стали бледней, город и шум – опять ярче, яснее… О, жизнь!
А между тем завязалось дело размера беспредельного в судах и палатах. Работали перья писцов, и, понюхивая табак, трудились казусные головы, любуясь как художники, крючковатой строкой. Юрисконсульт, как скрытый маг, незримо ворочал всем механизмом; всех опутал решительно, прежде чем кто успел осмотреться. Путаница увеличилась. Самосвистов превзошёл самого себя отважностью и дерзостью неслыханною. Узнавши, где караулилась схваченная женщина, он явился прямо и вошёл таким молодцом и начальником, что часовой сделал ему честь и вытянулся в струнку.
– Давно ты здесь стоишь?
– С утра, ваше благородие!
– Долго до смены?
– Три часа, ваше благородие!
– Ты мне будешь нужен. Я скажу офицеру, чтобы наместо тебя отрядил другого.
– Слушаю, ваше благородие!
И, уехав домой, ни минуты не медля, чтобы не замешивать никого и все концы в воду, сам нарядился жандармом, оказался в усах и бакенбардах – сам чёрт бы не узнал. Явился в доме, где был Чичиков, и, схвативши первую бабу, какая попалась, сдал её двум чиновным молодцам, докам тоже, а сам прямо явился в усах и с ружьём, как следует, к часовым:
– Ступай, меня прислал командир выстоять, наместо тебя, смену.
Обменялся с часовым и стал сам с ружьём.
Только этого было и нужно. В это время наместо прежней бабы очутилась другая, ничего не знавшая и не понимавшая. Прежнюю запрятали куды-то так, что и потом не узнали, куда она делась. В то время, когда Самосвистов подвизался в лице воина, юрисконсульт произвёл чудеса на гражданском поприще: губернатору дал знать стороною, что прокурор на него пишет донос; жандармскому чиновнику дал знать, <что> секретно проживающий чиновник пишет на него доносы; секретно проживавшего чиновника уверил, что есть ещё секретнейший чиновник, который на него доносит, – и всех привёл в такое положение, что к нему должны были обратиться за советами. Произошла такая бестолковщина: донос сел верхом на доносе, и пошли открываться такие дела, которых и солнце не видало, и даже такие, которых и не было. Всё пошло в работу и в дело: и кто незаконнорождённый сын, и какого рода и званья у кого любовница, и чья жена за кем волочится. Скандалы, соблазны и всё так замешалось и сплелось вместе с историей Чичикова, с мёртвыми душами, что никоим образом нельзя было понять, которое из этих дел было главнейшая чепуха: оба казались равного достоинства. Когда стали наконец поступать бумаги к генерал-губернатору, бедный князь ничего не мог понять. Весьма умный и расторопный человек, которому поручено было сделать экстракт, чуть не сошёл с ума. Никаким образом нельзя было поймать нити дела. Князь был в это время озабочен множеством других дел, одно другого неприятнейших. В одной части губернии оказался голод. Чиновники, посланные раздать хлеб, как-то не так распорядились, как следовало. В другой части губернии расшевелились раскольники. Кто-то пропустил между ними, что народился антихрист, который и мёртвым не дает покоя, скупая какие-то мёртвые души. Каялись и грешили и, под видом изловить антихриста, укокошили неантихристов. В другом месте мужики взбунтовались против помещиков и капитан-исправников. Какие-то бродяги пропустили между ними слухи, что наступает такое время, что мужики должны <быть> помещики и нарядиться во фраки, а помещики нарядятся в армяки и будут мужики, – и целая волость, не размысля того, что слишком много выйдет тогда помещиков и капитан-исправников, отказалась платить всякую подать. Нужно было прибегнуть к насильственным мерам. Бедный князь был в самом расстроенном состоянии духа. В это время доложили ему, что пришёл откупщик.
– Пусть войдёт, – сказал князь.
Старик вошёл…
– Вот вам Чичиков! Вы стояли за него и защищали. Теперь он попался в таком деле, на какое последний вор не решится.
– Позвольте вам доложить, ваше сиятельство, что я не очень понимаю это дело.
– Подлог завещания, и ещё какой!.. Публичное наказание плетьми за этакое дело!
– Ваше сиятельство, скажу не с тем, чтобы защищать Чичикова. Но ведь это дело не доказанное: следствие ещё не сделано.
– Улика: женщина, которая была наряжена наместо умершей, схвачена. Я её хочу расспросить нарочно при вас. – Князь позвонил и дал приказ позвать ту женщину.
Муразов замолчал.
– Бесчестнейшее дело! И, к стыду, замешались первые чиновники города, сам губернатор. Он не должен быть там, где воры и бездельники! – сказал князь с жаром.
– Ведь губернатор – наследник; он имеет право на притязания; а что другие-то со всех сторон прицепились, так это-с, ваше сиятельство, человеческое дело. Умерла-с богатая, распоряженья умного и справедливого не сделала; слетелись со всех сторон охотники поживиться – человеческое дело…
– Но ведь мерзости зачем же делать?.. Подлецы! – сказал князь с чувством негодованья. – Ни одного чиновника у меня хорошего: все – мерзавцы!
– Ваше сиятельство! Да кто ж из нас, как следует, хорош? Все чиновники нашего города – люди, имеют достоинства и многие очень знающие в деле, а от греха всяк близок.
– Послушайте, Афанасий Васильевич, скажите мне, я вас одного знаю за честного человека, что у вас за страсть защищать всякого рода мерзавцев?
– Ваше сиятельство, – сказал Муразов, – кто бы ни был человек, которого вы называете мерзавцем, но ведь он человек. Как же не защищать человека, когда знаешь, что он половину зол делает от грубости и неведенья? Ведь мы делаем несправедливости на всяком шагу и всякую минуту бываем причиной несчастья другого, даже и не с дурным намереньем. Ведь ваше сиятельство сделали также большую несправедливость.
– Как! – воскликнул в изумлении князь, совершенно поражённый таким нежданным оборотом речи.
Муразов остановился, помолчал, как бы соображая что-то, и наконец, сказал:
– Да вот хоть бы по делу Тентетникова.
– Афанасий Васильевич! Преступленье против коренных государственных законов, равное измене земле своей!..
– Я не оправдываю его. Но справедливо ли то, если юношу, который по неопытности своей был обольщён и сманен другими, осудить так, как и того, который был один из зачинщиков? Ведь участь постигла ровная и Тентетникова и какого-нибудь Вороного-Дрянного; а ведь преступленья их не равны.
– Ради бога… – сказал князь с заметным волненьем, – вы что-нибудь знаете об этом? Скажите. Я именно недавно послал ещё прямо в Петербург об смягчении его участи.
– Нет, ваше сиятельство, я не насчёт того говорю, чтобы я знал что-нибудь такое, чего вы не знаете. Хотя, точно, есть одно такое обстоятельство, которое бы послужило в его пользу, да он сам не согласится, потому <что> через это пострадал бы другой. А я думал только то, что не изволили ли вы тогда слишком поспешить. Извините, ваше сиятельство, я сужу по своему слабому разуму. Вы несколько раз приказывали мне откровенно говорить. У меня-с, когда я ещё был начальником, много было всяких работников, и дурных и хороших… Следовало бы тоже принять во внимание и прежнюю жизнь человека, потому что, если не рассмотришь всё хладнокровно, а накричишь с первого раза, – запугаешь только его, да и признанья настоящего не добьёшься: а как с участием его расспросишь, как брат брата, – сам всё выскажет и даже не просит о смягчении, и ожесточенья ни против кого нет, потому что ясно видит, что не я его наказываю, а закон.
Князь задумался. В это время вошёл молодой чиновник и почтительно остановился с портфелем. Забота, труд выражались на его молодом и ещё свежем лице. Видно было, что он недаром служил по особым порученьям. Это был один из числа тех немногих, который занимался делопроизводством con amore. Не сгорая ни честолюбьем, ни желаньем прибытков, ни подражаньем другим; он занимался только потому, что был убеждён, что ему нужно быть здесь, а не на другом месте, что для этого дана ему жизнь. Следить, разобрать по частям, и, поймавши все нити запутаннейшего дела, разъяснить его – это было его дело. И труды, и старания, и бессонные ночи вознаграждались ему изобильно, если дело наконец начинало перед ним объясняться, сокровенные причины обнаруживаться, и он чувствовал, что может передать его всё в немногих словах, отчётливо и ясно, так что всякому будет очевидно и понятно. Можно сказать, что не столько радовался ученик, когда пред ним раскрывалась какая-<нибудь> труднейшая фраза и обнаруживается настоящий смысл мысли великого писателя, как радовался он, когда пред ним распутывалось запутаннейшее дело. За то и был он особенно ценим и обласкан князем, да и товарищи, служившие здесь же при канцелярии, ничуть не завидовали ему, что вполне могло бы иметь место, будь это другой, не столь самоотверженный и искушённый в своём деле человек, напротив, они любили его, отдавая должное его талантам и признавая его первенство перед собою, пророчили ему большое будущее.
Князь, прогнав задумчивость с чела, обратился на вошедшего молодого чиновника.
– Что там у вас, милейший? Есть какие-либо новости в отношении того дела? – проговорил он, кивая на портфель, который молодой чиновник держал под мышкой, и особо выделяя голосом слово «того».
– Так точно, ваше сиятельство, – отвечал вошедший, – обстоятельства понемногу становятся ясными, и всё сходится к одному человеку, сидящему, точно паук в центре паутины, и подёргивающему за верёвочки, на которых бьются его жертвы.
– Юрисконсульт? – полувопрошая, полуутверждая, произнёс князь.
– Юрисконсульт– подтвердил молодой чиновник.
– Из чего это видно? – вопрошал князь.
– О, ваше сиятельство, к тому уж у меня скопилось предостаточно улик и прямых и косвенных. Вот поглядите сами, – проговорил молодой чиновник, подходя к столу, за которым сидел генерал-губернатор, и подавая ему бумагу, исписанную убористым почерком, – здесь я составил список, в коем отразил поступление новых доносов по этому делу, и время их поступления. Все они, как мы с вами, ваше сиятельство, и полагали, поступают именно в тот самый момент, когда следствие готово вплотную подойти к рассмотрению дел, имеющих касательство до нашего с вами «подопечного». Доносы эти построены все таким образом, что уводят следствие от прямого пути, заставляя думать, будто всё, что было проделано следственною комиссией до поступления нового доноса, является заблуждением и лишено всякого смысла. Таким образом, следствие, точно слепая лошадь, всё время бежит по кругу, вовсе не замечая того. Но помимо этих косвенных улик, есть ещё и улики прямые. Вот они, – продолжал говорить молодой чиновник, извлекая из портфеля целую пачку бумаг и раскладывая их на столе перед князем, – все доносы, дошедшие до следственной комиссии, написаны в основном тремя почерками, что и заставило следственную комиссию предположить наличие трёх источников, из которых они проистекают, но мне удалось установить, что бумаги эти писаны одною и той же рукой и что почерка были поддельными, это явствует из характерного написания отдельных букв, совпадающих с почерком известного вам, ваше сиятельство, лица. Помимо того, несмотря на официальный язык, коим писаны дошедшие до нас доносы, всем им присущи определённые особенности в построении самого текста, и, что самое интересное, по своему стилю они полностью совпадают с теми официальными бумагами, которые небезызвестный вам, ваше сиятельство, господин составляет по долгу службы. Всё это даёт нам основание предположить, что он и есть та скрытая тайная сила, которая движет всею этою машиною поборов и взяток, раскинувшейся по губернии и собирающей поистине гигантские суммы, львиная доля которых попадает в его карманы, – закончил свой доклад молодой чиновник.