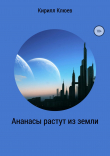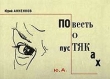Текст книги "Мертвые души. Том 2"
Автор книги: Николай Гоголь
Соавторы: Юрий Авакян
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 27 страниц)
Чичиков, как и все возведя глаза, зашевелил губами, закрестился, умильно улыбаясь толкущимся над его головою мухам, и, умиротворённо вздохнув, заложив за отворот фрака салфетку, принялся за дымящийся «По-то-фе».
На протяжении всего первого блюда не было сказано ни слова. Молчаливые лакеи обнесли всех вином, и гости в ожидании жаркого занялись закусками. Выпив бокал красного вина, Самосвистова повернулась к Павлу Ивановичу всем своим корпусом, так что кресло под нею затрещало и заскрипело волосом и пружинами.
– Ну что, любезный, как там поживает наш Александр Дмитриевич, с чем приехали от него, с добрыми вестями али с худыми? – спросила она и добавила, довольно дружелюбно взглянув на Чичикова. – Рассказывайте.
И Чичиков, приостановясь в еде, стал говорить, вежливо опустивши глаза к столу, с известным уже нам наклоном головы, слегка теребя пальцами фигурную ручку серебряного ножа, лежавшего при его приборе. Временами, когда он рассказывал нечто, что должно было бы особенно понравиться Самосвистовой, Павел Иванович подымал на неё глаза, точно говоря взглядом «Ну, мы-то с вами понимаем, что это хорошо», и поджимал губы в любезной улыбке. Известие о помолвке Ульяны Александровны вызвало оживление в лице, да и во всей фигуре Самосвистовой. Наконец она улыбнулась и, ещё более повернувшись к Чичикову, сказала:
– А вот это хорошо. Давно пора, сколько же времени в девках-то ходить. Тем более что и не бесприданница, и сама не урод. Ну тонка, ну да ничего, кости есть – мясо нарастёт.
– В точности так-с, – подтвердил Чичиков, – давно уж пора.
– А жених, кто таков? – спросила тайная советница.
– Жених – Тентетников Андрей Иванович. Я думаю, ваше превосходительство, изволите знать, – отвечал Чичиков.
– Не знаю, – коротко сказала она, и Павел Иванович подивился схожести манер между нею и генералом Бетрищевым.
Как мог он обрисовал Тентетникова с наиболее выгодной для того стороны, упомянув и об истории, которую тот якобы пишет, о генералах двенадцатого году, и об одобрении этого его занятия со стороны будущего тестя, и о горячих чувствах, питаемых молодыми друг к другу.
– Ну вот что, любезный, – сказала Катерина Филипповна, выпивая ещё один бокал вина, налитого ей услужливым лакеем, – после обеда расскажешь мне все сызнова, а то я не всё упомнила, – и оборотив внимание на оставленных ею гостей, повысила голос и сказала: – Ну, что разгалделись, точно гуси?! Чай, здесь обед, а не ярмонка.
Лёгкий говор, возникший было за столом, тут же смолк, уступив место постукиванию ножей с вилками и позвякиванию посуды. Обед, длившийся ещё часа два, проходил всё в том же молчании, изредка прерываемом замечаниями или окриком Самосвистовой, тут же прерывающей любое поползновение со стороны гостей на то, что казалось ей шумом. И главное, что взял на заметку Павел Иванович, это серьёзные и настороженные выражения в лицах присутствовавших, без всякой попытки сопроводить снисходительной шуткою, как это часто бывает, чудачества старого человека.
Покончив обед непременным и так повсеместно на Руси вошедшим в моду кофием, гости дождались, пока её превосходительство тайная советница не встанет из-за стола, и лишь после того тоже повставали, собираясь перейти в гостиную. Самосвистова, поворотив к Чичикову свой тяжёлый корпус, сказала: «А ты, любезнейший, от меня не отходи,» – и даже не глядя на него поплыла в гостиную залу первой. Чичиков, согнувшись в благоговейном почтении, последовал за ней какою-то странной, с выбрасыванием вперёд стопы иноходью, слегка подскакивая при каждом шаге и чувствуя, как у него от этой, невесть откуда взявшейся походки, трясутся щёки и прыгает кок на макушке. Остальные тоже потянулись за Самосвистовой длинною цепочкою, точно цыплята за надутою индейской курицей.
В гостиной зале все снова разбились по кучкам и кружкам, о чём-то вполголоса переговариваясь и исподтишка поглядывая на Самосвистову. А та, усадив рядом с собой Павла Ивановича, вновь стала выспрашивать об уже рассказанных им обстоятельствах. Посреди рассказа Павел Иванович вдруг почувствовал, как у него начинает зудеть и чесаться по телу, то в одном месте возникало поначалу лёгкое щекотание, сменявшееся в скорости зудом, то начинало пощекотывать в другом месте, иногда достаточно деликатном, для того чтобы при всех его почесать. И как ни крепился Павел Иванович, как ни старался, но нет-нет, а зудение превозмогало его силы, и он, стараясь сделать это менее заметным, то тут, то там легонько почёсывал себе тело пальцем. Через какое-то время он вдруг заметил, что и тайная советница тоже как-то чересчур жеманно для её почтенного возраста поводит плечами и краснеет смуглым лицом. В первые минуты Чичиков готов был даже приписать эти происходящие в ней перемены своему собственному обаянию, и даже немного испугался этого, подумавши: «Бог ты мой, да как с ней управиться: велика ведь очень…» Но потом, заметив её поспешные украдкой почёсывания, успокоился, поняв, что это неопасно. Прервав его вновь повторяемый рассказ на полуслове, Самосвистова спросила:
– Скажи, любезный Павел Иванович, а тебя мой Модест, часом, на псарню не водил?
На что Чичиков отвечал, что имел удовольствие посетить псарный двор и полюбоваться чудесной сворой Модеста Николаевича.
– Ах, негодный! – воскликнула она и призвала к себе сына, об чём-то рассуждающего в компании с Кислоедовым.
– Чего изволите, матушка? – подойдя к ней, почтительно вопрошал Самосвистов.
– Послушай, Модест, – начала сухо, поджимая губы, Катерина Филипповна, – сколько раз я тебе говорила, чтобы ты нового человека на псарню не водил? Неужто так трудно уразуметь простое? Неужели не понимаешь ты, что блохи с твоих собак на свежую кровь бросаются, а когда обопьются, то точно пьяные по всем скакать начинают? Вот Павел Иванович: он человек хороший и, надо думать, честный, ибо другого дядюшка Александр Дмитриевич с посылками не пошлёт, но он ведь сейчас блох по всему дому растащит.
Услыхав такое, Чичиков настолько расстроился, что даже и не расслышал, что там бормотал в оправдание удалой молодец Модест Николаевич, в присутствии своей матушки словно теряющий в своей удали. Мысль о том, что он весь усыпан блохами, сосущими из него соки, покрывающими его белую грудь, спину, живот и всё прочее, из чего, собственно, и слагалось его тело, отвратительно зудящими красными прыщами, и что его сейчас начнут сторониться, точно чумного, все те кто узнает об его приключении, настолько омрачила в общем-то неплохое настроение Павла Ивановича, что он поначалу даже не обратил особого внимания на тот пассаж в речи тайной советницы, где она, и словом не обмолвившись об его дружеской услуге его превосходительству генералу Бетрищеву, без особых церемоний определяла его к тому в посыльные; когда же до него дошёл смысл сказанного Самосвистовой – он расстроился ещё больше.
– Что же делать-то мне, Модест Николаевич! – спросил Чичиков, потерявшись.
Он и вправду не знал, как ему теперь поступить. Вскочить и поспешно бежать из гостиной, дабы блохи, сидящие на нём, не покусали прочих гостей, но сей поспешный уход вызвал бы интерес и вопросы со стороны бывших здесь в гостиной господ. Павел Иванович правильно рассудил, что это всё равно, что встать и во всеуслышание заявить: «Господа, не подходите ко мне ближе, чем на два аршина, по мне скачут блохи и могут перескочить на вас». С другой стороны, уйти нужно было обязательно, во-первых, для того, чтобы действительно постараться каким-нибудь манером избавиться от беспокойных насекомых, а во-вторых, Чичиков боялся, что если ему оставаться здесь далее, то сама тайная советница встанет и скажет: «Господа, на Павле Ивановиче блохи, не подходите к нему ближе, чем на два аршина». Так что положение и вправду казалось весьма щекотливым.
– Матушка, полно вам так волноваться, обкурим его можжевеловым дымом и всё. Не в первый-то раз, – совершенно спокойным тоном произнёс Самосвистов так, точно говорил не о Павле Ивановиче, а о постороннем предмете. И, обратившись к Чичикову, сказал. – Пройдите, Павел Иванович, со мной. – И, пропустив его перед собой, пошёл с ним вон из дому.
А Павлу Ивановичу вдруг сделалось так грустно, так тоскливо стало у него на душе – хоть плачь. И кусающиеся блохи, и бесцеремонные слова тайной советницы насчёт того, что был он якобы у генерала на посылках, и постоянная оглядка на Самосвистова, на тот страх и ту робость, что он внушал Чичикову, всё это сплелось в одно, слепилось в тяжёлый ком, который стал давить ему на сердце, не давая вздохнуть.
«Неправда, неправда, – думал Павел Иванович, – я сам напросился ехать с поручением от его превосходительства, неправда… – Он и впрямь готов был разрыдаться от обиды и злости на себя. – Кто же я таков, – думал он, – кто! Колешу по губерниям, строю планы, мню о себе бог знает что, а на самом деле возьмёт какая-нибудь старая дурная баба и мордою-то и об стол, мордою-то и об стол… Да так мне и надо», – мстительно подумал он, и ему захотелось тут же, не мешкая, уехать. Чичикову было теперь безразлично, как посмотрит на это Самосвистов. Злоба, поднявшаяся в нём на себя самого, потопила все другие чувства, бывшие в его сердце, и все его страхи, все его опасения насчёт Самосвистова захлебнулись и заглохли в глубине этой злобы.
– Модест Николаевич, любезнейший, – сказал Чичиков холодно, – не надобно обкуривать меня никаким дымом, да мне это, собственно, и не нужно, а лучше распорядитесь заложить мою коляску. Потому как мне уж самое время уехать.
Самосвалов остановился от неожиданности и, глянув на Чичикова, сказал:
– Полно вам, Павел Иванович. Верно, вы на матушку мою обиделись, так не стоит обращать и внимания. Что ж тут поделаешь, такова она, а вообще-то добрейшей души человек.
– Я не обижался на вашу матушку, Модест Николаевич, – отвечал Чичиков, не сменяя ледяного тону, – токмо хотел бы заметить, что мы с генералом Бетрищевым старинные приятели, можно сказать, обязанные друг дружке жизнями. И ежели я, поехав в ваши края по собственной нужде, предложил его превосходительству свои услуги, это ещё недостаточный повод, чтобы мешать меня с посыльным.
– Ах, вы об этом; а я-то думал, вы из-за блох… – сказал Самосвистов.
– У меня нет и никогда не было никаких блох, милостивый государь, – плохо скрывая раздражение, говорил Чичиков. – Извольте, пожалуйста, приказать заложить мой экипаж. Я приехал к вам с целью оповестить об помолвке, а не для того, чтобы терпеть издевательства. Александру Дмитриевичу будет интересно узнать, каким образом обходятся в этом доме с его преданными друзьями, – краснея, продолжал Чичиков.
Самосвистову совсем не нравилось то, как Павел Иванович говорил с ним, тем более что он не видел тому причины, ну подумаешь, сказала что-то матушка, так она ведь всем всякого говорит, и никто не обижается; или те же блохи… Одним словом, Самосвистов не видел, из-за чего мог так рассердиться Павел Иванович, и в другое время, может быть, и прибегнул со своей стороны к некоторым крутым мерам, с которыми, скажем прямо, знакомы были многие из его приятелей, но две вещи удерживали его. Это, как уже говорено было ранее, благоговейное почитание дядюшки Александра Дмитриевича, с коим Чичиков был, надо полагать, на короткой ноге, и поведение самого Павла Ивановича, столь разительно отличающееся от того, как вели себя с Самосвистовым прочие из его свиты. Он чувствовал, что Павел Иванович не боится его. Неизвестно, смог бы он за себя постоять или нет, но то, что на лице его написана была решимость, обида и твёрдость, порождённые, чего, конечно же, не знал Самосвистов, злобою и презрением к себе самому, удерживало Модеста Николаевича, почувствовавшего в душе своей некоторое уважение и симпатию к Павлу Ивановичу.
– Душа моя, Павел Иванович, – сказал он примирительно, – я понимаю, вы в обиде, но разрешите вас заверить, что в лице моём вы имеете самого искреннего друга, уже успевшего вас полюбить. Вот вам моя в том рука, – сказал он, протягивая Чичикову крепкую сухую ладонь, которую Чичиков пожал, немного отходя ото льда в лице. – И не уезжайте, Павел Иванович! Матушка через часа два отправятся почивать, и мы славно проведём время, – говорил он, заглядывая Чичикову в глаза.
– Мне и вправду надо ехать, – сказал Чичиков уже иным, более мягким тоном. – Я обещал соседу вашему господину Вишнепокромову быть у него сегодня ввечеру во что бы то ни стало. А слово своё я привык держать.
– К Варвару Николаевичу? – спросил Самосвистов. – Так это же очень хорошо. Поезжайте, и мы за вами следом поедем. Передайте ему, чтобы пуншу варил побольше да готовил столы к игре. Я намерен ему сегодня дать сражение, – с усмешкой говорил он.
И они простились, чтобы через некоторое время встретиться вновь в гостях у Варвара Николаевича.
До Чёрного, бывшего имением Вишнепокромова, было не то чтобы далеко, но и нельзя сказать, что находилось оно рядом. Солнце, давно уже перевалившее за дневную черту, шло всё ниже и ниже к горизонту. Уже стали на небесах появляться тучки да облачка, как бы напитанные розовым солнечным светом, а небо понизу, обрезанное чёрной зубчатой каймою лесов, было изжелта-красным, постепенно меняющимся к вышине и над самою головою, становящимся, густо синего цвету, сквозь который пока ещё несмело, но проклёвывались уже мигающими огоньками первые звёздочки. Месяц нежный и пока еле видимый, тоже уж проступал на синеве, так, что казалось точно кто-то огромный, кем был создан этот чудесный пейзаж, махнул легонько кисточкою, обмоченною в белила, и вывел его сияющую белизной закорючку.
Но Павел Иванович, мучившийся изжогою после не совсем удачного жаркого, что подавалось у Самосвистова ко второму блюду, не глядел по сторонам, мечтая побыстрее добраться до Варвара Николаевича и выпить стакан парного молока, дабы заглушить жжение в груди. Он велел Селифану погонять, а сам, привалясь к стенке коляски, закрыл глаза и принялся думать о разном, с тем, чтобы отвлечь себя от изжоги. Но и изжога, и перенесённая только что обида, и злость, правда, уже притихшая в нём, навели его вновь на те мысли, что, став зятем генерала Бетрищева, он не только получит в свои руки то богатство, к которому так стремится душа его, но приобретёт и весу, и уважения в обществе, и никто уже не посмеет говорить об нём, точно об постороннем предмете, предлагая обкуривать дымом, словно обитателя чумного барака. И желание спровадить мешающего ему Тентетникова, приноровив к этому делу Варвара Николаевича, загорелось в нём с новою силою.
Вскоре далеко за деревьями замелькали огоньки. Селифан наддал лошадям, и те, побежав резвее, через каких-нибудь пять минут въехали в Чёрное и, прокатив по широкой улице села, подъехали к господскому дому. Дом этот был об одном этаже с деревянными стенами и деревянным портиком, поддерживаемым деревянными же колоннами с лупящейся на них белой краскою, но дом Павлу Ивановичу понравился, как понравилось и село, через которое он только что проехал. И глядя на засветившиеся в сгущающихся сумерках окошки, слушая ленивое перебрехивание собак во дворах, он почувствовал, как нисходит на него непонятный покой, точно на человека, вернувшегося под родимый кров из дальнего и тяжёлого путешествия.
На стук подъезжающего экипажа вышел на крыльцо сам хозяин в распахнутом, наброшенном на плечи халате и с длинным черешневым чубуком в руке. Узнавши коляску Платоновых, он, улыбаясь, пошёл к ней, ступая по траве мягкими кавказскими сапогами, но, увидя одного только Павла Ивановича, сделал удивление в лице.
– А где же Платоша? – спросил он у Чичикова, заглядывая внутрь коляски, так, будто Платон мог прятаться в ней шутки ради либо по какой другой причине.
Чичиков рассказал об утреннем необъяснимом капризе Платона Михайловича, на что Вишнепокромов, немало удивясь, посокрушался, а потом, махнув рукою, сказал:
– Ну и ладно. Бог с ним. Не поехал – и не надо. Со странностями, надо сказать, молодой человек, хоть я и люблю его, – и, отдав распоряжение об лошадях и людях Павла Ивановича, повёл того в дом.
Дом этот был из разряда тех деревенских домов, которые покоряют своим уютом, заключающимся и в старых половицах, и деревянных стенах, обклеенных обоями, и в таинственных шорохах за печкою и в подвале, и каким-то своим, только таким домам присущим запахом, который успокаивает расстроенные нервы и в котором так сладко спится на постели, хрустящей пахнущим свежестью бельём. По стенам дома располагались ковры с развешанными по ним пистолетами, саблями и кинжалами в гравированных серебряных ножнах. Остающиеся свободными от ковров стены украшали взятые в рамочки изображения лошадей и собак, на подоконниках стояли горшки с цветущими геранями, висела над овальным орехового дерева столом люстра, убранная хрустальными сосульками, и горели свечи в стоящих на столе подсвечниках. Так что ежели бы не пистолеты да сабли, то можно было подумать, будто здесь живёт не отставной полковник-брандер, а маленькая кутающаяся в шаль старушка в чепце, чья жизнь, вся без остатка, посвящена варениям, соусам, солениям да маринадам, которые в аккуратных надписанных горшочках толпятся на полках где-нибудь в кладовой.
– Ну садись, батюшка Павел Иванович, – сказал Вишнепокромов, сам подвигая ему кресло, – чай, устал, голоден? – спросил он заботливо заглядывая ему в лицо.
– Нет, спасибо, – ответил ему Чичиков, рассказывая о своём посещении Самосвистова и об обеде у него, правда, ни словом не обмолвившись об имевшем там место казусном происшествии с блохами, которые, к слову сказать, точно исчезли дорогой: может быть, испугавшись быть увезёнными далеко от дому, они пососкакивали с Павла Ивановича и отправились восвояси, а может просто затаились для будущих безобразий.
– Но вот молочка бы я попил, – сказал Павел Иванович, сославшись на мучившую его изжогу.
– Ну разве можно у них есть, – усмехаясь, проговорил Варвар Николаевич, – ведь сама Самосвистова никакой другой кухни, акромя французской, не признает, у неё и повар – «хфранцуз» – Прохор. Вот он тебе и наготовил, – смеясь, заключил он.
Попив молока и немного поправившись, Павел Иванович сообщил Вишнепокромову, что к нему в гости собирается Самосвистов со всею своею оравою, что вовсе не смутило Варвара Николаевича, напротив, он выказал удовлетворение сим фактом и, прихлопнув в ладоши, проговорил:
– Вот и хорошо, уж сегодня я как пить дать обыграю этого шалопая, – конечно же, имея в виду Самосвистова. Он распорядился и насчёт вина, и насчёт закусок и лишь потом снова подсел к Чичикову. Павел Иванович, которого так и подмывало поскорее завести разговор об известном уже нам предмете, тем не менее тянул, не зная, как к нему подступиться, к тому же опасаясь, как бы на самой середине разговора не нагрянул бы Самосвистов со своею ватагою. Но вышло так, что Варвар Николаевич сам навёл его на этот разговор.
– Ну что, как там ваше поручение от его превосходительства? Самосвистова, надо думать, осталась довольна известием? – спросил он, надменно кривя губы в улыбке и сам же себе ответил: – Ну ещё бы, такая драгоценная особа досталась в женихи Ульяне Александровне – Тентетников!
На что Чичиков молча развёл руками – мол, что я-то могу поделать.
– Нет, сурьёзно, – продолжал Вишнепокромов, раздувая усы, – вот кому-кому, а ему никогда не прощу. Ещё придёт моё время, Павел Иванович, я ещё отыграюсь, – сказал он, сверкая глазами, и видно было, что он не на шутку гневается.
«Ну ладно, была не была, – подумал Чичиков, – надо попробовать», – а вслух произнёс:
– А вот если сурьёзно, дорогой мой Варвар Николаевич, то послушайте меня, и может статься, что мы друг дружке очень даже будем полезны.
И он принялся рассказывать Вишнепокромову душещипательную историю о тайной и роковой любви, якобы питаемой им к Улиньке, и о некоем чувстве, будто бы имевшем место с её стороны, и о горе, его постигшем, когда вдруг откуда-то нежданно-негаданно появился Тентетников, сумевший втереться в доверие к его превосходительству генералу Бетрищеву, посредством якобы пишущейся им истории о генералах двенадцатого году, обольстившем, ослепившем генерала посулами вывести его фигуру чуть ли не величиной с Бонапарта, и Бонапарту же противостоящею, растрогавшем и переманившем на свою сторону старика и вырвавшем таким вот бесчестным образом генералово благословение этому браку.
– Но позвольте же, батюшка, – недоуменно пожал плечами Вишнепокромов, – а что же Ульяна Александровна, она ведь могла и отказаться?
– О, вы не знаете этой женщины, – проговорил Чичиков, возводя очи к потолку в мечтательной улыбке, – вы не знаете этой женщины, Варвар Николаевич. Она ни в чём не может пойти супротив воли отца. Давеча в саду, плача у меня на груди, она вымаливала у меня прощение, а я… в чём я мог её обвинить? В том, что наглый змей заполз в сердце её батюшки, обольстил его дом и разрушил наше счастье? – При этих словах Павел Иванович пустил обильную слезу и, высморкавшись уже известным нам манером, точно оркестровая труба, продолжал.
Правда, оглушённый Вишнепокромов не разобрал первых трёх слов.
– …Так что, любезный мой Варвар Николаевич, – Вишнепокромов услышал только «мой Варвар Николаевич», – как видите, у меня не меньше вашего, если не больше, оснований ненавидеть этого молодого человека, можно сказать, погубившего всю мою будущность, но что я могу поделать, в чём мне найти выход? – сказал Чичиков, горестно роняя голову на руки.
– Как это в чём, батенька вы мой, как это в чём, – горячился Вишнепокромов, – да его в куски надо изрубить, на дуэль надобно вызвать.
– Не могу, не имею права. Как меня поймёт в таком случае его превосходительство, ведь ни я, ни Ульяна Александровна не успели даже и намекнуть ему о нашем чувстве. Так полно было наше счастье, что мы об этом и не подумали вовремя. А нынче поздно, поздно. Они уже помолвлены, – тут Павел Иванович и вправду зарыдал, тряся плечами.
Вишнепокромов, пододвинувши свой стул к нему поближе, принялся гладить его по спине, приговаривая: «Полно, полно, голубчик, успокойся, хочешь стаканчик вина?» – на что Чичиков отрицательно замотал головой, высморкнувшись ещё раз, отчего Вишнепокромов поморщился.
– Вот подлец, – оказал он, глядя невидящим взглядом в стену и непонятно кому адресовывая это замечание, Тентетникову или же Павлу Ивановичу, оглушающему его своими упражнениями с носовым платком.
– Вы не знаете ещё, каков этот подлец, – проговорил Чичиков, поднимая на Вишнепокромова полные слёз глаза. – Вы не знаете, Варвар Николаевич, что этот негодяй совершил. – И он выложил Вишнепокромову всё, что знал об участии Тентетникова в тайном обществе. Покончив говорить, Чичиков глянул на Варвара Николаевича и поразился странному выражению в его лице, в котором мешались мёд со мстительной улыбкой.
– Так вот же он выход, – медленно процедил Вишнепокромов, – что же вы убиваетесь, батенька мой, доведите до начальства, и Ульяна Александровна снова ваша. Экой вы неразумный, – сказал он, щуря глаза.
– Кто поверит мне, ведь я здесь человек новый. И потом, если Улинька узнает, что я таковым способом… нет, так я её навсегда потеряю. Хотя, конечно же, если довести до Леницына, у которого к господину Тентетникову своя претензия… Тот, оказывается, оскорбил нашего будущего губернатора, будучи у него в подчинении. Фёдор Фёдорович мне самолично об этом сказывал, – проговорил Чичиков, строя задумчивую мину со следами не покинувшего ещё её страдания.
– Ну хотите – я! Коли вы, Павел Иванович, столь щепетильны, – предложил ему Вишнепокромов услугу, которой Чичиков так от него добивался. – Я даже почту это своим святым долгом, – распаляясь, говорил Вишнепокромов, – мало тебе, что ты, скотина, людям пакостишь, – говорил он, подразумевая Тентетникова, – так ты ещё и на отечество, тебя взрастившее, руку подымаешь. Ах, скотина! Какая же скотина! – вскричал он наконец.
Итак, сговор был совершён, оба наши злодея были совершенно им довольны. Вишнепокромов нашёл-таки повод поквитаться с Тентетниковым, отплатив за понесённое от того оскорбление, а Чичиков убирая несчастного и не ведающего о сгущающейся над ним беде Андрея Ивановича, мог, заручившись расположением Александра Дмитриевича, свататься к богатому приданому. И странно, что такой тёмный и зловещий умысел созрел в таких уютных стенах, в комнатках с цветущею на подоконниках геранью. Хотя ему более пристало родиться в сыром подземелье, в затхлой пещере, в склепе колдуна, варящего приворотное зелье. Но то зелье, которое принялся варить Чичиков, чтобы приворожить Улиньку, было во сто крат горше колдовского, ибо по-живому должно было разрезать молодые любящие сердца, погубить две молодые, тянущиеся друг к другу жизни. А злодеи, сидящие в уютных комнатках? Что им до того? Злодеи, живущие рядом с нами и дышащие тем же воздухом, им тоже улыбается божий мир, и они тоже видят и цветы и солнце. Так, может быть, всё дело в том, что злодеи искренне верят в то, что поступают хорошо? Видно, так. Но тогда, значит, они не верят в бога. И тяжела ноша их, тяжёл удел, всё обернётся к ним темнотой, и рухнет любое из возводимых ими зданий, да простят нам читатели невольное назидание, но странно, как в милых и уютных комнатках с цветущей на окнах геранью родятся такие замыслы.
Но мы отвлеклись, читатель, и за глупыми разговорами, и так хорошо известными тебе общими местами подобных рассуждений не заметили, как подкатили к дому Варвара Николаевича коляски и дрожки, полные народу, как ввалилась в комнату, где ещё совсем недавно сморкался и плакал наш герой, толпа его недавних знакомцев, предводительствуемая Самосвистовым. И как пошли обычные в таких случаях словечки да поцелуи. Самосвистов, обняв Павла Ивановича, расцеловался с ним и потом весь вечер уже не отходил от него, видимо, почитая себя ещё виноватым перед Чичиковым.
Столы для игры были готовы, пунш сварен, закуски расставлены, иными словами, всё было готово к весёлому времяпрепровождению, и гости, как в таких случаях говорится, не заставили себя ждать. Свежие колоды были разобраны, стаканы наполнены, и пошла игра о пяти столах, и Павел Иванович, хотя и не был завзятым игроком и нельзя сказать, что игру любил, но сегодня и играл, и пил, и закусывал с удовольствием, и на душе у него давно уже не было так хорошо, как сейчас. Он чувствовал, что попал к своим.