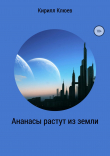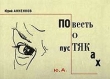Текст книги "Мертвые души. Том 2"
Автор книги: Николай Гоголь
Соавторы: Юрий Авакян
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 27 страниц)
Очнулся Павел Иванович, лёжа на жёстком, обтянутом потёртою кожею диване. Ворот рубахи его был расстёгнут, на голове лежал смоченный холодною водою платок, и, приоткрыв глаза, Чичиков увидел чью-то руку, что совала ему под нос флакон с резко пахнущею нюхательною солью. В первую минуту Павел Иванович даже не понял того, что с ним и отчего лежит он на чужом диване, но тут склонились над ним двое стариков, в которых признал он генерала Бетрищева и Афанасия Васильевича Муразова, и Чичиков сразу припомнил всё бывшее с ним за некоторое время до того, как провалился он в темноту. Тяжёлыми, точно налитыми свинцом руками он прикрыл лицо, и не в силах произнесть ни слова, оставался в таком положении, чувствуя, как голова его бухает и гудит изнутри, точно колокол. Тут в низенькую дверь постучали, и в комнатку вошёл некто, как понял Павел Иванович, – доктор, за которым, вероятно, послали, пока он находился в беспамятстве. Доктор этот был моложав, сухопар, при аккуратной бородке и усиках, в руках его был небольшой саквояж коричневой кожи, в котором, надо думать, и таскал он все необходимые ему порошки и инструменты. Подойдя к Чичикову, он пощупал ему пульс, оттянув веко, заглянул за него и, спросив относительно головы, болит или нет, заявил, что надобно отворять вену и чем раньше, тем лучше. Павел Иванович, испугавшись предстоящей боли, попробовал было протестовать, но и генерал и Муразов, стоявшие подле дивана с растерянными и напуганными лицами, стали уговаривать его, говоря, что с докторами не спорят, докторам виднее, потому как всё это делается для его блага. Тем временем давешняя убиравшая в сенях старуха принесла горячей воды в тазу, и чашку для выпущенной крови, а доктор, намыливши Павлу Ивановичу руку до самого локтя, обмыл её разве что не кипящею водою и, перетянув руку жгутом, принялся за операцию, а бедный Павел Иванович отвернул лицо к стене, дабы не видеть производимой над ним экзекуции, и почувствовал, как после небольшой, похожей на щипок, боли что-то тёплое побежало у него по руке и закапало, стуча об донышко подставленной чашки. Выпустив сколько положено крови, доктор уселся к столу прописывать порошки больному и, написав что-то на листке бумаги, стал втолковывать генералу Бетрищеву, что, когда и по скольку должен Павел Иванович из прописанных им лекарств принимать для того, чтобы поправиться. На вопрос его превосходительства, можно ли забрать его сегодня из города назад в имение и не вредна ли будет ему дорога, доктор ответил, что забрать Павла Ивановича можно, но пусть он ещё полежит с часок.
Сказавши всё, что нужно, и запихнув в карман поданную генералом ассигнацию, доктор удалился. Проводивши его, генерал Бетрищев подошёл к дивану и, глядя на Павла Ивановича виновато-растерянными глазами, спросил:
– Ну, как ты, братец? Получше али нет?
На что Чичиков, чувствуя после кровопускания необыкновенную лёгкость и в голове и во всём теле, ответил, что ничего, что сейчас встанет, и пошевельнулся было, собираясь и впрямь вставать, но генерал перепугался и, придерживая его руками, заставил улечься на прежнее место.
Выходивший из комнатки Афанасий Васильевич воротился, объявив Чичикову, что сейчас напоят его куриным бульоном, который уже был поставлен на плиту беззубою старухою, и что за порошками, прописанными доктором, уже послано, на что Павел Иванович попытался то ли что-то возразить, то ли поблагодарить, но Муразов, жестом остановив невнятную речь Павла Ивановича, сказал:
– Вы уж меня простите, голубчик, за то высказанное подозрение. Я и думать не смел, что оно на вас так подействует, так что вы уж не держите сердца на старика… И по тому делу, кстати: кто бы ни был тот молодой господин, я не имею права осуждать его, ибо он уже поплатился сполна за своё преступление, и я уверен, что нынче он искренне раскаивается, да к тому же я и понять его могу: молодой, деятельный, умный, а жизнь не складывается, что-то в ней не так, и прямою дорогою не дойдёшь до богатства, вот и свернул на кривую. К сожалению, голубчик вы мой, Павел Иванович, в нашем отечестве мало их – прямых дорог, всё больше кривые. И мне, старику, приходится ими пользоваться, к сожалению, таков порядок вещей, коли уж принялся делами заниматься, то от этого не уйдёшь, – говорил Муразов, – но у меня правило – чужого не брать, а своё отдавать. Ведь иначе дела не сдвинешь, а дело-то огромное, и от него польза не мне одному, вот и приходится платить за то одно, чтобы только делу бы помех не строили… К чему это я всё говорю: вот ежели бы тот молодой господин, сумевший изобресть подобную хитрость, ежели бы он силы ума своего направил бы на истинно полезное, не для него одного только дело, сколько выгоды мог бы он принесть, сколько добра сделать. Что скажете, Павел Иванович? – спросил он у Чичикова, так, будто бы из простого любопытства стремясь узнать его мнение. Но Павел Иванович и в этот раз не ответил ничего, он снова закрыл лицо руками и тихонько, почти без звука, заплакал. Муразов, постоявши с минуту у дивана, на котором лежал попискивающий в притиснутые к лицу ладони Чичиков, успокаивающе потрепал его легонько по плечу и сказал:
– Полно вам, голубчик, убиваться. Не стоит вся эта история того. Вы пока полежите, а я до генерал-губернатора съезжу, поговорю с ним об вас. Обещаю вам это дело уладить, так что даже и не сомневайтесь.
И с этими словами Муразов вышел из комнаты, оставив Чичикова с его превосходительством вдвоём дожидаться. Во время его отсутствия Павел Иванович, можно сказать, совсем приободрился; слова, сказанные Афанасием Васильевичем, успокоили его, к тому же он похлебал горячего куриного бульону, сваренного прислуживающей в доме старухой, и укрепился не только душою, но и телом. В разговоре с его превосходительством они не касались этой темы, но Чичиков, решивши всё поставить по своим местам, сказал Александру Дмитриевичу, что он и есть тот самый молодой господин, об котором упоминал Муразов, на что генерал ответил, что эта история давняя и он видит искреннее раскаяние Павла Ивановича, видит истинную душу его, творящую добро для ближних, и что тому за примерами далеко ходить не надо, достаточно оборотиться на Улиньку и Андрея Ивановича, чтобы понять, кто таков Павел Иванович и каково у него сердце. При этих словах его превосходительства Чичиков даже прослезился, и генерал, растрогавшись, прослезился тоже. Часа через два воротился Муразов, и по его спокойному улыбающемуся лицу Чичиков с его превосходительством поняли что гроза, кажись, миновала. Афанасий Васильевич коротко описал им бывший у него с князем разговор и то, как генерал-губернатор поначалу и слышать не хотел про Чичикова, но потом, когда Муразов рассказал об том бедственном положении, в котором находился в это время Павел Иванович, князь немного смягчился, согласившись с Афанасием Васильевичем, что Чичиков и так уже изрядно пострадал и что за один проступок дважды не казнят.
– Правда, очень сердился на вас, Павел Иванович, за то, что молили его малыми детками, которых, как он выяснил, у вас и в помине нет. Но я ему на это сказал, что притеснённый в угол человек хватается за любую возможность, как утопающий за соломинку, так что на это сердиться не стоит, а надо отнестись с пониманием, – сказал Муразов, – одним словом, нового разбирательства над вами учинено не будет, но в городе он вам оставаться запретил. Сказал, что хотя бы как-то, но надобно вас наказать, и чтобы до окончания конной ярмонки вас в городе не было, ну да два с половиною месяца, я думаю, быстро пролетят…
– Как это, по какому это закону? – возмутясь, вступил в разговор его превосходительство. – А ежели человеку надобно в город по делам, это что же выходит, попрание в правах… – кипятился он, ухватившись за ещё одну возможность нелестно высказаться об прежнем своём сотоварище. – Нет, прошу прощения, господа, но это попросту самодур, – не унимался он.
Павел Иванович был смущён и немного напуган этим заявлением генерала, точно боялся, что князь мог бы как-нибудь услышать эти слова и изменить своё решение – не назначать над ним расследования, но Муразов несколько охладил обличительный пыл Александра Дмитриевича, сказавши, что по делам Павлу Ивановичу, само собой, никто не запретит появляться в Тьфуславле, а речь нынче идёт о том, что ему не позволено только лишь селиться в городе. Генерал несколько поутих, но всё равно ещё несколько раз помянул князя «самодуром».
Павел Иванович принялся было рассыпаться в самой что ни на есть горячей благодарности, но Муразов остановил его, сказавши, что это лишнее и что лучше бы Павел Иванович рассказал ему, чем он предполагает заняться в их губернии, и Чичиков ответил, что хотел бы заделаться помещиком, что первый шаг к этому им уже предпринят и что по совету господина Костанжогло приобрёл он недорогое имение у Хлобуева Семёна Семёновича, и хотя имение и расстроенное, но он приложит все свои силы и всё своё старание к тому, чтобы наладить его. Услыхавши имена названных им господ, Афанасий Васильевич с большой похвалою отозвался об Костанжогло, сказавши, что за такими, как он, людьми будущее, а про Хлобуева, качнувши головою, сказал:
– Жаль его, ведь чистая душа.
При этих его словах Чичикову стало немного не по себе, он вспомнил об том, что так по сию пору и не рассчитался с Хлобуевым, и решил завтра же ехать к нему с тем, чтобы отдать деньги. На этом они и распрощались с Афанасием Васильевичем и, усевшись в генеральскую карету, отправились к тому в имение.
В дороге Павлу Ивановичу сделалось совсем хорошо и весело на сердце, что, надо думать, было отчасти и результатом кровопускания. Чичиков уже представлял, как это случившееся с ним происшествие можно будет точно ненароком ввернуть в разговор – эдак многозначительно: мол, вот, доведён был врагами до такого плачевного положения, что и до кровопускания дошло, а иначе была угроза самоей жизни. Чувствуя приятную расслабленность во всём теле, он, полулёжа на подушках кареты, с удовольствием глядел в окно на бегущие мимо пейзажи, на голубой небесный свод, в котором грудились сияющие на солнце яркою белизною облака, напоминавшие Павлу Ивановичу о взбитых сливках. Он почувствовал, что проголодался, ибо чашки бульона, выхлебанного им после кровопускания, было явно недостаточно ему, любившему основательно и вкусно поесть. Но генерал Бетрищев, как нарочно, заместо того чтобы ехать прямо в имение, вздумал вдруг поворотить к монастырю, стоявшему по ту сторону реки, в чьих прозрачных водах отражались и синева неба, и белые зубчатые стены монастыря, и его башни, укрытые шатровыми тёсаными крышами.
– Надо бы проведать нашего старичка архимандрита, а то ведь когда ещё выберусь, – сказал его превосходительство, глядя на Чичикова, и карета пророкотала по брёвнам перекинутого через реку моста и въехала в монастырские ворота на посыпанные красным толчёным кирпичом монастырские дорожки. Тут за стенами монастыря стояла некая особенная тишина, нарушаемая лишь пением птиц да шелестом многочисленных дерев, вздымающих повсюду свои кудрявые верхушки, меж которыми горели на солнце золотоглавые купола монастырской церкви, вдоль дорожек раскинуты были клумбы, в изобилии поросшие самыми различными цветами, над которыми, вздрагивая крылышками, носились бабочки, ничем не нарушающие стоящей здесь тишины, которую приличнее было бы назвать покоем. И даже карета, только что столь громогласно грохотавшая по брёвнам моста, точно бы устыдилась издаваемого ею шума и пошла тише, едва слышно поскрипывая и шурша колёсами по толчёному кирпичу дорожек, так что даже внутри кареты было слышно, как лошади со свистом обмахивали себя хвостами, прогоняя липнущих до них слепней и мух, что звенели в тёплом летнем воздухе, вплетая своё звонкое жужжанье в покойные узоры тишины.
Его превосходительство велел остановиться у входа в монастырскую церковь и, пройдя под её своды в сопровождении Чичикова, поставил свечи перед иконами Спасителя, Божией матери и Николая угодника, чья икона почиталась здесь чудотворною, а затем, переговорив с бывшим в церкви дьяконом, заказал заупокойный молебен по столь давно отошедшей в иной лучший мир супруге. Павел Иванович тоже поставил свечечку и, глядя в глаза Спасителю, стал шептать слова молитвы. Прочитав «Отче наш», он стал благодарить бога за то, что гроза, вот-вот готовая было разразиться над его бедною головою, пронеслась мимо и он отделался одним лишь припадком, о котором осталось воспоминание в виде небольшой красной точки возле локтя. Но, шепча эти слова благодарности, он ощутил в груди некое чувство, схожее с тоскою, тоска эта точно засела где-то подле сердца, и у Чичикова вдруг что-то стало холодеть и теснить под ложечкой. Он снова глянул в глаза Спасителя, смотрящие на него с покоящейся под стеклом доски, и ему показалось, что глаза эти глядят на него с поразительным и обидным для Чичикова равнодушием, а тут ещё и свечка вдруг затрещала, брызнула расплавленным воском и погасла, выпустив напоследок синий дымок, тонкой струйкою поплывший куда-то вверх под высокие своды церкви, и Павел Иванович совсем расстроился, более того он даже испугался такого простого и весьма обычного случая, мало ли отчего проистекающего: то ли фитилёк свечечки был с узелком, то ли в воск попала водица; но Чичиков стал вдруг мелко и часто креститься и оглядываясь с опаскою, пошёл за генералом Бетрищевым, уже обо всем успевшим переговорить с дьяконом и собиравшимся идти вон из церкви.
Не садясь в карету, они прошли монастырским садом к домику, в котором жил архимандрит, в коем и помещались его службы, и стоявшему несколько поодаль от остальных вытянутых вдоль монастырских стен зданий. Домик этот, сложенный из белого камня, был высотою в один этаж с узкими оконцами, вкруг которых располагался точёный в белом камне узор, как бы оплетающий оконные проёмы. Такой же узор украшал и полукруглый дверной проём, в котором помещалась полукруглая же дубовая дверь с бронзовыми, лоснящимися от прикосновения многих рук рукоятками. Генерал Бетрищев позвонил в висящий у двери колокольчик, и через минуту толстые дверные створки распахнулись, и Александр Дмитриевич испросил у улыбающегося служки разрешения повидать архимандрита. Служка впустил их вовнутрь, а сам отправился с докладом. В приёмном покое, куда они попали с жаркого двора, было прохладно, по стенам висело несколько убранных в золото и серебро икон, освещаемых лампадками, и вкусно и покойно пахло ладаном и горящим свечным воском. По прошествии небольшого времени давешний служка появился вновь и объявил, что владыка ждёт наших героев, и, провожаемые служкою, они прошли коротким коридором в покои архимандрита. Войдя в покои, Чичиков ожидал было увидеть обилие золотых окладов, блещущих по стенам и укрывающих драгоценные иконы, ковровые дорожки на полу, серебряные светильники по стенам, но помимо его ожидания ничего этого в большой комнате, куда провёл их служка, не было. А был здесь длинный стол, покрытый синим сукном, на котором лежали во множестве древние книги и рукописи, и где на остающемся от них пятачке стола помещалась чернильница, рядом с которою стоял серебряный стакан с несколькими белого цвету очинёнными перьями, лежали стопка чистой и стопка исписанной бумаги. У противоположной стены стояла Голгофа с горящею при ней лампадою и висело несколько простых икон с изображением Божьей матери, святых угодников и Святой Троицы. Несколько поодаль от стола помещался деревянный трон, перед которым полукругом стояло пять или шесть стульев и больше ничего, если не считать свисающей с потолка люстры того пошиба, что можно встретить во многих купеческих или мещанских домах.
Служка просил их подождать, а сам скрылся за маленькою боковою дверцею, окованной узкими медными полосками. Павел Иванович с его превосходительством прождали ещё с минуты три, а затем боковая окованная дверца растворилась, и в комнату вошёл маленький старичок в простой чёрной рясе, тот самый, кому кланялся как-то на постоялом дворе в ноги Павел Иванович и перед кем лил слёзы. Увидевши его, Чичиков поначалу оробел, а затем подумал, что это как раз и очень хорошо, дай только бог, чтобы старичок припомнил его, и это тоже можно будет оборотить себе на пользу, завоевав больше симпатий со стороны генерала Бетрищева, чьё хорошее к Павлу Ивановичу отношение могло и немного пошатнуться ввиду последних имевших быть событий. И старичок, на счастье Павла Ивановича, вспомнил его. Когда подошли они с генералом к руке святого отца, тот перекрестил их и, ответив, как приличествовало сану, на приветствия, глянул на Чичикова и спросил:
– Ну, что, деточка, помогло тебе моё благословение?
И Чичиков, перехватив удивлённый взгляд его превосходительства, склонивши голову, точно для покаяния, отвечал, что только благодаря ему и имеет он сейчас возможность лицезреть его святейшество, а не то быть ему уже в могиле, и что был он не далее, как сегодня утром, в смертельной опасности, чему свидетелем был и его превосходительство генерал Бетрищев.
Не переставая удивляться тому, откуда могло проистекать знакомство Чичикова с архимандритом, генерал подтвердил слова Павла Ивановича, сказавши, что имевший место случай произошёл в присутствии и Афанасия Васильевича Муразова, который также очень перепугался за Павла Ивановича, и что, может быть, только благодаря доктору и не случилось с Павлом Ивановичем неприятностей.
Старичок пригласил их жестом садиться на стоящие полукругом стулья и сам уселся на старом отполированном временем троне.
– Неприятно, конечно, – сказал архимандрит, переводя взгляд с его превосходительства на Чичикова, – но я, кажется, говорил тебе, деточка, что ничто не случается против воли Отца нашего небесного. И все болезни от Него, и исцеление также от Него. – а потом, немного помолчав и снова обратясь к Чичикову, спросил: – А ты боишься смерти, деточка?
На что Павел Иванович пожал плечами и несколько растерялся с ответом.
– Кто же её не боится, батюшка? – сказал вместо Чичикова генерал. – Я вон сколько раз в глаза, можно сказать, ей глядел, а и то… – что именно «то», генерал не договорил, но и без того было понятно, что он имеет в виду.
– Это от неверия вашего проистекает, – сказал старичок архимандрит, – значит, не можете поверить вы, что душа ваша божественной природы, а верите телу, которое уже и при рождении было наполовину мертво своею дебелостью, и эта дебелость плоти мертвит и саму душу вашу, застит ей взор, не даёт узреть бога воочию. Но как мертвецы по общему свойству мертвецов не чувствуют своей омертвелости, так и мы не чувствуем того, что мы уже убиты. Убиты в момент грехопадения, до которого, подобно ангелам небесным, были бессмертны, а затем вступили в один разряд с животными и с тех пор рождаемся, уже убитые вечною смертию. И в мёртвые тела наши заключены мёртвые души наши, которым открыт один лишь путь, коим могут они вырваться из храмины тела своего, служащего для души темницею и гробом. Это путь покаяния, очищения себя покаянием и тогда, может быть, кончится для человека отчуждение его от бога, – говорил старичок тихим голосом.
Слушая архимандрита, Чичиков поймал себя на том, что всё сказанное им очень просто, и ему сейчас казалось, будто эти мысли не раз и не два уже приходили и ему в голову и даже, более того, будто он и сам так мыслил себе сей предмет постоянно, а архимандрит только лишь повторил уже не раз передуманное Павлом Ивановичем, поэтому-то он и был полностью согласен сейчас со старичком, и даже более того: видя в архимандрите единомышленника, почувствовал вдруг гордость за себя, подумавши при этом, что надо же, и он, без этих монастырских стен, без постоянных молитв и ночных бдений, тоже не лыком шит, и ему доступны великие и простые мысли, и, благодарение богу, наделён он великою силою ума и великою душою, и так поверил в то, что сам себе тут напридумывал об своей избранности, так умилился этой своей глупой грёзе, что даже прослезился от какого-то вспыхнувшего в груди ликующего чувства.
Пока Павел Иванович предавался восторгам по поводу своей исключительной угодности богу, его превосходительство генерал Бетрищев завёл с архимандритом иной, имеющий более мирской характер разговор, и разговор этот, конечно же, касался самого главного нынче для его превосходительства предмета – замужества его любимицы Улиньки, долженствующего быть осенью. Услышавши об предстоящей свадьбе, старичок архимандрит улыбнулся, посетовав на то, как быстро летит время, что, казалось бы, совсем недавно ещё крестил Улиньку, а она уже невеста.
– Да, со стариками всегда так, – сказал он, – кажется, что только вчера было, а оглянешься – жизнь прошла.
Он поддержал желание его превосходительства – чтобы венчание было в монастырской церкви, сказавши лишь, чтобы, когда определится со сроком свадьбы, дали бы знать загодя.
– Жив буду к осени, сам обвенчаю, – сказал он с улыбкою и благословив своих посетителей, перекрестил их, отпустив со словами:
– Идите, дети мои, и радуйтесь, что несёте в сердце своём бесценнейший дар православия. Идите и будьте достойны истинной веры, заповеданной нам святыми отцами церкви нашей.
И Чичиков с его превосходительством, приложившись на прощание к сухонькой руке архимандрита, пошли на улицу и Павел Иванович, испытывая уже изрядные муки голода, был рад тому, что они, наконец, уселись и карету и отправились в имение генерала Бетрищева, тем более что время было самое что ни на есть обеденное.
И снова дорога, и опять катит по ней мой герой, подставляя довольное лицо солнцу, жмуря глаза от его ярких льющихся сверху лучей. Кто ты таков и откуда ты, Павел Иванович? Ведь не может того быть, чтобы я выдумал тебя всего без остатка от начала до конца, не может быть, чтобы не существовало тебя вовсе, коли вижу я твоё жмурящееся под солнцем лицо, слышу скрипы плохо смазанной оси в генеральской карете. Откуда ты приходишь ко мне, стучишься в сердце моё, заставляя руку вновь и вновь тянуться к перу, выводя бегущие строчки, за которыми порою не поспевает и мысль моя. И я, точно писарь, которому диктует в ухо некто сидящий у него за спиною, заношу вспыхивающие в моей голове слова на чистые листы бумаги, по которым разбросана чужая и неведомая мне жизнь, так туго переплетённая с моею, что я уже и не мыслю для себя иного существования. Кто ты? Может быть, обречённый на бессмертие мелкий и каверзный бес, от невыносимой скуки своего бесконечного существования забавляющийся со мною тем, что строишь рожи и показываешь картинки; перетряхивая перед моим взором кукольные лица, позвякивая, точно медяками, мёртвыми душами, коими набиты твои тёмные и пыльные карманы. Почему ты выбрал именно меня и для чего тебе надобно это? Что хочешь ты рассказать мне, к чему вся эта игра, которую почитаю я за игру воображения. И те, вышедшие из-под моего пера персонажи – чем вдохновлено их появление, божественным ли откровением, коим, как принято думать, создаются поэмы, или же наваждением мелкого беса, шныряющего вокруг меня? Что хочешь ты показать – что люди дурны? Но это и без того известно, да и дурны они твоими неустанными об них заботами, но они бывают также и хороши, и это вопреки твоим над ними проделкам, и ты, скачущий на своих козьих копытах от дома к дому, подглядывающий в окна вороватым своим зрачком, знаешь об том лучше, нежели я. Но хочется, хочется тебе напакостить людям. Того потянешь за нос, и он у него вытянется и превратится в некое подобие стручка, этому подставишь ножку, и он вдруг, казалось бы ни с того ни с сего, засеменит, засеменит на мостовой да и стукнется головою о камни, испустивши дух, а иного – и того хуже – обженишь на ведьме, от которой ему житья нет, и он, натерпевшись от неё всякого, становится злее самого черта, то бишь тебя, окаянного.
Тщетно стремлюсь я разгадать твою загадку, Павел Иванович, и многое приходит мне на ум. Иногда кажется мне, что появление твоё отнюдь не подстроенные бесом козни, а просто ты и сам – попавшийся к нему в лапы дух, запертый им где-то по ту сторону света и тьмы, по ту сторону добра и зла, – скребёшься точно мышь, пытаясь пробраться сквозь эту поставленную им перед тобою преграду, что отделила грешную душу твою от божьего мира, и ты, чуя непрожитую тобою жизнь, стучишься, рвёшься сюда в надежде, что всё ещё можно изменить, что разверзнется вдруг завеса, и распахнутся над тобою небеса, полные ночных блещущих звёзд или сияющие голубизною при свете солнца. И тогда не понадобится тебе уж моё перо, с помощью которого проживаешь ты сейчас свою небывшую ещё жизнь и которое для тебя, точно ключ, открывающий двери этой небывшей жизни. Когда думаю я так о тебе, то несказанная грусть проникает мне в душу, и готов тогда я забыть обо всех твоих проделках, готов ночи напролёт не отрываться от бумаги для того, чтобы хотя бы так дать тебе возможность прозреть, глотнуть свежего, летящего над степью ветра или, как сейчас, жмуриться под лучами тёплого летнего солнца. И я начинаю верить, что я и есть единственная богом данная тебе возможность стать живым в мире живых людей, научиться любить и быть любимым; и тогда глаза мои заплывают чем-то тёплым, слеза катится по щеке и рука снова тянется к перу.