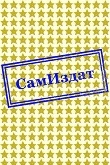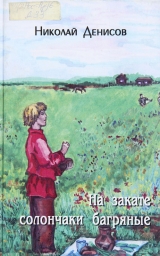
Текст книги "На закате солончаки багряные"
Автор книги: Николай Денисов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 20 страниц)
ПОСЛЕДНЯЯ СКАЗКА
Обдавая прохладным дуновением, прогрохотал, прокатился по небу в своей чугунной упряжке Илья-пророк. Высоко в потемневших облачках с глухим стукотком (наподобие рассыпанного из решета гороха) застучали, как по деревянному настилу, отдаленные мелкие громы.
Над Васильевскими воротами, а может, и в дальней стороне, над Тундровским увалом, упряжка Ильи дала крутой разворот, нагнала фиолетовых туч, все еще высоко клубящихся, но теперь уже явно угрожающих ливнем. Вскоре сверкнули в тучах короткие, ломаные стрелы молний, за ними ударил раскатистый, тяжелый грохот. Потемнело в дому. Мухота, как сдуревшая, заметалась, забилась в оконные стекла. Рыжий кот, простелившись к дыре подполья, нырнул в нее, будто в прорубь, сверкнув оранжевым огоньком хвоста.
Опять ударило в небе. Совсем близко.
– Боженька ругатца! – сказала мама. – Сбегай закрой ставни.
Ветер во дворе вихревым кружением взметывал и подбрасывал ввысь труху, щепки, заламывал соломенный козырек крыши пригона, торкался в забранный талинами забор, за которым вдоль улицы ошалело катился, вихляясь и подпрыгивая, фанерный обод сита. Куры загодя укрылись под крылечком. Стихли воробьи, затаясь под застрехами. И в пору! Наступающая гроза готова была вот-вот упасть тяжелыми струями с небес, но пока медлила. Огородная картофельная ботва продолжала ходить зелеными волнами от прясла к пряслу. Жутко было смотреть на озеро. Потемневшая, посвинцовевшая гладь его ознобно покрылась крупной рябью. Недавно залитые солнцем, набрунжевевшие сочной плотью стены высоких камышей тоже размахивались и ложились к воде, касаясь метелками ее свинцовой ряби. Еще недавно на озерном стекле чернела пара лодок. Сейчас от ближних мостков, с пристани, донесся бряк железа: успели рыбаки, ставят плоскодонки на прикол. Поспеют ли до ливня под домашние крыши? Вопрос, конечно…
Первые тяжелые капли уже буравили дорожную пыль, звенели, ударяясь в оконные стекла, как кнопки, пришпиливали к спине ситец рубашонки, когда я, торопливо откручивая проволоку крепления наших допотопных, рассохшихся ставнёшек, перебегал от окна к окну, запахивал этими ставнёшками все восемь окошек нашего крестового дома. Мама быстро смахивала в передник развешенных для вяления карасей с растянутой во дворе проволоки.
Успели! Ливень хлестанул нам уже вдогонку – по захлопнутой тяжелой двери сеней.
Прокаленный полдневным маревом, дом был полон спёртым, густым духом. После уличного воздуха, напитавшегося озоном, дух этот, распиравший полутемное пространство комнат, густел в груди.
А во дворе уже хлестало. С дерновой, пластяной кровли (сквозь щелястые ставни видно!) стекали грязные струи. С треском обломило толстую ветвь тополя, бросило ее на доски телеги, которая простонала, будто живая. С грохотом рассыпалась поленница. В бурлившем из-под ворот потоке, в пенных его водоворотах, мелькали перья, береста, пучки травы. Поток утащил с бугра нескольких кур. Заламывая им крылья и хвосты, вода принесла куриц к нашему низинному двору.
– Господи, светопреставление! – метнулась к столу мама, собирая дрожащие на столешнице стаканы. Прижала их к груди, словно невыразимую хрупкую ценность.
Опять ударил громовой раскат. Он был такой силы, что зашевелились на божнице иконы, зябко дрогнули крестовины оконных рам.
™ Отойди от окошка! Сядь в простенок! – простонала мама. Метнувшись теперь уже к печной трубе, она задвинула вьюшку.
Я и сам напугался. Отпрянул к «патрету» наркома Ворошилова, прижался спиной к картонке и мне почудилось, будто ордена на гимнастерке наркома холодят мне лопатки.
Разумней бы шмыгнуть на печь, за кирпичный чувал трубы, или проскользнуть в сумрак полатей, затаиться там среди пимов и кулей с шерстью. Надежней укрытия нет – хоть от материнского ухвата, хоть от отцовского ремня, да и сейчас – от грохота с небес. Конечно! Но все же я стремился в прорезь ставня глянуть на улицу…
Гроза улеглась так же внезапно, как налетела на село. Когда я босиком выбежал за калитку, в очистившемся от фиолетовых туч небе сияло большое солнце, а на серой расквашенной низине окрестная босоногая малышня азартно месила грязевую кашу, визжа и радуясь.
Охлажденная коротким, обвальным ливнем земля – околичные полянки, огороды, бегущая в степь дорога с напрочь смытыми копытными выбоинами и тележными колеями, парила. В зените неба, раскинув крылья, полоскался в теплых воздушных струях коршун. Осмелели воробушки, выпорхнули из-под стрех. Защебетали ласточки. Простреливали над крышами стрижи.
Все живы!
Трясогузка, глянь! Бегает, трясет хвостиком, что-то разыскивает на разглаженной ливнем дороге.
На спокойной, солнечной глади озера опять зачернели плоскодонки рыбаков. Неймется им… Но после грозы карась, как чумовой, прёт в сети и ряжевки. Мужики торопятся обтянуть ловушками прибрежные курьи, где мелководье и самый рыбий жор. С Долгого катится уже ботание рыбного гона – глухое буханье по воде жестяных раструбов, насаженных на концы крепких шестов, тычек. С Долго Затем это глухое громыхание также азартно стихнет, приткнутся к камышам лодки, начнется выборка из мережи улова. По всему видно, богатого!
Ожила и улица. Следом за гомоном малышни подали голос петухи. Выпростались из-под крыш телята – эти вечные деревенские блудни, которым рано еще во взрослое единоличное стадо. Вот и толкутся все лето по заогородным полянам, на приозерной травке. Зачакала железом колхозная кузница.
Заухал о наковальню тяжелый молот Васьки Батрака. А из-за бабки Улитиной крайней избы, на савинской дороге, показалась нездешняя таратайка.
Конечно, казах едет. Он чинно посиживает на облучке, свесив одну ногу в сапоге и блестящей новой галоше. Таком глянцевитом, сверкающем на солнце, как будто и нет в окрестности ни грязи, ни полных дождевых луж. Из-под лисьего малахая, надвинутого глубоко, чернеет узкоглазый взор. За спиной казаха тихой куклой сидит закутанная в цветастый плат жена. Лошадка пытается перейти на рысь, но ей не удается – таратайку сносит по грязи к нашему палисаднику.
Сейчас казах спросит меня:
– Дружка дома?
Это он про отца нашего спросил, с которым давно дружит, никогда не минует нашего подворья, подвернет поговорить с отцом. Чаще всего эти визиты заканчиваются долгим чаепитием.
Я уже собрался отвечать, что отец на работе. Но не успеваю и слова молвить, как из лопухов высунулась голова Шурки Кукушкина:
– Каза-а-х, свиное ухо нада-а!?
Орать Шурке эту дразнилку сейчас не следовало бы: свой человек приехал, обижать не надо. Казах, конечно, схватывается за кнут, трясет им над головой угрожающе. И едет мимо нашего двора.
Да, жаль, что проехал мимо, не зашел в дом, не попросил мать раздуть самовар, не вынул из кошелки брикет «кирпишного чая» и, распространяя по избе нездешний загадочный для меня овчинный дух, не уселся степенно и надолго за стол. Мама в таких случаях всегда светлела лицом, выставляя все, чем богаты, подкладывала свежего хлеба. И гость хвалил хлеб, говорил, что «русский на дрожжах» вкуснее казахских пресных лепешек. Но пресные лепёшки тоже были здесь и продолжалось обоюдное потчевание.
Потом за стол, после настойчивых уговоров матери, присаживалась и женщина-казашка, смущенно озираясь на хозяина. Тот хмурился, но в гостях у русских, видимо, поступался своим, непонятным нам, обычаем.
– Как это так! Он бузгат стакан за стаканом свой кирпишный чай, а хозяйке его, выходит, нельзя за стол? – возмущалась потом мама. И добавляла со вздохом:
– Бусурмане оне и есть бусурмане…
Я выбегал на крыльцо и долго смотрел на таратайку. Иногда их навёртывалось в наш дом сразу несколько, привозя в гости, наверное, половину степного аула. Смотрел, как долго степной дорогой трусили лошадки, гремели на кочках колеса таратаек, за одной из которых бежал юный тонконогий жеребенок.
Гости скрывались за Солоновским увалом – в южной стороне, среди веющих ковылей и колючих чертополохов-татарников…
Я стою посередь освеженной ливнем улицы и собираюсь присоединиться к Шурке Кукушкину. Он принес лопату, копает канавку, чтоб спустить к озеру большую лужу.
Занятие это праздное, необязательное. Вот послали бы нас в эту пору заниматься нужным по хозяйству делом – ограду прибрать или дрова в поленницу складывать, нашлась бы куча причин, чтоб ничего не делать, волынку тянуть. Но пооди-ночке-то тоскливо работать, а тут дело артельное, коллективное. Вот-вот прибегут другие ребятишки. Будут канючить лопату, чтоб тоже принять участие в этой «игрушечной» работе.
– Чё орал-то? – говорю Шурке, – Свиное ухо-о! Это ж наш дружка. В прошлый приезд спрашивал у отца – можно ли ихнего казачонка к нам на квартиру устроить. В ауле-то школы нет, а казачонку тоже надо учиться…
– А не люблю я их! – сказал Шурка, – Чё они ездят-то, знашь? Присматривают, где можно потом пшеницу на полевом току стибрить. Вот, наклон тут, поковыряй немного…
Вернулись косари. В поле сейчас тоже наквасило – какая тут работа! Чья-то одинокая телега запоздало шкандыбает по совхозной улице. Пегая лошадка, упираясь, тянет воз по грязи на деревенский взгорок. На телеге виднеется какая-то поклажа. С вожжами в руках шагает рядом с телегой женщина. Незнакомая, с дальней совхозной окраины, где я знаю не всех.
Телега поравнялась с бескрылой мельницей-ветряком. Втянулась в пространство между колхозным зерноскладом и большими государственными складами. Мы с Шуркой услышали женские причитания. Так воют у нас бабы над покойником. Неладное что-то? Мы переглянулись. Шурка вонзил в землю лопату, кивком пригласил побежать на совхозную улицу. И тут появилась зареванная Надька Улитина.
– Чё там случилось, Надежка?
– Уби-и-ло… Громом убило…
– Кого убило?
– А не зна-а-ю. Мужика с той улицы убило…
До вечера только и разговоров в нашем околотке о происшествии. Спустилась с пригорка, ломаясь в пояснице и охая, бабка Авдотья. Сошлись они с мамой у палисадника. Редко появляющаяся в нашем краю, пришла бабка Фетинья. Прошла, сухо поклонившись, аккуратная, строго повязанная черным платком. Монашка – сильно верующая женщина-староверка. Она блюдет все посты, престольные праздники, живет одиноко. С нашими околоточными бабами не якшается, в гости не ходит. Строгого «ндрава», как судят о ней бабы. Я прислушиваюсь к их негромким, жалостливым вздохам. В Васильевских воротах это случилось, где больше всего гремело. Прилетела с неба «стрела», «расщепила большую березу и сразило «мушшину», а бабу его не тронуло».
Вечером, как всегда с веслом на плече и вонючей махорочной «оглоблей» в зубах, сделав крюк от пристани, пришел побалакать с отцом Павел Сергеевич Андреев.
– Говорят, надо было сразу в землю закопать, чтоб молния вышла из убитого! – встряла в разговор мужиков мать.
– Ага, Катерина, и крест поставить! – как всегда, когда говорят что-то не по уму, съёрничал батя, присаживаясь на лавочку и тоже вынимая кисет.
Ночью опять грохотало над домом. В голые стекла окон – никто не решился выйти во двор, чтоб снова затворить ставнешки, – вкатывались огненно-сизые сполохи, из высей сыпался горох небесных электрических разрядов. А мне чудилось, будто кто-то огромным колуном – от вершины до комля – раскалывает тяжелые, ухватистые березы, молнии озаряли ночную ограду, высветив на мгновения, будто дневным светом, телегу, крышу пригона, дрова, собранные заново в поленницу. Я знал, что следом долбанет и успевал нырнуть в кипень тулупа, отползал ближе к стене, под подоконник, где безопаснее. «Боженька ругатца!» – стучало в голове, но постепенно сознание обволакивалось забытьём, окончательно проваливалось в глубину снов. Но и там вдруг мелькали осколки картин ушедшего дня, причудливо и тревожно преломленные в ненашедшем успокоения сознании.
Снились, – прямо-таки осязаемо! – вороха огненных лисьих малахаев. Их было так много, что они заполнили всю заозерную степь. Метались по пшеничному Окунёвскому увалу, уставленному ворохами зерна. Все прибывали и прибывали с тяжелым колесным громом казахские таратайки. Между ними возникал вдруг Шурка Кукушкин. Что-то кричал и вдруг принимался вздымать эти вороха грязной лопатой. И сам я, силясь чему-то препятствовать, не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, отчего просыпался на какие-то мгновения, потом опять проваливался в рыжий огонь малахаев, который преследовал меня до окончательного пробуждения.
– Не захворал ли уж? – заглянула в горницу мама. – Мечешься, бормочешь. Полежи еще, рано ведь совсем…
Потом, через годы, дневные и ночные эти сполохи, страхи, тревоги пришли и оформились в иное качество. В рифмы, в строки:
Только смолкли лягушки-царевны
И уснул заколдованный лес,
Разбудил среди ночи деревню
Неожиданный грохот с небес.
Я дрожал, дожидаясь рассвета,
Испугался тогда не шутя.
И звенели на крыше монеты
Серебристой чеканки дождя.
И опять, прогремев в колеснице,
Громовержец ломал облака.
Кинул молнию огненной птицей
И сразил наповал мужика.
А под утро за лошадью пегой,
Что, наверно, оглохла в грозу,
Проскрипела в деревню телега,
Где лежал человек на возу.
И со страхом его провожая,
Выли бабы в проулке косом.
А живая вода дождевая
За тележным неслась колесом…
Конечно, не все в этих строках, как было. Так и не бывает при создании произведений. Таковы «причуды» творческого процесса. Но сейчас я не об этом.
Готовилась к изданию моя первая книжка стихов. Редактор её – большой атеист, вдруг потребовал изъять из рукописи эти стихи – за «неуместную живую воду, за пропаганду замшелой религии».
Дичь? Конечно, дичь.
Рисковое дело – спорить с редактором молодому стихотворцу. И все же я дал телеграмму в издательство: «Если снимете «Последнюю сказку», то я снимаю из плана всю свою рукопись!» Отвага сия, граничащая с наглостью, столь подивила редакционное начальство, что оно согласилось: «Оставить»! Таких наглецов там еще не встречали!
Про Бога в нашем доме вспоминали редко. Только один раз за свое деревенское детство я видел, точнее выразиться, был свидетелем, как мама стояла перед божницей на коленях, шептала молитву и клала поклоны. В горнице было сумеречно. За окном стоял мороз. А я, сунувшийся было из кути в горнешние двери, застал там маму перед иконами. И напугался.
Что-то очень уж неладно у бати было на работе. Опять он выступал на собрании, кого-то клеймил, кого-то защищал, добиваясь справедливости. И что-то грозило ему. От властей.
«Господи, помоги и оборони! – услышал я тогда мамину молитву.
Один раз и слышал.
ДАЛЬНИЕ СТРАНЫ
Окраинное наше бытие имеет, конечно, больше преимуществ перед бытием других домов и избенок на колхозной улице. Зажатая заплотами, плетнями, уцепившись в свои сотки-палестины, правая сторона улицы вздымает черноземы огородов на взгорок, к задам села, к жердяным пряслам. А за пряслами – машинная дорога. Дальше школьные владения: большой двор, сад. Не разбежишься.
Другое крыло улицы, стекая низиной к озеру Долгому, тоже ограничено береговой кромкой, камышами. Хотя есть тут свои удобства: рыбаки (а в рыбаках у нас полдеревни) чалят свои лодки прямо у родных плетней. Тут и огурешники, тут и полив, тут и бани хоть с полка ныряй в озеро, остужайся после жаркого веника.
Но у нас, на окраине, зато простору, сколь хочешь! С подворья нашего, с крылечка, а еще лучше – с вершины старого тополя – простор этот вольный далеко виден. За приозерной степью колышется сизое марево жары, обволакивает дальние березовые леса. Туда текут ленты сразу нескольких полевых и проселочных дорог. А над всем этим – вспученным массивом, на южной солнечной стороне горизонта! – горбится пахотный Окунёвский увал. К средине лета по нему широко, размашисто перекатываются волны созревающего хлеба. Над волновыми перекатами пшеницы или ржи, в центре увала, неведомо с каких пор высится загадочная для ребятни мачта. Сосновые бревна мачты, местами тронутые гнилью, но на совесть стянутые коваными скобами, держатся еще надежно. Что это за мачта? Кто ее поставил и для каких целей? От взрослых мы знаем правильное её название – топографический знак. А поставили знак, похоже, о-очень давно, может, еще до революции!
Говорят, кто-то из деревенских отчают на спор поднимался по шатким, подгнившим лесенкам до верхней площадки мачты, где торчит шпиль. Разувался там, сбрасывал вниз сапоги. И они, наподобие самолетных бомб, свистя и завывая раструбами голенищ, до полусмерти напугали баб на дальних покосах. Кто его знает, правда ли?
Шурка Кукушкин, который до смерти боится воды, один из нашей орды забрался под самую макушку старинной мачты. А это шесть пролетов. В каждом – по 15–20 метров. Мне и Тольке Миндалеву хватило духу и смелости одолеть всего два пролета. Там и застряли. С замиранием в груди, запрокинув головы, следили за Шуркой, который благодаря своему подвигу вышел в герои нашего околотка.
– Теперь тебе непременно – в летчики идти!
А Шурке чихать на эту славу. Он нигде и ни перед кем ни разу и не похвалился, что залезал на мачту, что сидел там на верхотурной скамейке. А потом бросил вниз кепку перед тем, как спускаться вниз. Кепка, если черпануть ей на складе из вороха пшеницы, запросто вмещала с полведра зерна, а тут, спланировав в синем небе, совсем негеройски упала в кусты шиповника, откуда мы ее с трудом добыли.
Все это я видел. С восхищением, конечно, и с завистью. Эта покоренная дружком высь не стала давать покоя. Высь! С неё уж точно видны дальние страны?!
– Ты чё сдурел? Какие страны?
Мы опять с Шуркой сошлись в нашем проулке. Он нацелил свой взгляд в раскричавшуюся курицу. Где-то снеслась безхозно! Надо лезть в коноплю, искать дармовое яичко. И Шурка торопится отвязаться от моих дурных расспросов:
– Ну, Савино видно. Ну, Нестерово… Ниче боле. Табун возле Тундровского острова пасся. И все-е!
Эх, Шурка. Вот я бы увидел-рассмотрел дальние страны! Но ведь и с вершины старого тополя видов дополна. Хотя б городская дорога. По старинке ее так зовут. Теперь она почти заброшена, зарастает пыреем, куриной слепотой, колючками. Пока ездят по ней конные и бычьи упряжки. Порой по старой памяти прикатит из города американский студебеккер или наши – полуторка, зисок прогремят в сырую погоду. Обогнут Засохлинский остров, вонзятся в зеленую кипень берез да исчезнут в загадочной глуши. В лесах! А за лесами – чужие деревни: какие-то Грачи, Чирки, потом, говорят, добрый тракт начинается, что ведет на юг, в Петропавловск, а на север – в Ишим. Там поезда ходят. А в поезде-то и можно укатить в дальние страны. В какие хочешь! Хоть в саму Германию, где служит танкистом дядя Петя.
А еще с колхозной овчарни, она излажена нами вся, до последнего закутка, видна другая дорога на Ишим. Ведет она сначала на ближний Крутинский увал, мимо соснового ряма и двоеданских могилок, через степь – на большое село Пеганово. Прошлым летом на дороге поскребся железный грейдер, вздыбил солонцы. Теперь дорога эта называется трактом-большаком. Правда, он лишь посуху большак, до первого проливного дождя.
Еще есть дорога из села. От совхозной окраины. Не дорога, а «смертушка», как говорит мама. По ней можно добраться через озерные ляжины и ручьи-протоки, через шаткие мостики, в деревню Полднево, где живут наши родственники Ипатовы. Совсем глухая сторона. За ней не блазнятся мне никакие страны. Так уж затвердилось в моём представлении: дальние страны в городской стороне.
Шурка вылез из конопли, в руке у него пара куриных яичек. Он потер одно о штанину, колотнул о жердь огородого прясла, одним заглотом высосал, сунул мне другое яичко:
– Пей давай. Да, смотри, кожуру зарой в землю!
Меня учить тут не надо: скорлупу яичную у нас принято не бросать, где попадя, чтоб не натокались клевать куры. Привыкнут, будут долбить яйца, как только снесутся. А этого допускать нельзя. Шурка, конечно, оставил в бесхозном гнезде третье яйцо, чтоб несушка не потеряла место. Зорить подчистую такие гнезда – себе в убыток.
Конечно, мы сейчас побежим на овчарню. Днем там пусто, овец пригонят только в сумерках. А к той поре хватит нам воли напрыгаться с высокой крыши, в пряталки наиграться, домой заявиться к возвращению взрослых с работ.
Надо заманить в компанию ребятишек бабки Улиты, хоть и совсем малы они, а больше некого. Вот они – шестилетняя Надька и четырехгодовалый Санька гоняются на бугре за мотыльками. Мать у них тоже на работе. Про отца их ходят разговоры, что он то ли бросил семью, то ли в тюрьме сидит. Не нам выяснять! Да и не выясняем мы ничего про Ханьжиных ребятишек которые растут на наших глазах. Бабка Улита то загоняет их вицей в ограду, то снова выпроваживает на ближние полянки, поднимая крик, едва внучата скроются из видимости в какой-нибудь яме или за навозными кучами.
А вот Толька, городской внучек дедушки Павла Замякина, увяжется за нами сам. Толька мой ровесник. Ему, конечно, до нашей ловкости в играх далеко, но мы терпим. Родная бабка Тольки – Авдотья за дело и понапрасну костерит его походя «нетулыкой», «квашней» или «бестолочью». В нашей компании он тоже не на первых ролях, но мыто хоть не обижаем городского.
Сейчас Толька увидит нас в окно, выйдет в сени, прокрадется за ограду. В след ему раздастся бабкино: «Куды, варнак!», но на бревнышке у ворот сидит белобородый дед Павел, а он жалеет внучонка. «Пойди, – скажет, – побегай!»
Да и как не жалеть внука деду. Старшая дочь Павла, давно городская, привезла и, как судят бабы в нашем околотке, «сбыла с рук Тольку», едва он возник на белый свет. В пеленках привезла… Куда одной в городе с дитем? Муж на фронт ушел и – с концом. Так и вышло с внучонком – в запаренных кипятком травах, в отрубях держала бабка Авдотья мальчишку, «вправляла» ему слабые кривые ножки – калекой родился. Одну ножку выходила. Припарки помогли. Другая ножка осталась с кривенькой ступней. И Толька заметно косолапит. Когда кто-то (не с нашей улицы) принимается жестоко дразнить городского, мы с Шуркой Кукушкиным кидаемся в драку. И Толька поневоле привязан к нам.
– Давай к нам, Толька! Айда!
А ведь никто не догадывается даже: утром я окончательно решил бежать в дальние страны. Как-то по-новому смотрел я на родителей, как они, быстренько управясь по дому, вытолкав корову в табун, наказали мне следить за цыпушками. Мама ушла с косой в поле, отец и того ранее – в свои мастерские. Брат Саша третий день гостит у родственников в Полднево: попросили помочь загородить огород. И теперь Саша с двоюродным братишком Валерием шкуряют там жерди, копают ямки под столбики, стучат молотками.
Так что самое время для меня – в дальние страны! Наверное, надо оставить какой-то знак, записку: так, мол, и так, не поднимайте тарарам, не ищите меня, ни на чердачке, ни в огороде. У Кукушкиных меня тоже нет, вдвоем мы с Шуркой подались в дальние страны! Надо, конечно, а то поднимут рыбаков. Те зачнут шарить в озере – утонули – где нам с Шуркой еще быть. «Орда она и есть орда!»
Да, сбежится на берег полдеревни, как сбежались в прошлом году, когда утонул в бурю старик Акиндин. То ли лодка дала течь, то ли захлестнуло волной. Акиндин был в фуфайке, в сапогах. Успей их сбросить, может, выплыл бы. Да не справился, такая буря с проливным дождем хлестала. В глазах стоит картина: мужики вытаскивают старика из воды, кладут на траву его, мокрого, со спутанными волосами, с плетьми рук и ног, неподвижных, страшных. Мы, ребятишки, пугливо жмемся возле бани под всхлипы и причитания баб. У мужиков хмурые лица. Молчат, пыхают табаком…
А может, сразу и не хватятся меня? Мол, уконопатил к бабушке Настасье, а та оставила у себя ночевать. Да нет, никогда бабушка, даже совсем маленького, не оставляла меня у себя:
«Ступай домой, а то мать будет переживать!»
Овчарня хороша тем, что куда ни залезешь, откуда ни сиганешь вниз с крыши или жердяного насеста, где сушатся вязанки еще прошлогоднего табака, везде мягко приземляться. Подстилку для овечек зимой не меняют, просто поверх старого слоя соломы натрясают толстым слоем свежей. За зиму соломенная подушка, как ни копытят её овцы, только садится, летом же – просыхает и пучится на гуляющих по овчарне сквозняках. Собирает, впитывает теплынь, держит ее потом и в самые лютые стужи.
Стены овчарни жердяные, двойные. Полое пространство стен тоже плотно набито соломой. И только тепляки, где спасают от холода и выкармливают новорожденных ягнят, бревенчатые. В крайнем тепляке – овечья кухня, закуток для чабанов. Лавка вдоль стены, печка с плитой. Старые тазы, ведра. Одно из ведер поновей, лишь сбоку немного помято. Оно, ведро это, впоследствии и станет причиной краха наших планов.
Мы разлеглись на крыше. Над нами, в высокой сини, ни одного облачка. Шурка поупирался немного, пошвыркал носом, потом согласился с моим предложением, сказал:
– Деньги нужны. Хотя бы рублей сорок на первое время. Я говорю Шурке:
– До Ишима бы добраться, а там в шайку вступим.
– В шайку жуликов? И не блатуй, не пойду… Ты че это говоришь, ты же отличником второй класс закончил, и в шайку?!
– Какая разница! Толька Мендаль вон говорит, что он в шайку уже записался.
– Хлопуша он, Мендаль. Где ему…

Прав, наверно, Шурка: «Где ему!» Только год и проучился Толька в городской школе, а в первый класс он ходил в нашу деревенскую семилетку… На тебе, хвастается: в шайку вступил. Кто его примет – такого «нетулыку»…
Все оказалось не так просто, как блазнилось по-первости. С Толькой я поговорил заранее. Он согласился примкнуть к нам. Но я знаю, что на Мендаля плохая надёжа. Он, пожалуй, как окажется в своем городе, домой убежит. Да ладно, хоть покажет, где станция и где поезда стоят. Проберемся мы с Шуркой под скамейку в вагоне или, может, на крыше приспособимся: в кино видел, что на крыше можно ездить. Шурка квашню собирается завести, хлеба с собой калачика три надо! Еще он говорит, что надо луком запастись. Лук мы на базаре продадим, деньгами обзаведемся. Без денег – нельзя. Да, хоть бы рублей сорок на первое время!
– Шурка, а луку где возьмем?
– В своем огороде не пластай, сразу разоблачат. В какой-нибудь деревне по пути раздобудем…
Хорошо-то как!
Солнышко, перевалив зенит, начало скатываться к совхозной окраине. Зной стал заметно угасать. На ближней от овчарни поляне вылез из норы суслик, замер в стойке, покрутил головкой, нырнул обратно. Испугался бряка колес. В ходке проехал колхозный бригад-полевод. Мы спрятали головы за конек крыши, затаились. И я подумал о Тольке и Улитиной малышне. Недавно визжали внизу, носились, прыгали на соломе, а сейчас притихли, не слышно. Я поднял голову и сначала увидел Саньку. Он сидел на опрокинутом вверх дном ведре, гудел, пускал слюни, наверно, изображал машину. Потом в дверях тепляка возникла с кривой палкой бабка Улита. Из-под палки вылетели и побежали заполошно Надька и Мендаль, блазня на разные голоса: попало им, ясно.
– Опасна вас возьми! Чё утворяют, о-о! – занялась Улита. – У тебя, жулика городского, я «скворца-то» обрежу! Ишь придумал, упился ведь, упился девкой!
Мы, наверху, все поняли и принялись смеяться. Да, взрослые в ту пору, наверно, и не предполагали о нашей «образованности». А мы уж были таковыми в свои шесть-восемь деревенских лет. Разговоры, шепотки те, что нам не полагалось слышать, конечно, мы слышали. А потом – зрили не только собачьи свадьбы со всеми живописными сценами. Все это было «тайной». Загадочной и стыдливой. Но от живой жизни и нам в ту пору некуда было деться. Назначение «скворца» у мальчишки, «луночки» у девочки, что из «этого» получается, рано мы постигали. Малышней и купались на озере вместе. Голяком. Без всяких стеснений. Девчонки, правда, начали стыдится раньше нас. Если уж и плескались в мелкой воде без трусиков, то уединенно, на отдельном бережке. И поднимали визг, бежали в укрытие бань, если обнаружат, что из мальчишеской орды кто-то подкрался по картофельной борозде и высмотел их прелести…
Надежка Улитина среди нашей околоточной ребятни была «своим парнем». «Надежка, покажи, что у тебя там?!» Она ложилась на спину, заголяла цветастое платьишко. Орда смотрела и круглила глаза. И что у кого на уме было в те мгновения, объяснить теперь не берусь. Наверное, было это постижением тайного, точнее, таинственного, пробуждением в душе и в крови неясных до времени инстинктов. Но кто-то из нас мог уже признаться дружкам, что был с Надежкой в тепляке. И она позволяла лечь на себя и прикоснуться «скворцом» к «луночке». Упиться прелестями, как кричала Улита.
Это и случилось у Надежки с городским Толькой, пока мы обсуждали с Шуркой Кукушкиным наш побег в дальние страны!
Недолго причитала-разорялась Улита, привлекая будто бы в свидетели округу. Недолго держала в голове мысли «про ребятишек». Возникли они и испарились у бабки будто мимоходом. Да и околица в эту пору была пуста. Никого, кроме телят, щипавших траву, да уханья молота в ближней кузнице. Похромала Улита в свою ограду, куда благополучно залетела Надежка, просеменил и Санька. Ясно, что не пройдет и получаса и все потечет обычным чередом. «Летайте, пропасти на вас нет!» – выпустит бабка внучат.
А нам с Шуркой не до хромой бабки, не до малышни.
Мы молча сиганули с овчарни вниз (в иную пору сделали бы это с ором). Обнаружили ведерко, на котором Санька изображал себя шофером полуторки или «зиска».
Шурка поцапал ведро за бока, за дужку, пощелкал зеленым ногтем о глухо откликнувшееся донце, поводил носом и сказал:
– Вот и деньги!
– Какие деньги?
– Какие-е! В Песьяново или в Карьково рублей за двадцать пять загоним.
– Казённое же… Может, не будем Шурка?
– Казённое, ага… Спрятать надо где-то до завтрашнего утра. Спрятать ведерко решили в ряму, в осоке. Там вода с весны стоит, можно притопить ведро – ни одна холера не найдет. Но до ряма надо добраться, одолеть две незабудковых поляны, которые пересекает полевая дорога. А по дороге ездят. И не дай господь, напороться на бригадира или на объездчика с кнутом. До нашей орды, что шастает где попадя, у объездчика глаз наметан, кнут ременный тоже не выболел.
Хотя, если разобраться, что тут худого: два парнишки идут с ведром – дело у нас известное, рядовое – нацелились вылавливать сусликов.
И не чужое вовсе ведро, а свое сняли с тына, с припечка у шестка взяли. Наша мама, ополоснув после дойки коровы, всегда ставит его на припечек сушиться. Что тут такого? Но у страха, известно, глаза велики… Шурка и в самом деле стал изображать азартного охотника до сусликов. Вскрикивал у всякой сусликовой норы, размахивал руками, мол, вот «щас» только воды наберем в ряму, «капец придет сусликам и тарбаганам всего околотка!» Той порой и мне было интересно – спасу нет – ловить порхающих с цветка на цветок ярких бабочек.
Я тоже картинно вскрикивал, где в мнимом восторге, а где и от боли, напоровшись голой пяткой на колючку. Диковинные эти бледно-зеленые колючки, чуть ли не из-под снега с ранней весны пёрли из солонцовой почвы на подступах к ряму, словно создавали передний край обороны против шляющейся орды. В добрую пору (не воровскую, как сейчас) проникали мы в рям осмотрительно. Но теперь – скорей бы достигнуть воды, осоки, утопить это ведерко. Заветное!