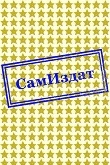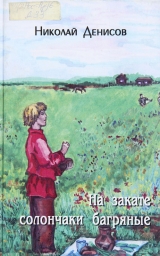
Текст книги "На закате солончаки багряные"
Автор книги: Николай Денисов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 20 страниц)
ВЗГЛЯД
Ну что еще надо? В комнате тепло, уютно, мягкий ворс паласа под ногой, стенка книг до самого потолка – можно взять любую, откинуться на диван или в кресло, читать, забыв свои печали, думать, погружаться в чужую жизнь, мимоходом, мелко отпивая из кружки горячий чай. Хорошо. Да-а…
Что с того, что скверно на душе – с родных отчих мест пришли печальные вести: жизнь там никак не «процветает», разлад сплошной, неурядицы. И куда она катится, жизнь?
Да и за окошком холодный день поздней осени. Холодно и на душе. Но! Хоть эта милая картинка: воробей на перила балкона принес хлебную крошку, подлетели еще два воробья – веселый пир у них пошел! Голуби стаями вьются, ребятишки высыпали из детсадика, построились в колонну по два, шествуют за воспитательницей. Но как-то понуро шествуют, без ребячьего азарта…
И день серый. И дома серые – башни, пятиэтажки, расставленные в продуманном кем-то, расчерченном кем-то порядке. Но нет ощущения долговечности, прочности в их стандартной обреченности, геометрически правильной заданности. И такие же хлипкие, однообразные – голые сейчас – ряды тополей, словно, кроме них, воткнутых в болотистый грунт лет пять назад (наспех, для планового озеленения) и деревьев-то никаких на земле не существует.
На что скудна природа в наших солончаковых, местах, а все же – березы, осины, краснотал, боярышник. И – сиреневая кипень старых усадеб, буйная в мае-июне, богатая медовыми ароматами!
Может быть, все образуется, наступит новая привычка, покой? Вот и снег повалил. Настоящий сибирский. Ведь мечтал о нем, грезил в жарких странах.
Не знаю, не знаю…
И здесь, на родине, нет равновесия, того самого «покоя и воли», что, по определению Александра Сергеевича, даётся взамен несуществующего счастья.
И тогда приходит женщина – далекая, загадочная. Чувствую на себе взгляд её – сначала быстрый, мимолетный, а потом всё более пристальный, с глубинной жалинкой, все по-матерински понимающий.
Да, вот так и бреду и странствую мысленно в лабиринтах недавних дорог своих, портов и морей, встреч и расставаний. И вдруг вспыхивает этот взгляд, озаряет теплым хорошим светом, как наша лесостепная, короткая августовская зарница.
И далекий Кочин-порт вспыхивает. И я в нем! Городок этот самый благополучный, самый развитый в южном индийском штате. «Самый-самый» это из лексикона помполита. И ты смотришь уже под другим «углом зрения» на покатые, в новой чешуйчатой кровле – темно-бордовые крыши как бы нарисованных домиков на другой стороне бухты – вся их бордовость явственно (опять и опять!) напомнит наши солончаковые Палестины. А толчея стволов пальмовой рощи с желтыми, будто бы издающими тихий звон, кокосовыми плодами, кажется тебе преддверием земного рая – дармового, вечного – на веки веков.

И еще… Как прохладно, обволакивающе сладко пахнет сандаловым деревом в старинных, уже музейных апартаментах дворца магараджи, где на фресках стены пленительные подружки повелителя ласкают его – все вдруг! – на малахитовой зелени лужайки.
Индия без красавиц – в нежных тонких сари, с кастовыми знаками на лбу! – не Индия.
Помнится…
– Да вот и они! – легкая улыбка тонет в богатых черных усах нашего корабельного электрика Андрюхи, нашего красавца мужчины – с черной кудрявой шевелюрой. – Индейки пожаловали!
– Сам ты индейка! – дразнит Андрюху вахтенный матрос у трапа.
На палубах и в каютах пусто – воскресный день. И все свободные от вахт ушагали в увольнение – покупать бусы и ожерелья далеким русским женщинам. Драгоценные камушки здесь не дороги.
И я уже походил по Кочину. Поклонился могиле первооткрывателя Индии Васко да Гамы. Не могиле, собственно, а ограждению на каменном полу католического храма. Отсюда прах Васко давно уж перенесен в Португалию, на родину именитого мореплавателя. И я что-то писал в толстой церковной книге – слова восхищения смелому человеку.
Да-а… А сегодня и наш теплоход-сухогруз примечательность. Да какая!
– Братцы, гости идут!
– Индусы шумною толпою…
– Не балабоньте! – резковато обрывает матроса помполит – высокий пожилой дядька. Все на нем от запонок на рубашке с длинными рукавами – в такую жару! – до коричневых кожаных полуботинок, подчеркнуто своё, отечественное, ни грамма «фирмового», зарубежного. Фасон давит, как мальчишки-практиканты мореходки, что в японских джинсах, что наши судовые дамы – в «сафари» сингапурских.
– Андрей, ты свободен сейчас? Проводи гостей по судну, покажи, что полагается…
А я жарюсь на навигационной палубе возле китайского бильярда. Сверху многое видно, слышно. И музыка ультрамариновой бухты, и скрытый там, за пальмами, город, и портовый поселок с вольготно бродящими священными коровами по чистеньким улочкам, флагом пароходной компании «Феско-Индия». Вчера там, на фоне флага, фотографировались на память, кормили буренку одну индийскую бананами. «Красуля, Красуля… Люська, Люська!..» – окликал я коровку знакомыми мне окунёвскими коровьими именами, чесал её кирзовой мягкости шею. И старик-торговец в тюрбане, продавший нам бананы, весело блестел глазами, улыбался, щерясь кривыми коричневыми зубами.
«Люська, Люська… Красу-у-ля-я…»
Корова уверенно и цепко захватывала резиновой твердости языком зеленую кожуру банана, отворачиваясь почему-то от сладкой сердцевины, требовательно тыкалась слюнявой бирькой в мою ладонь, наивно хлопала густыми ресницами своих по-восточному раскосых и длинных! – коровьих очей. Ну дела! Хохотали мы все, уныло звеня в карманах неувесистой мелочью…
Гости поднялись по трапу. Мне пока слышны их голоса да глуховатый басок Андрея. Он что-то пытается там, на спардеке, растолковать им по-русски. Хохоток – сначала сдержанный, вежливый, потом всё открытей, раскованней и рискованней – женский мелодичный смех.
Гости взошли на шлюпочную палубу – ботдек, гомонят, развлекаемые Андрюхой, возле палубного бассейна, из него на время стоянки в порту спущена вода, и еще сверху видно, как на корму, возле люка камбузных отходов, уверенно уселась чернявая, как монашка, священная индийская ворона. Она сердито клюёт кормовой наш багряный флаг, что колыхаясь мешает ей сунуть в люк свой нахальный клюв.
Жарища! А в груди сладкий трепет. И понимаю – откуда он, из каких глубин вырастает, охватывает душу, воображение: индийские женщины! И ни где-нибудь в толчее улицы, в толпе (красивые и не очень. Насмотрелся на них в портовых городах, всяким раз невольно сравнивая с красотками из раждкапуровских фильмов), а прямо у нас, в нашем палубном, грубоватом быту.
К своим-то судовым женщинам мы привыкли. Свои они и есть свои – хорошие «парни», переносят с нами вместе «тяготы и лишения» флотской работы, как трактует Морской устав. Готовят нам, пекут и стряпают, прибирают в каютах командиров, запросто заходят поболтать, валяются, когда и где выпадет роскошь, чуть ли не голенькие на горячем пляже среди здоровых, невыболевших мужиков наших. Каждая линия, каждый изгиб тела, всякая родинка на коже, открытая рисковым купальником, у наших известна. Да и биографии – подробности личного (чаще всего несостоявшегося) счастья, известны: когда развелась, отчего не сложилось (обманулась или её обманули), к кому «приклеилась» на судне, и кто «приклеился» сам из парней – холостых, разведенных, а то и женатых. Все это обыденная, текучая жизнь с нечастыми радостями личного, зато с частой изматывающей болтанкой в океане, от которой наши женщины отнюдь не становятся краше и привлекательней.
Но вот есть минуточка, «окошечко» в работе, и какая-то из наших пяти морских дам выпросталась из сарафана, раскинула одеяло на горячем палубном железе подальше от глаз, распласталась под южно-индийским солнышком. Кулачок под щеку, рыжую косу, чтоб не мешала загорать спине, в сторону, толстые пятки врозь… Кто это? Судя по солидным выпуклостям давно не точеной фигуры, буфетчица Лариса! А я и не приметил как-то, азартно шуруя кием китайского происхождения. У меня тоже отдых между вахтами. Скинул в каюте пропахшие машинным маслом штаны, с удовольствием нырнул в шорты, в майку с альбатросами на груди и айда на верх, на жару, на волю!..
– Андрюха, – голос того же матросика у трапа, – ты там не охмуряй индианок…
Черт побери, совсем развольничался – молодой!
Да вот они и сами – гости наши. Четыре женщины в сари, три из них обвешаны голозадыми ребятишками-детишками, два моложавых индуса в цветастых рубахах на выпуск. И Андрей среди них – всем свои чернобровым и черноусым обличьем вполне сходит за индуса. Но куда денешь говорок – мягкий славянский басок с украинскими, чуть заметными, интонациями…
Ах, как расстилается он перед одной, не обвешанной детишками, статной, хоть и чуток полноватой, но без излишеств, красивой индианкой!
– Андрей, как успехи? – кричу я парню.
– А вот выяснил: из дальней деревни приехали, чтоб посмотреть русский пароход.
– Ишь ты! Всё так и понял?
Гости вежливо топчутся возле Андрюхи, застенчиво улыбаются. Ох уж эти вечные индийские улыбки! Затем неловко оступаясь в своих легких сандалиях, взбираются крутым трапом ко мне. Что ж! Как-то и мне надо проявить себя, оказать внимание гостям.
– Попробуйте вдарить! – подаю кий индусу, – А ну, попробуйте!
Как мотыгу, как топорище, берет он кий и под вежливые улыбки спутников делает неумелый удар.
– О’кей! Ничего! О’кей!
Андрюха глазами так прямо и источает мед на красавицу индианку, и робость, черт побери, в нем откуда-то взялась, и движения плавные, замедленные… Эх, Андрюха!
И она – я вижу! – понимает, ах, все понимает: взгляд этого русского нечто большее, чем любование её красотой, – томление, внезапно возникший любовный трепет и – несбыточность, тщета, сожаление…
Да и сам я – в каком-то облаке очарования!
И она, ободренная столь явным, пусть робким| поклонением, веселей и смелей посматривает на нас обоих. Да, и мой восхищенный взгляд замечен, – и отмечен этой здоровой – кровь с молоком – деревенской красавицей.
– Васильич, сфотографируй нас всех вместе! протягивает мне Андрей свой «Зенит».
И потом, на фотографии, будет веселый и гордый взор женщины, её глаза (по глубоким и жарким зрачкам которых навожу я резкость объектива), а рядом – глаза Андрея и что-то в них такое; запечатлится и увековечится сейчас, чему, наверное, сам Андрей будет дивиться через много лет, глядя на снимок, и вспоминать с душевным трепетом, одному ему ведомым.
– Ну вот! – вздыхает Андрюха. И все молчат. Неловкая пауза, освещенная вежливыми улыбками. Мужчины-индусы скромно косятся на поджаренные на солнце телеса нашей буфетчицы Ларисы и робко идут к трапу. Андрюха вихрем скатывается вниз, страхует спускающихся по ступенькам женщин. Опять улыбки, взгляды и – удивительно! – ни одного писка прильнувших к мамашам малышей…
– Что? – говорю Андрею, когда гости сходят на берег и всей цветной и улыбающейся компанией исчезают за ближними пальмами. – Никак влюбился?
– Кажется, да! – легко, с неожиданным откровением кивает кучерявой головой парень.
– Да ты что?!
– А вот тебе – и что!
– Ну и как теперь…
– Не знаю… Ну вот не знаю! – и загорелое лицо парня светится изнутри грустноватым и возвышенным светом…
И вот теперь, среди русских снегов, в теплой городской квартире, вглядываюсь в карточку, подаренную Андреем, и спрашиваю себя: зачем эта женщина пришла в твою память? И не такая уж она и красавица, судя по этому любительскому фото. Да, встречались ярче и блистательней на индийских перекрестках – раджкапуровские звезды из бледнолицых и высших каст.
Но не было таких вот глаз, такого пристального, горделивого и понимающего взгляда… Даже имени её не знаю, но представить хочу – индииская деревня, жара, пальмы со звенящими кокосовыми плодами, она – прямая и статная, не идет, а проходит, как царица, неся на мягком плече кувшин с родниковой водой, или хлопочет у очага, или обихаживает детишек, или…
Не знаю. Не знаю.
Зачем я думаю о ней? Разве не о ком думать на своей земле?! А, впрочем, не такая уж тут сложная философия: среди распада и жизненных печалей, закравшегося в душу неверия в справедливое устройство мира вдруг пронзительно и остро возникает потребность в красоте, может быть, и придуманной тобой, но пронзившей однажды душу теплым хорошим светом, как наша лесостепная августовская зарница…
Ничего не случилось тогда в Кочине. Не было продолжения. Просто был горячий, жаркий денек, был Кочин-порт, судовой электрик Андрей, внезапно воспылавший любовью к чужой индийской женщине. Были её глаза, все понимающий взгляд.
И мне хорошо сейчас от этого взгляда. И легче.
СЕНОКОСЫ ДЕТСТВА
– Опять про сенокосы?! – дряблая, розоватая кожа на его лысом черепе собирается в гармошку, в глазах наигранное удивление и плохо скрытая ирония. Он поднимается из-за стола, оставив початый фужер вина и девицу, небрежно пускающую дым из алого рта.
– Ну, спасибо, старик! – картавит он и преувеличенно бодро трясет мою руку. – Обязательно прочту, старик…
Ресторан гудит, отлаженно, с достоинством снуют между столиков зоркие официанты. И дым сигаретный величественно поднимается к дубовым сводам высокого потолка, к резным балкончикам и витражам готических окон. Тепло и уютно. А мне одиноко: каждый занят собой, приятельской беседой, разгоряченной напитками и острыми блюдами. Говорят об успехах, о славе… Но и у меня должна быть радость: в Москве вышла книжка, скромный такой по объёму томик. Я купил его в Доме книги на Новом Арбате. Зашел в этот ресторан литературного клуба, а знакомых – только вот этот тощий и бодрящийся возле молодой, но подержанной девицы человечек, с которым как-то свела судьба в совместной поездке на северный литературный праздник.
«Опять про сенокосы!» Мне, конечно, понятна незамысловатая ирония знакомца, его антипочвеннический настрой и едва прикрытая ирония. Разговаривать, снисходить до широкого общения он не собирается: ну, ездили…
Да, черт с вами, со всеми! – решаю я наконец, подхожу к стойке бара, выпиваю стакан сухого и выхожу в серую московскую вьюгу.
Зябкий, сумеречный, еще не поздний час. Тщетно кручу телефоны-автоматы в надежде пообщаться хоть с кем-то из однокашников по институту, осевших каким-то способом в Москве, пустив слабенькие, неуверенные побеги сквозь твердокаменный столичный асфальт. Мне пришло на ум – такое вот практическое! – как-то с запозданием, когда с легкой грустью покинул столицу и потерял временные студенческие возможности. И опять я оказался в своих лесостепных, солончаковых да разнотравных весях,
– Гав-гав! Приветствую тебя! – кидался ко мне широкогрудый, разомлевший на жаре, пес Тарзан. Пахло коровьей стайкой и подсыхающими на проволоке, растянутой поперек двора, распластанными карасями, озерной водой, огородом. Я знал, что опять я – ненадолго в гости, мать, охая, бегала из кути в сени – приехал! – семеня и запинаясь в своих «дворовых» калошах, собирала на стол.
Приходил со двора отец, улыбался глазами, подавал левую, не перебитую на войне, руку. Знакомо притаскивался сосед Павел Андреев, в рыжей щетине, в валенках среди лета, приносил старинный, неистребимый запах моршанской махры, устраивался на крышке голбчика, потом сползал на доски пола, до боли знакомо вертел свою «оглоблю», сладко пыхал и спрашивал:
– Однако, САМОГО-ТО там, в Москве, видел?
И я фальшиво кивал. А потом за разговорами, за куревом, за кудахтаньем кур во дворе и звоном подойника, невидимыми вроде бы хлопотами родителей, от которых они старательно ограждали меня по случаю приезда и «устатка с дороги», подкрадывался долгий июльский вечер с народившейся за дальним лесом луной и спелыми звездами. Острей пахло отсыревшей травой возле ограды, и огородные запахи ботвы поднимались вместе с исходящим от земли теплом в звенящее мошкарой небо. Я всматривался в вечерние сумерки, ловя душой и сердцем эти простые, до осязания памятные, звуки, вспоминал скрип мельничных крыл, что махали вон там, на взгорке, пугливый голос не слышной нынче перепёлки, веселый стук фургонных колес о сухую прикатанную дорогу, когда возвращались с совхозного луга звенья стогометчиков.
Ах, сенокосы! Поэзия моей сельской колыбели, сладкая пора малиновых утренних зорь, огуречная свежесть прохладной росы, незамутненная ясность распахнутого детского взора и великая вера в справедливое устройство мира… На все четыре стороны – полевые дороги, чистый свет родниковых небес и посреди этого пространства – наш старый дом под дерновой крышей, двор с курами и воробьями, с телегой и чугунком колесной мази у забора, так остро и дурманно пахнущий по утрам.
Вот отец выносит из сарая литовки, чуть тронутые ржавчиной, обтирает их смоченной в керосине тряпочкой, а затем уж неловко, со сбоями, раненой рукой стучит молоточком по их податливому, упругому полотну. Тук-тук-тук – откликается в других подворьях. И вся округа, весь раннеутренний восторг предстоящего дня исходит на монотонные, но такие сладостные для крестьянского сердца, железные, дробные звуки.
Вот отец заводит в оглобли телеги нашу комолую корову Люську, которую специально не пустили в табун. Люська покорно подставляет морду под хомут, переступает копытами, когда отец затягивает супонь и поднимает на седёлке.
Моя обязанность – смазать каждую ступицу колес телеги. А мама, отхлопотав возле печи и шестка, собирает в сумку нехитрую снедь – картовницу да яички, огурцы да молоко, да еще желтый шмат сала кладет в сумку. Наработаемся, съедим!
Еще надо не забыть бидон чистой колодезной воды. Там, на жаре сенокосных рёлок, – первая услада.
Уложены литовки, грабли, брошены на телегу какие-то драные лопотинки, чтоб мягче было сидеть, старенький дождевичишко на случай дождя. Отец отворяет ворота, мама по-мужски берет вожжи, садится на облучок. Пора! Люська косит черным блестящим оком на хозяйку, роняет слюну в сухую пыль ограды и, натянув гужи, трогается. Железные колеса телеги гулко стучат по кочкам, выносят нас на торную дорогу улицы, успевшей закаменеть после недавнего дождя и покрыться коровьими лепешками, опушиться по краям изумрудной щетиной конотопа.
Так мы едем и едем, монотонно и долго, минуя Засохлинский увал, движемся солончаковой степью, вдыхаем её терпкие запахи; недалеко сверкает блюдце озера – в зарослях камыша и осоки, а ближе к дороге, вывернутый колесами и копытами, сизоватый грунт с белым соляным налётом да красная, мясистая, какая-то неземная растительность. Она брызжет под железным колесом кровянистой влагой. Впереди плывут степью несколько других телег, опередили нас, выехали пораньше и тоже правят в Васильевские ворота, где столько рёлок, ягодных пустошей и колков. И трава, разнотравье июльское. И – самая пора – успевай закоситься, занять примеченную еще с прошлого года Палестинку с визилем, кукушкиными слёзками, с пением иволги и ремезиными гнёздышками в густоте старых берез, под которыми так хорошо укрываться от дождя, от грозы, где так веет груздя-ной прелью и мерещатся дивные сказки.
Когда-то потом, позднее, в зрелом возрасте, я пойму уже не только сердцем, разумом, всю скудность и бедность этого бытия: запряженную в телегу корову Люську, нашу поилицу-кормилицу, которой привольней бы гулять среди степных ковылей, а не напрягаться, не натягивать сыромятные гужи, не отбиваться от злых оводов, жадно набрасывающихся на голое вымя. И горячий пот из-под косынки матери, и неловкие, от увечной правой руки, отцовские прокосы. И частые передышки его, и наждачные всхлипы оселка над полотном литовки. А пока они, родители мои, помолодевшие, счастливые – вовремя поспели к хорошей траве, натокались на добрую поляну, а за ней, вон через молодой лесок, другая пустошь, где к вечеру можно напластать еще пяток копён.
Люська, привязанная за колесо вожжами, резво помахивает хвостом, захватывает языком сочную лесную траву. Я ворочаю грабельцами позавчерашние, подсохшие рядки кошенины, посматриваю на Люську. И невдомек мне, объятому счастьем детских видений мира, шмелиным гудом, шелестом стрекоз и близким пением иволги, что через какие-то недальние лета и года, «признают» у Люськи нашей неведомый нам бруцеллёз, понуждая сдать кормилицу на ближнюю бойню скота, поскольку где-то там, в верхах, напористо и энергично пообещают русскому крестьянскому человеку близкий рай и полное изобилие от государства. И верховный наш руководитель, поверив в магию и силу опрометчивых своих распоряжений, произнесет однажды перед иностранцами, при обильном правительственном застолье, сытохмельные слова: «Ешьте, пейте, господа! У нас, у коммунистов, всего много!»
Эх, Люська! Но мы еще станем сопротивляться, не веря «диагнозу» совхозного коровьего лекаря, что, заглушив стыд и утопив совесть в вине, чересчур рьяно выполнял волевое, всевышнее указание: «Вперед, к коммунизму!» Но без личных люсек и сенокосов, кои надо срочно распахать под посевы «королевы полей», без домашней, из-под вымени, кружки молока, от которой упругим соком наливается деревенское детство силои ума и здравым рассудком, солнечной сказкой о мире полнится душа, что потом и в зрелые годы станет держать в себе здоровый, протрезвелый дух, при котором человек не должен лихо споткнуться на многоликих ухабах жизни…
Но не сразу захиреют лесостепные мои дали и травы. Еще целое лето по вечерам будет тосковать в лугах перепелка. И в просторную загородку нашего двора, в этот домашний концлагерь для Люськи, поскольку ей откажут даже в соседней от дома полянке, буду я носить в мешке траву, нажатую серпом в болотной ляжине, да теплую, пахнущую морогой, озерную воду для Люськиного питья. Целое лето, аж до поздних заморозков, когда уже порыжеет и кипень отавы, когда задубеет и забамбуковеет озерный камыш, иней сморит огородную ботву. Терпение и воля кончатся. Прощай, Люська! Переживем, вынесем твой мифический бруцеллёз, не пристанет никакая хворь от твоего «заразного» молочка. Но – прощай. Пошагаем мы налегке – к самому светлому будущему, к коммунизму…
А еще через несколько лет повезут наш бескозырочный, матросский взвод – охранников Главного Военно-Морского штаба – на зеленых машинах в какое-то неведомое подвальное московское книгохранилище. И сам генерал в отставке, начальник этого книжного склада, прикажет – и ему приказали! – выдирать портреты из книг – того человека, что сакраментально произнес в недалекие годы: «… у коммунистов всего много!» И мы, люди военные, генеральский приказ станем выполнять тщательно и аккуратно, без особого, правда, рвения и вышколенного правительственной нашей частью старания.
Что же там происходило – в высших сферах? Нам ведь, нам обещал этот простецкого вида энергичный человек, вскинув однажды высоко над головой кулак с зажатым в нем увесистым кукурузным початком, нам обещал, тогда девятнадцатилетним, мол, «нынешнее поколение… станет жить при коммунизме!» Так же точно – через годы! – свершив криминальную революцию, пообещают нам продолжатели «дела» этого человека, демократы: «светлое будущее – капитализм!..»
«Бойцы, матро-о-осы, мор-р-ряки, переживем и этот культ!» – взовьётся в те дни, убеждая нас и себя, батальонный наш комиссар-замполит. И вспыхнут в памяти недавней – танки на Садовом кольце, и военные регулировщики на перекрестках. Подготовка к Октябрьскому праздничному параду? Нет. Другое что-то, размышляли мы взводом, проезжая по Москве в караул. Оказалось – в лязге танковых траков, в броне, шла в Кремль новая власть. Верней, её временщики!
Переживем и…
Но Люська, наша кормилица Люська! Сколько тебе осталось шагать в тесном, немыслимом хомуте, в оглоблях, по сухой горячей дороге? От скольких паутов, комариных полчищ предстоит отбиться на зеленых лужайках и пустошах, пока хозяева твои «тяпают» за прокосом прокос – один под проценты совхозу, другой – на собственное подворье? В каких еще травах и росах искупается раннее мое, незамутненное горькими думами, детство?
Вот уже солнышко высоко-высоко забралось в полуденный зенит. Жарко. И птицы-иволги смолкли, притихли. И теперь уж по всему сенокосному краю потянулись косари в тень телег и фургонов, расстилают платки и полушалки, распаковывают, расставляют крестьянскую снедь. Обедать пора! Неведомая сила, само земное притяжение, удесятеренное усталостью в теле, тянет распластаться на полянке возле тележного колеса. Береза над головой пошевеливает вислыми ветками, говорливой листвой и крепкими сережками, на одной из которых устроилась стрекоза, да муравей путешествует по белому стволу, да где-то рядом звучно и грозно гудит шершень. Но достанешь из сумки свежий огурец, отломишь хлебную корочку и так аппетитно похрустываешь, запивая молоком из бутылки. И тебе вовсе неведомо пока, каким счастливым состоянием души ты обладаешь. Ведь не будет потом, через многие годы, таких вот самых пахучих в мире трав, самой волнующей иволгиной песни, синевы над головой, близких и теплых вздохов Люськи, что тоже нагулялась, прилегла на полянке и смотрит на хозяев большими добрыми глазами.
Останутся эти сенокосы где-то на донце сознания и души, как теплый комочек изведанного счастья.
Но будто нервные токи охватят тебя, будто химические дожди прошумят над головой, что станет тебе в этом мире неспокойней и горше, но… однажды в аргентинском порту Мадрин разбудит меня петушиный голос.
Осветит каютные уголки субтропическое солнышко другого полушария. Глянет первым лучом в иллюминатор, будто в оконце далекого – во времени и пространстве! – деревенского, сибирского сенного сарая. И вздрогнет счастливо сознание моё и душа, генная память крестьянского человека: пора вставать, косы налаживать пора, на сенокос сегодня!..
Или в белых миражных далях восточной Арктики вдруг пригрезятся степные да полевые дали с березовыми колками, с теплыми воспарениями и струящейся дрожью сизоватого воздуха, то вырастая, то прижимаясь к пространству, движется телега, издалека постукивая и гремя уложенными в нее вострокрылыми косами. Белый мираж!
До сих пор в причудах света
Так и вижу наяву:
Кто в белом поле этом
Косит белую траву…
Опять про сенокосы?!
Шагаю сквозь мутную и колючую московскую вьюгу, просвистевшую уже разудалым русским свистом закоулки, колодцы дворов старинного центра столицы.
Всегда любил я картины этой зимней старинной Москвы…
Редкие прохожие. Приземистые двухэтажные особнячки в тяжелых шеломах крыш чудятся мне зародами и кладями, аккуратно уложенными в знойном июле. Да – про сенокосы! В пору ракетных громов, потенциальных и реальных чернобылей, в пору экологических и нравственных катаклизмов, в пору сумасбродства масскультуры, мне, повидавшему виды в разных уголках планеты нашей, так хочется еще раз напомнить о первоосновах – о свете, о добое, что заложены в нас детством и зеленым миром природы.
Может быть, еще ничего не поздно? Вернуться к первоосновам? И возвысятся думы о простом естестве жизни, которую в эгоизме и жажде вещного накопительства, жажде удовольствий и власти, сам человек подталкивает на край пропасти.
Будьте ж вечны и благословенны вы, сенокосы детства!