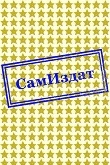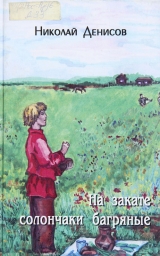
Текст книги "На закате солончаки багряные"
Автор книги: Николай Денисов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц)
Дул холодный порывистый ветер.
Но во фляжке согрелась вода.
Нашу встречу и тот зимний вечер
Не забыть ни за что, никогда.
Руку ему сохранил хирург-грузин в тбилисском госпитале. «Оставь хоть для приличия!» – попросил хирурга отец, когда понял, что госпитальный врач собрался «отчикнуть» руку, болтавшуюся на сухожилиях.
Когда немцы стали угрожать Кавказу, победно катясь к Сталинграду, к Волге, тбилисский госпиталь перевезли на пароходе через Каспийское море – в Красноводск. И уже оттуда, путями-дорогами Средней Азии, как раз к посадке огорода, прибыл отец домой. Шапка, шинелишка со спаленной до пояса полой – чьё-то б/у, выданное в госпитале. Рука в бинтах, на белой шейной перевязи-помочи, точно спеленутая кукла, лежала на груди.
Из ближних к нашему окраинному околотку пятистенок уже получили похоронку Никитины. На Ивана. С ним отец «вместе пошел в последний бой, а потом ни среди раненых, ни среди уцелевших его не видел».
Вскорости вернулся с покалеченной рукой сосед Павел Сергеевич Андреев. А кто-то опять, как в доме Никитиных, где осиротела куча малых ребят, зашелся стоном и ревом…
Где-то гремела война, а сибирская весна, вызеленив первой травкой окуневские взгорки, требовала продолжения жизни. И первым делом следовало не упустить сроки – воткнуть в чернозем прочикнувшиеся уже семена картошки. Так что, нянча на груди руку, недолго отдыхал наш красноармеец на печи, куда худому, ослабевшему, всякий-раз помогала ему забираться мама.
Первое майское дело – копка огорода перед посадкой. Как ни ловок бывал в прошлом крестьянин, а с одной левой рукой – выходило плохо. Притянув черенок лопаты к здоровому боку поясным солдатским ремнем, поддерживая черенок левой рукой, а ногой заглубляя штык лопаты в землю, отец ударял по лопате пинком, переворачивая и рыхля ком за комом. Жалкая эта «рационализация» (а приходилось напрягаться всеми жилами) скоро сказалась. Отца бросило в жар. «Не ладно с тобой, отец!» – загоревала мама. И пошла запрягать корову Люську.
Тридцать километров до райцентра, до районной больницы, до спасителя Мануиловича, опытного хирурга, скрипели полевой дорогой целый день. Мануилович ухватил в самом начале вспыхнувшую гангрену, исполосовал чуть ли не до костей руку, срезая воспаленные куски мышц. И опять, как в тбилисском госпитале, повезло отцу. Осталась рука – не только «для приличия», впоследствии он худо-бедно тюкал ей, держа отбойный молоточек, налаживая на сенокос семейные литовки. Мог прихватить гвоздем и доску забора. Вот только писать пришлось левой.
В ту же пору, летом сорок второго, в трудовой книжке отца (постановлением Совнаркома СССР их ввели накануне войны) значится запись: принят слесарем МТМ в Бердюжский мясо-молочный совхоз. Надо было! Хотя изо лба и из коленного сустава еще прочикивались сквозь кожу осколочки мины. Отец усаживал к лампе шестилетнего Сашу, просил поковыряться иголкой, помочь выбраться железу на волю. «Слесарство» – понятие в те дни всеобъемлющее. В мастерской не осталось ни одного приличного специалиста по металлу и по токарному делу. Не зря, уходя на войну, отец наказал матери сберечь сумку с токарными инструментами, в том числе с точнейшими – на микроны – измерительными приборами. На Магнитке ими запасся, в Кировграде на медном заводе, в походной мастерской Уктузской МТС, где перед призывом на фронт работал по «брони».
Вчерашняя орда и ухабаки – гроза деревенских огурешников, двенадцати-тринадцатилетние отроки, приспели в ученики токаря. Запустили токарный станок. Как? В Европе не поверят! С помощью передаточных шестеренок, вала отбора мощности, кустарных приспособлений станок, на котором отец взялся вытачивать тракторные и машинные поршни, кольца поршневые и прочие точнейшие детали, вращала воротом пара быков. Гоняла их по кругу совсем зеленая пацанва.
Монотонная бычья ходьба длилась часами, погонщик, усевшись с вицей на сиденье, что приспособили от сеносилки, задремывал, клевал носом, быки, пуская слюни, переходили на «малые обороты». Тогда из токарки кричали: «Заснул, тетеря!» Кто-то выбегал с горячими картофелинами и совал их под хвосты быкам. Дурея от подогрева, быки переходили на рысь, а то и мах. Их скорость сообщалась валам и шестерням. Резец станка заводил удесятеренную мелодию.
Зримо помню железную эту мелодию станка, кудряшки металлических стружек с той поры, когда в соседнем от токарки бревенчатом промазученном строении застучал нефтяной движок «Болин-дер». А вскоре, после войны, МТМ обзавелась настоящим дизелем. И начал он вращать электрический генератор. Серьезным этим хозяйством заправлял пугавший нас сосредоточенным, пронзительным взором дядька с трудновыговариваемыми именем и фамилией – Иоган Иоганович Рейнгард. В черной фуфайке, в кожаной фуражке. На околыше которой пугающе блестели стекла защитных очков, прямой, будто кол, он ездил по улице на единственном в нашем селе велосипеде – с фарой на руле и оранжевыми блестками на педалях. Смотрел Рейнгард только вперед, не отвлекаясь на увязавшуюся за велосипедом собачонку, исходившую злобным лаем.
«Мы, немцы Поволчья!» – значительно, с акцентом заключал он. Ладно. Про немцев пацанве нашей рассказывать не надо было. Только война отгремела. Но это «Поволчье» пугало неизвестностью, веяло тревогой.
Впрочем, наши мужики называли Рейнгарда по-свойски – Иван Иванович.
Вообще, если взглянуть бы в ту пору с высоты птичьего полета на территорию мастерской, то можно было бы обозреть отдельные островки на замазученной, уталованной ногами и колесами территории: строения токарно-слесарных цехов, помещения аккумуляторной и медно-лудильного цеха, где чинились радиаторы машин и тракторов. Отдельно стояли амбары с тяжелыми навесными замками. Там, на полках, в смазке и серой бумаге хранились запчасти. Отдельно сарай с бочками горюче-смазочных материалов и высокая башня сушилки, с прилегающим хлебным током, зерноскладами. Здесь-то и кипела работа. Яро, радостно. У ворот зерноскладов урчали тяжелые «студебеккеры». В них грузили зерно, отправляли на элеватор – в Ишим.
Но эти «студебеккеры» – заезжие, городские. Мы, пацаны, ценили и ревниво наблюдали за своими машинами. Вдобавок к отбегавшему пикапу, к полуторке Володьки Добрынина пыхал газогенераторным устройством «ЗИС-5». Зеленая фанерная кабина, такой же дощатый кузов. У «ЗИСа» неспешный шофер – Тимофей Долматович Долгушин.
Ездил Долматович и на других машинах. Впоследствии, помнится, он шоферил на бензовозе. Но этот «зисок» с двумя «самоварами» по обе стороны деревянной кабины, с гремящими в кузове сухими чурочками был, наверное, «лицом» послевоенного транспорта.
– Долматович, ну подбрось газку! Ползем, как улитка хромая! – нетерпеливо ерзал на сиденье кто-нибудь из мужиков, оказавшийся пассажиром.
– Само то – тридцать километров в час. Тише едешь, дальше будешь. Вчера вон торопился из Ишима, смотрю, стрелка спидометра аж за сорок полезла. Свету в глазах не было, как летел. Дак надо было!
На «зисках», на полуторках, на довоенных «фордзонах» с огромными упорными шипами на колесах, на маленьких, точно конек-горбунок, «универсалах», на «натике» да на бескабинном, чудовищно огромном «ЧТЗ» с адскими гусеницами дошкандыбали мы до сорок восьмого года.
Отцвели по лету незабудковые полянки возле ряма, отволновались на ближних колхозных увалах ржаные посевы. Отгремели по кочковатым проселкам пароконные фургоны, отвозя на тока зерно. До белых мух колготился в полях, дожиная клочки, единственный в колхозе «Красное знамя» прицепной комбайн «Сталинец-6», буксируемый то колесным тракторишком, то (при его поломке) сменяемый парой быков. Кончили с уборкой. Ни одной недожатой полоски, как в пору войны, не оставил под снегом комбайнер Александр Замякин на колхозных, ближних к селу, полях. И на совхозных пашнях, что сеяли за лесами и колками, собрали хлеб до зернышка.
Запуржила снегами, завыла метелями зима. На скованных льдом озерах заволновалась от предвкушения клюшечных сражений ребятня, накрутив на пимы веревочными (реже сыромятными) креплениями коньки «снегурки» и «дутыши», над коими потрудились, точа их напильниками и тяжелыми рашпилями до блеска, до ножевой остроты.
Но кончилась моя воля вольная. Посадили меня к зыбке-качалке баюкать братика Вовку. Зыбка каким-то манером сразу возникла в нашем дому. Скорей, отыскалась на чердаке со времен моих молочных годочков – четыре-деревянных бруска, сколоченных четырехугольником, обшитых мешковиной. Самая главная деталь зыбки – пружина от комбайнового хедера, хорошо раскаченная, сохраненная в куче железяк возле стайки иль в том же чердачном хламе.
В зыбке возникли две магазинных – из сельпо – игрушки: пластмассовый яркий попугай, бренчащий запечатанными внутрь горошинами, и такая же разноцветная круглая погремушка с кольцом. Попугаем должен был бренчать нянька, отвлекая мальца от рёва. Вовка то и дело оглашал им пространство дома. А погремушка предназначалась самому Вовке, за неё он, сразу заинтересовавшись, уцепился и потащил в рот. По этой причине я не спешил распотрошить погремушку, а попугая лишил «голоса» сразу, отворил ножом щель в пластмассе хвоста. Горошины выкатились на ладонь и были тотчас съедены. Испугавшись разора, попытался я протолкнуть в немое нутро попугая шарик от подшипника, но с первой попытки не получилось.
Нянька выходил из меня не сильно ловкий, но постепенно я перенял от взрослых умение делать пальцами «козу», нюхать Вовкин «кисет», при этом дурашливо чихая, отчего братик веселел глазами. А когда мне надоедали эти развлечения, принимался зыбать колыбель, да так, что стонала пружина, укрепленная под потолком. И мама не выдерживала: «Не убей ребенка!» – Я отвечал: «Это я шторм на море изображаю! Пусть привыкает!»
Баю-баюшки баю,
Колотушек надаю.
Колотушек двадцать пять,
Засыпай скорей опять,
А то деушки придут,
Вовку стащат-украдут…
К Новому году Саша принес из ряма сосенку, поставил в горнице, укрепив для устойчивости на полу и проволокой за потолочное кольцо, обвешал самодельными цепями и снежинками. Саша вырезал их из бумаги, красил цветными карандашами. Сосна, обложенная у корня серой – из старого матраса – ватой, простояла едва ли не до весны, растянув, рацветив и новогодие, и скудное убранство горницы.
Конечно, заветным украшением горницы были – парный «патрет» родителей времён их ранней молодости, рамки с карточками родни да крестообразная доска иконы с Богом Савоофом и двумя ангелами. Одно «плечо» деревянного иконного креста было отколото. Кто-то покушался на Савоофа с ангелами? Уж не батя ли в свои комсомольские годы?!
Единственной не самодельной игрушкой на сосне был физкультурник. Саша принес его из школы как награду за какие-то успехи, и повесил для наглядности на пушистую ветку. Физкультурник смешно махал руками-ногами, делал упражнения, едва дернешь его за нитку. Висеть спокойно этому диву я не давал. То и дело снимал игрушку с места, тащил к Вовкиной зыбке, пытаясь развлечь братика. Он уже начинал переворачиваться в пеленках со спины на живот, хватко цеплялся за раму и веревочные стропы. Пока он пребывал в бодром игривом настроении, приходилось зорко стеречь мальца, чтоб не выпал из зыбки. Мама временами отрывалась от своих хлопот, брала Вовку на руки, чтобы покормить грудью. Начмокавшись, он млел на руках мамы. Потом окончательно затихал – засыпал. Его укладывали на свежую пеленку под одеяльце, занавешивали зыбку тряпицей. И я тихо садился на лавку, приникал к морозному окну, за которым багровело вечернее солнышко, постепенно проваливавшееся в малиновые полосы заката.
Огненные эти закаты и сегодня царапают душу ощущениями неповторимости той поры. В холодных ночах, со льдинками звездного неба, сверкающими колюче и ярко, над селом вдруг вылущивался новорожденный серпик месяца. Стоял на «роге». Стояние это не сулило оттепелей, до полнолуния уж точно не сулило.
Морозное утро начиналось со стрекота взъерошенной сороки на коле, с парной картошки в большом чугуне, что варилась и курам, зимующим в избяной загородке, и наминалась в пойло для коровы. По сумеркам еще, получив в кормушку беремя сенца, надерганного из зародчика старшим братом, корова первоначально выбирала из сена визиль и цветочки, отпихивая мордой грубую траву на потом, ждала теплого пойла. Поить корову обязанность брата. До школы, куда летел он ко второй смене, назначалось ему чистить глызы в стайке, наколоть дров для вечерней топки печей. А если поспеет с домашними уроками, то и притартать с озера воды – несколько коромысел. Коль не поспевал с водой, тогда мама обряжалась в отцовы брюки, «чтоб мороз не хватал за голяшки», перепоясывала большой шалью фуфайку, надевала глубокие пимы, шла суметами к проруби.
Холод. Ледяная озерная звень. Она плавала ледышками в деревянной кадушке в кути, добытая под метровым льдом, пахнущая илом, донными водорослями.
В воскресенье – все дома. С утра, в любой мороз, исключая метельные дни-завирухи, мы с Сашей принимались откапывать от снега ямку-погребок. Добравшись до западни-крышки, спускались по лесенке в яму – к летне-осенним припасам. И вскоре на лавке в кути воцарялись увесистые бомбочки калеги-брюквы, морковка, хвостатые свеклы, а в большой миске – холодные пласты квашеной капусты, добытой из кадушки. Еще довесками – смуглокожие, скользкие, набрякшие рассолом огурцы. С приходом отца с работы, вечером начинался ужин-пир. Хороший, дружный, умиротворенный.
Но стоит в глазах иной морозный день. Пожалуй, он из другой зимы – из пятидесятого года, когда по осени надлежало мне пойти в первый класс.
Был то ли январь, то ли февраль. За окном все те же, привычные глазу, сугробы выше прясла, лишь в проеме ворот – с улицы и со двора прорыт снежный туннель, по которому утром ушла в дровнях корова Люська. Отправились они вместе с мамой за сеном к Дворникову болоту. Там, у болота, распочат зародик сена, надо хоть по паре центнеров вывозить домой, пока не наткнулся кто из лихих людей, не увез на своих санях. Случается это среди наших сельчан редко, но все-таки надо прибрать сено в свою загородку. Отцу некогда: мастерская и куча забот отнимают все дневное время. Саша тоже рано усвистел на занятия (нынче он с первой смены учится). А мама – домохозяйка. И «без трудовой книжки», как порой поддевает её батя, когда они о чем-то заспорят.
Отца недавно избрали в сельсовет. По селу прокатился яркий, узорчатый праздник – выборы! Окунёво задолго до выборов обрядилось в кумач, расцветив не только двоеданский наш клуб с портретами Ленина и Сталина возле сцены-клироса, но и школу, дирекцию совхоза, сельсовет. Флаги и лозунги-призывы приколотили и на столбы ворот, и на углы старинных сосновых домов. В день выборов летали по улицам украшенные кумачом кошевки. Кони в лучшей сбруе, колокольчики, дуги, перевитые лентами. Упряжки с веселым народом ярились с самого утра. Отец нацепил тогда к пиджаку медали. Мама достала из сундука ненадеванное платье. Затемно пошли голосовать на участок, откуда принесли кулек глазированных пряников.
Хороший праздник – выборы!
А нынче мы с Вовкой одни дома. К полудню наше жилище выстывает и по полу, от порога, ощутимо несет стужей. Лучше всего забраться на печь, где место кота, но и нам хватит простору и тепла. Правда, Вовка последнее время повадился отколупывать печную глину и тащить её в рот. И мама наказала, чтоб я следил и не дал ему подавиться «печиной». Я знаю, что у всех так бывает – «чего-то в организме не хватат, когда рост начинается». Братик, как и я между делом, подрос, научился – сначала возле лавки – ходить. «Летат» в своих овчинных носках, «только шуба заворачи-ватся», как говорит бабка Авдодья-Пашиха. Но сейчас лучше сидеть нам с Вовкой на печи, куда я с трудом затащил брата, перевалив через высокий опечек.
В кухонных окнах пасмурно, сквозь узоры на стеклах, в мутных прорехах льда видно, как скользит по сугробам поземка. Зашевелилась метелица. К вечеру может и падера подняться. Жмемся к печному теплому чувалу. В чердачных высях, в трубе, начинает дышать и подвывать ветер. Скорей бы уж мама с Люськой вернулись! Но первым придет, конечно, Саша. Ему наказано, чтоб не задерживался нигде после уроков, а сразу являлся в дом, где одни малые, то есть мы с Вовкой. Братик, пригревшись на кирпичах и немного подремав, принялся за свое – колупать печную глину. Вынешь у него ее изо рта, утрешь щеки тряпицей, он лезет в проём между чувалом и стояком кухонной полки. Только успеваю хватать его за ноги, только и ловлю, чтоб не сбрякал. Нырнет на самовар или на чугунок с картошкой. Ладно шишкой или рогом на лбу обойдется это ныряние. А то ведь и «захлестнется насмерть», как предупреждали меня взрослые.
Не уследил я. Только слез с печки за кашей, что сварена для нас с Вовкой и поставлена в цело печки за заслонку, как Вовка свалился на плиту, зашелся ревом. Рев этот не страшен – плохо то, что Вовка не просто ревет, он закатывается. А когда это происходит, то синеет он весь, руки и ноги не шевелятся. Тогда мы все тоже боимся пошевелиться, понимая, что может «кончиться ребенок». Это с испугу. Не знаю я, с какого такого испугу, но так говорят взрослые. Я видел, как мама не раз мыла братика с «угольков» – водицей, нашептанной бабкой Пашихой.
На этот раз Вовка, набив на лбу синяк, просто проревелся, а когда я заволок его снова на печь, положил на подушку, взялся реветь и сам. И так горько было, и так одиноко в дому в ту морозную пору, что состояние это живо во мне и по сей день. Может быть, и было это предвестником грядущего страшного дня, что придет в такую же холодную, трескучую зиму – ровно через год, когда братика не станет…
Умер Вовка рано утром. С вечера в доме говорили, что «никакой надёжи нет», «сколько еще промучится, когда отойдет?!». Потому с вечера, заправив лампу керосином, поставили её на печку, где на подушке, слабо постанывая, задыхаясь, отходил братик. Я все понимал и не переставал плакать, устроившись поближе к брату – на кромке полатей. Взрослые, я чувствовал это, смирились уже с итогом. Мой плач то накатывался отчаянным ревом, то уходил вглубь, но слезы шли не переставая. Будто ручьи по прошлой весне, когда мы простудились оба, провалившись в снежно-водяную кашу на дворе. Я отделался какой-то золотухой, а Вовка так и не выздоровел окончательно, протянув свое пребывание на земле еще на несколько месяцев. И всё в болезни – то в жару, то в хриплом кашле, от которого он синел, а потом забывался холодным сном.
Два дня я не ходил в школу. В первый день под вечер отец принес из мастерской маленький гробик, и Вовку положили в него ночевать. Утром следующего дня отец ходил в сельсовет, ему выписали документ, где я прочитал потом, что причина смерти – рахит. Что это за болезнь такая, никто и не разъяснил тогда. Только бабка Пашиха, она пришла к нам, когда Вовку собирались выносить на холод и везти на двоеданские могилки, сказала: «Не плачь, Катерина. Бог дал, Бог прибрал к себе».
Хоронили братика в могилу бабки Хионьи Долгушиной, что умерла несколько дней назад, и морозы еще не успели заковать и запечатать накрепко её глиняный холмик. Возле разрытой Хионьиной могилы стояли с лопатами и ломами какие-то мужики. Они показывали на боковую нишу в глубокой яме рядом с длинным белым гробом Хионьи, говорили, что «там ему будет хорошо лежать, неодиноко». Потом открыли крышку гробика, меня подтолкнули поближе и сказали, чтобы я наклонился и поцеловал братика в лоб. Я так и сделал. Слез уже не было.
Прошумели десятилетия, железный восьмиконечный крест, что поставили мужики во вьюжный февральский день 1951 года, сохранился, уцелел в отличие от соседних деревянных (их разметало время, источили дожди и степные ветры). Этот крест позволил нам, братьям, легко отыскать могилу Вовки. И поставить рядом с крестом пирамидку, что самолично сварил из железных пластин «самый малый» из нас – Петя, материн поскребыш, родившийся уже после Володи. Со звездой сварил пирамидку. Тогда всем венчали памятные пирамидки не крестами, а красными пятиконечными звездами. Как солдатам, бойцам.
ЗА ХЛЕБОМ В МАГАЗИН
Печеный хлеб продавали в рабкооповском магазине только совхозникам, и ходить за ним, биться в очереди была моя обязанность. Дело это чрезвычайно ответственное, как же оставить всю семью на день без куска хлеба! А такое случалось с теми, кто ленился, не хотел встать пораньше. Продавец Иван Андреевич снимал с тяжелой двери внутренний крючок, и народ, круша преграды, кидался к прилавку. И хотя первоначальная стройность очереди превращалась в место сражения, все же народ строго бдил, чтоб не попали к прилавку «последние» или, как принято было именовать, «крайние».
Однако какой бы зоркий глаз не следил за правильностью очереди, как бы бабенки не взрыдывали от отчаяния: «Понужните этих ухабак, чтоб не наглели, ведь только подошли и лезут!», случалось всякое. «Ухабаки» – красномордые, сильные молодые мужики проникали сквозь людскую массу к весам и гирям, как нож сквозь масло. Рубежная твердыня прилавка, прочно сработанная из толстых досок-пятидесяток, в это время глухо скрипела, вздрагивала при отчаянном, но бесполезном напоре задних рядов. Мужики, какие-то заезжие, при деньгах, так же скоро получали хлеб и, соря пуговками, каким-то образом успев воткнуть себе в зубы «беломорины», выпрастывались на волю.
«Проглотив несправедливость», масса очереди, занимавшая передовые позиции, начинала свалку, вздымая над головами воздетые в потных ладонях трешницы и рубли, и только, может быть, к середине, где хватко держались друг за друга дисциплинированные и совестливые люди, очередь немного притихала.
Иван Андреевич, мужчина чуть выше среднего роста, моложавый, с гладкими щеками и белесым чубом, буквально царил, священнодействовал по ту сторону прилавка. Одним движением руки выхватывал он из мешка еще горячую, пышную белую буханку (мне помнится, пышными и белыми были эти буханки), кидал её на весы. Буханка едва касалась или не касалась их вовсе, а продавец уже принимал другой рукой комканые рублевки, совал медяки сдачи. Иногда к буханке прицеплялся в колдовском действе довесок, отхватываемый длинным ножом от дежурной, довесной буханки, тоже на лету, в гомоне напирающей бучи. Все это создавало впечатление точности и правильности «отпускаемого товара». Никто, ясно, и не торговался, не проверял и не перевешивал эти свои положенные в одни руки два кило. Будь доволен, что досталось, что не идешь домой с пустыми руками из этого «светопереставления».
Конечно, Иван Андреевич (фамилию его не помню) священнодействовал за прилавком не без пользы для себя. Обвешивал он совхозных тружеников здорово, но при встрече с ним на улице всяк был рад поприветствовать бравого продавца, а потом за глаза назвать умельцем, а то и покруче – проходимцем.
Была в этих хлебных ристалищах категория покупателей, которые пользовались привилегией, получая свою буханку без очереди, с полного согласия бушующего у прилавка народа. Привилегии этой удостаивались носильщики хлеба из совхозной пекарни, просторное строение которой белело известкой стен невдалеке от магазина, на берегу озера. По ночам ее окна светились, черная труба дымила, а пекарня пускала в небеса нежный хлебный дух. Чтоб получить, нет, буквально вырвать из рук Ивана Андреевича пустой мешок, который он выбрасывал из дверей, чуть их приотворив, надо было мгновенно кидаться в драку, что могли сделать только те, кто заняли очередь с ночи одними из первых, не сдавали никоим образом свою позицию на крылечке перед магазинной дверью.
Потом надо было наперегонки бежать рассветным проулком к этой пекарне, чтоб и там занять очередь за горячими буханками, только-только вынутыми из печи, отходящими в истоме на чисто вымытой деревянной платформе. Могло ведь случиться, что Иван Андреевич кинул «на драку собакам» тринадцать пустых мешков, а хлеба в пекарне хватило бы только на двенадцать. И последнему приходилось уныло следовать за вдохновенными носильщиками наполненной мешочной тары, брести в сомнении, что сумеет воспользоваться законной привилегией!
Все это происходило в любое время года. Действа мало чем отличались друг от друга, но у меня почему-то решительно выпали из памяти и осени, и весны. В эти охотницкие месяцы – отец иль кто-то из братьев добывали, конечно, утчонку, чирка или лысуху-гагару, которых в разделанном, опаленном виде, с перьями даже, можно было поменять на калач, круглую булку из ржаной муки у соседей-колхозников.
Но запеклись, закуржавели в памяти ранние зимние утра, когда полная луна еще высоко стоит в небе. Искрящиеся под лунным светом суметы снега за воротами бросают на накатанную санную дорогу синие тени. От стаек, от крыши дома, от тополя перед окошками, а далее, в улице, где начинаются столбы с проводами и горит расточительный свет электрических лампочек в окошках домов, тоже синеют тени. И, конечно, уже пластаются первые дымы из труб, у печей гремят вовсю чугуны, ухваты, сковородники.
Скрипит под валенками, подшитыми неумелой отцовской рукой, морозный снег. Эти скрипы оглушающе гулки в настороженном ледяном воздухе. В ближней от нашего дома колхозной конюшне дремлют стоймя рабочие лошади и только неспокойный вороной жеребчик пугливо ударяет копытом о прочную загородку, почуяв скребущуюся возле овсяной кормушки мышь.
Все эти краски и звуки просыпающейся окрестности чаруют. И можно было бы вполне удовлетвориться скромным их описанием, если бы получасом ранее под крышей нашего дома не кипели страсти, не вздымался угрожающе в руке отца солдатский ремень, не шарил в тесноте палатей ухват или сковородник, стремясь добыть меня из-за баррикады пимов, сбоек сухих карасей, чтобы поднять и снарядить в поход за хлебом. Вставать-подниматься было тем тяжелей и невыносимей, что я лишь два часа назад заснул, отложив книжку, которую читал до той поры, пока не кончился в лампе керосин.
В такую глухую, разбойную пору на крылечке магазина можно было встретить завернутого в тулуп сторожа Колю Ивлева с торчащими наружу стволами куркового ружья-двустволки. Ивлев – известный в селе охотник на лис, коих он при своем почтенном уже возрасте гоняет на лыжах по снежной целине, пока зверь, умаявшись, не теряет силы… То, что Коля Ивлев один на крылечке, не говорило о том, что ты вот такой герой, сумел прийти вперед всех. Нет, сторож нес в этот час показательную службу. А народ, пришедший раньше тебя, колготится в теплом закутке сторожки, поминутно прибывая, с каждым новым очередником, впуская в сторожку клубы холода, которые тут же теряются в дыму курцов и волнах жара от раскаленной печурки.
За стеной сторожки, сутулящейся рядом с продуктовым складом, мы, ребятня, как-то узрели несколько ящиков крупных, какие у нас не растут, замороженных яблок, в печальном своем великолепии похожих на конские глызы. Товар был завезен издалека, но товароведы и кладовщики не уследили, когда с наступлением стужи это яблочное великолепие превратилось в брак. Но все-таки из яблок можно было высосать кой-какую сладость, конечно, лишенную первозданных ароматов. Несколько дней пировала орда, совершая набеги к рабкооповскому складу, а когда уж надоело грызть эту мерзлоту, нашла прямое для этих «глыз» назначение. Хлестали эти круглые «мячики» клюшками; метали друг в друга во время потасовок на снежных сугробах. Из-за этих снарядов кто-то обзавелся под глазом лиловым фонарем.
Летом ответственность по добыче буханки хлеба многократно возрастала. Хотя летом пища наша и приобретала разнообразие благодаря огороду, несущимся курам, рыбе с озера, а все же без куска хлеба тоскливо, особенно на покосе! В летнюю пору я обычно просил у мамы хлебную трёшку еще с вечера. Она вынимала деньги из-под клеёнки горнешного стола, разгладив на столешнице, совала мне в карман, наказывая:
– Смотри – не потеряй!
– Заметано! – восклицал я, вырываясь на волю. Теперь буду носиться в компании орды до глубокой печи. Встретив и стадо у околицы, наигравшись и в войну, и в прятки, скоротаю время…
В то утро, вернее, во второй половине светлой летней ночи, пришел я к магазину первым.
– Ты чей будешь такой ранний? – спросил сторож. – А-а, Василья Ермиловича… Ну так чё тебе сказать, парень, жди. Может, чё и дождешься. Сёдни только Иван Андреич торговать не будет…
Случалось, что Иван Адреевич не открывал свою хлебную точку, занятый какими-то делами. Тогда хлеб продавала Марикова. Нюра Марикова, пожалуй, была фигурой поизвестней и популярней всех в селе. Работала она в своем магазине смешанных товаров – вечно. Ну, сколько я помню. С той поры, когда носил через всё село суп в кринке для отца в мастерскую. Так вот, когда взрослые говорили про «рабкоп», предполагалось, что это тот рабкоп, где за прилавком Марикова.
Магазин этот, он по соседству с хлебным, настоящий магазин – с вывеской над двухстворчатыми, окованными толстыми полосами железа входными дверьми. За входными, отпирающимися – на крыльцо, тамбур, из которого можно попасть внутрь через легкие двери, верх которых представлял застекленную раму со множеством деревянных перекрестий, расшатанных, скрипучих, но весело звенящих стеклышками при всяком маломальском хлопанье. А хлопали ими часто. И если магазин Ивана Андреевича, срубленный из местных березовых бревен, крыт был еще редчайшим на селе материалом – серым рифленым шифером, то «рабкоп» Мариковой гордился настоящей четырехскатной крышей из старинного железа, с вензелем страховой компании и двуглавым орлом – на торце угла, слезившегося смолой из потемневших сосновых бревен. Внутри магазина нас, ребятишек, интересовали не куски и рулоны мануфактуры – ситцев, сатинов и бумазеи, лежавших на прилавке для доступности и для разглядывания бабами, не глубокие резиновые бахилы для пимов, не охотничьи ружья – ими интересовались серьезные мужики. Занимали нас конфеты и резиновые шарики для надувания, что лежали в застекленной витрине. Они именовались «резиновыми изделиями Баковской фабрики № 2» и стоили сорок копеек.

– Ну что, ребятишки, за шариками пришли? – спрашивала Марикова, стеснительно отирающихся у витрины мальцов. – Деньги есть или на яйца?
– На яйца! – обрадованно совал продавщице кто-то из нас пару куриных яиц, чаще всего стибренных у матери из шкафа или прямиком из куриного гнезда. Мы, конечно, знали настоящее назначение этих «шариков», отсюда и возникали проблемы с их покупкой, о которых тотчас забывали, едва, миновав порог магазина, приступали к состязанию: чей «шарик» надуется до больших размеров и не лопнет.
Серьезно занимал ребятню и дощатый ларёк, приткнувшийся к боковой стороне мариковского магазина, где в толстых стеклянных кружках и в граненых стаканах продавался сладкий морс. Ларек открывался обычно к вечеру, когда совхозный народ возвращался домой из дирекции, с зернотока, из мастерской. Тут уж никакой труженик не пройдет мимо. Задержится, чтоб взять стакан малинового, приготовленного из концентрата напитка.