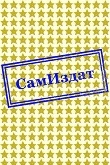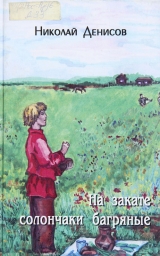
Текст книги "На закате солончаки багряные"
Автор книги: Николай Денисов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 20 страниц)
Стёрлись и прощены памятью наши детские обиды и разочарования. Но навсегда осталось в душе чистое и сказочное чувство к миру, которое запало в сердце в юную пору и которое жалко и страшно растерять теперь до срока.
ДЕВОЧКА С СИНИМИ ГЛАЗАМИ
Незадолго перед новогодними праздниками в нашем третьем классе появилась новенькая. Учительница Анастасия Феофановна на первом же уроке поставила ее перед классом у доски, сказала, что звать девочку Нина и она будет учиться с нами. Добавила, чтоб новенькую никто не обижал, а она поскорей освоилась и подружилась со всеми.
– У-у! – глухо прогудело в холодном классе.
Анастасия Феофановна усадила новенькую за парту рядом с неторопливой, спокойной Зинкой Субботиной. Девчонки, наверное, познакомились раньше, они по-свойски улыбнулись друг другу, а всем другим досталось вытягивать шеи и пялиться на новенькую из глубины фуфаек, перешитых, перелатанных лопатин-пальтишек. Я тоже выпростал голову, откинув на плечо воротник козлиной шубы, сшитой матерью из плохо выделанной отцом овчины. В этой шубе я сижу за ледяной партой, «как туз бубей». Так однажды высказалась мама, обряжая меня в это тяжеленное, но теплое одеяние.
В нашем отдельном от большой школы доме, где на первом – каменном – этаже с недавних пор оборудовали новую лавку, всегда холодно. Чернила в непроливашках оттаивают лишь к полудню, когда раскаляли едва не до красноты круглую печь-голландку.
И вот событие.
Новенькая в ладном по росту пальтеце, русая косичка поверх пальтеца пылает ярким бантом, а не лохматится тряпичной косоплеткой, как у большинства наших девочек.
Она неробко окинула класс синим, каким-то небесным взглядом. Да, в небесных красках и всех оттенках этих красок мы знали толк – выросли под этой синью. Но незнакомый прилив теплоты ощутил я, когда взгляд девочки на мгновение задержался на мне. И этим взглядом, мгновением радостным – всё как бы решилось: это девочка моя и ничья больше!
При малочисленности народившегося в войну поколения, «невесты» и «женихи» среди нас, ровесников, были распределены еще в первом классе. Как совершалось это «распределение», не знаю, скорей по наитию. Сейчас это невозможно додумать, но симпатии витали меж нами уже в ту родниковую, зябкую пору.
В первом классе «невестой» моей считалась Нюрка Данилова – ушастая, стриженая наголо девочка в комбинированном, из разных лоскутков ситца, клетчатом платьице. Единственная из девчонок «ровня» моя. Отец её также вернулся с фронта в один год с моим отцом. Считалась? Что ж, кто-то ж должен был считаться! Меня это не сильно задевало: пусть так думают, если очень хочется. Но к третьему классу Нюрки у нас уже не было. Переехали они, Даниловы, куда-то. Меня это тоже не тронуло. Осталась лишь карточка первого класса, где мы усажены на пол и поставлены на скамейки перед фотографом не по ранжиру и росту, а по указке учительницы: лучшие ученики – в первом ряду. В нем увековечена рядом с моей стриженой головой и Нюркина…
К третьему классу мы были почти взрослыми. Пролетели такие года, отсвистело столько метелей, растаяло столько снегов. Мы уж научились решать сложные задачи по арифметике и потрошили полки школьной библиотеки, где «Федорино горе» и «Робинзон Крузо» считались книжками несолидными для третьеклассников. Выпрашивали книжки взрослые, о войне. За «Белой березой» гонялись. Она была прочитана мной вслух вечерами возле горячей горнешной печи, где мама вязала в долгие вечера шерстяные носки, следя за судьбой героев книги.
Так вот, к третьему классу за мной в «невестах» не значилось ни одной девчонки. Потому так обожгло щеки, так откликнулся в груди взгляд новенькой, скользнувший по мне как бы ненароком, её светлые косички.
В лирических отношениях с девчонками (хотя «отношения» эти обозначались лишь какими-нибудь записками, гулявшими по партам) в общем-то витал «домострой», впитанный с молоком от родителей, доставшийся по наследству от крестьянских корней и местных обычаев. Если уж завязалась эта «любовь» с девочкой, если уж затвердилась среди ровесников эта «дружба», то посягать на неё не смел никто. Изменять, интриговать – и в голову никому не приходило. Записки, что гуляли по классу, предназначались только «ей» или «ему». А уж во время игры в «ручеек», что внедрили на переменах более сообразительные, хитроумные девчонки, надо было выбирать только свою пару. Свободный от «любви» мальчишка, не имеющий своей «невесты», мог выхватить на «ручейке» кого угодно, а ты не смей, следуй неписаному кодексу чести и верности.
Прозвенел звонок на большую перемену. В колокольчик ошалело и радостно бренчит у нас обычно не техничка, как в большой школе, а дежурный из четвертого класса. Два класса, разделенные по комнатам, соединились в одной нашей – более просторной, годной и для шумных потасовок, когда возникала куча-мала или другая стихийная дурь. Но «ручеек» – это игра пристойная, самоорганизующаяся. Всех она захватывает. Редко кто, хлобыстнув дверью, бежал в уборную, летел домой, чтоб успеть перехватить кусок лепешки, стакан молока иль кинуть в карман пару картошек в мундире. До вечера далеко, голодно. А еще в последнее время Анастасия Феофановна – учительница на два класса – взялась приучать нас к классической литературе, устраивая после уроков чтение интересных книжек. Дело это добровольное: не хочешь слушать, шагай домой. Добровольцев шагать в одиночестве по морозной улице почти нет никого, кроме Шурки Кукушкина, на нем домашность вся. Остальные, сгрудясь вокруг лампы в теплой, хорошо нагревшейся к вечеру комнате четвертого класса, внимают судьбе и горькой доле «Детей подземелья» писателя Короленко.
Но это случится вечером, после уроков. А сейчас прилежная звеньевая из четвертого класса подала знак. Большинство из гомонивших в чехарде и азарте догонялок выстроились, попарно взялись за руки. Образовался проход-тоннель, коридор из сцепленных рук, куда, пригнувшись, ныряет тот, кому не досталось пары. Он её и должен выбрать. Смысл «ручейка» – в беспрерывном движении, течении пар от одной стены класса до другой. Не успеешь перевести дух, как позади тебя становится новая пара, за ней другая, третья. А там уж и тебя зацепила девочка с тряпичной косоплеткой, с челочкой – светлой, наивной.
Держусь за руку Зинки Субботиной, чувствую мягкое касание чужой ладони, ныряю под сомкнутые руки. И я уж на конце «ручейка» в паре с нашей новенькой девочкой. Она опять жжет меня синевой взгляда. Продолжается это мгновение. Напарницу мою так же быстро выхватывают и уводят в гудящий голосами «туннель» – трепетный, бесконечный…
Наверно, возможны какие-то описания «движения чувств, возникшего волнения» или, Бог его знает, употребления пронзительных каких-то эпитетов о «внезапном движении друг к другу наших сердец», но ничего такого не возникало тогда, иль не знали мы таких слов, способных объяснить эти движения.
Помню: за два годы учебы в нашей школе девочки Нины, света тогда неясного, связанного с ней, сцепленных наших рук на «ручейке», в записках, что посылали мы друг другу в классе, осталась – на все последующие мои пути-дороги – чистота ощущений, которым не нужна никакая альтернатива.
Возникло, сказать по правде, и взрослое чувство. Чувство потери, когда уезжала наша новенькая. Навсегда, как вышло, уезжала из нашего села. Помню чувство тоски. Горькой. Переживу его в одиночестве. Накануне отъезда Нины буду ходить по сумеречной летней улице, надеясь увидеть её в озаренном светом окне. Просто увидеть. И ничего больше. На большее, как во взрослые года: постучать в окно, вызвать на улицу, в ту пору не решусь…
Холод, конечно, доканывает наш третий класс. Я сохраняю свою чернильницу-непроливашку в шубном козлином рукаве. Подышав на пальцы, можно записывать в тетрадку предложения, решать задачки. Их задает нам Анастасия Феофановна на пол-урока, а сама тем временем идет в теплый четвертый класс. А у большинства одноклассников в чернильницах лед. Мальчикам это даже нравится, а прилежные девочки пищат. Круглая печка, она выходит топкой в наш класс, сжирает уйму дров, а все тепло достается четвертому классу. В нем и парты новей, не столь изрезаны ножами, и солнце, хоть и зимнее, а все ж солнышко, стоит в окнах с самого утра. Освещает оно огромную, во всю стену, физическую карту Советского Союза с обозначением крупных городов и республиканских столиц, а также всех разведанных к той поре полезных ископаемых. В самой высокой точке карты, возле Чукотки, торчит в стене большой гвоздь, на нем сидит чучело вороны с выкрашенным чернилами клювом. Это обстоятельство прощается нам учительницей – на само чучело, на природные перья, раскрашенные в серое, никто не посягает. На передней стене, над черной доской – тряпка с брусочком мела на узкой досточке снизу, сверху – в хорошей раме, висит портрет одного из вождей – Лаврентия Павловича Берия. Чем он занимается в Кремле, знает, наверно, учительница, нами же твердо усвоено, что это один из соратников товарища Сталина, как и Ворошилов, портрет которого знаю с детства.
Декабрьские холода не отступают. И в большой школе, в учительской, решилась судьба третьеклассников. Нас всех, в лопатинах – фуфайках и моей козлиной шубе, поместили в одной комнате с четвероклассниками, втиснув к ним несколько наших парт, что поновей и поприглядней. Остальные выставили на мороз, к стене дома. В теплое помещение перенесли бачок с водой и кружкой, для надежности притороченной к бачку цепью. Это зря. Для орды цену, конечно, имеет не сама кружка, а цепь!
Ладно. Зажили мы в хорошем тепле. А к хорошему непременно прилипает веселящее душу настроение. Так вскоре и произошло. Объявили, что лучших по успеваемости и поведению будут принимать в пионеры. Вопроса – вступать не вступать – для меня не возникало. Учеником я числился примерным. (Не сказать бы что и по поведению. Ну, не на пятерку, точно). Маме пришлось изрезать на галстук белую коленкоровую занавеску с кухонного окна. Еще мама дала мне пару рублей, послала в сельмаг за анилиновым красителем-порошком. Красного не оказалось. Я купил бордовый, и коленкор занавески обрел все же пролетарский, революционный цвет.
Принимали в пионеры нас в жарко натопленном, просторном и длинном коридоре большой школы. Выстроили всю пионердружину. В сторонке почтительно и строго стояли директор, завуч и учителя. Командовала всем молодая пионервожатая в шелковом галстуке и белой кофточке. С тремя красными лычками на рукаве: знаки различия председателя пионерской дружины – деловито суетился Юрка Шенцов.
За печкой, в дальнем углу коридора, просипели звуки горна, ударил барабан. Это предвещало вынос знамени дружины. Потом опять раздались сухие звуки горна, не отстала и барабанная дробь. Вынесли большое, с золотистой бахромой и кистями, полотнище.
Мы, вновь принимаемые, стоим перед строем. Еще без галстуков. Волнуемся…
Из всего ритуала пронзительно запомнится – на всю жизнь! – этот нещадный стук барабана и сухое карканье горна.
Потом все смолкло. Мы застыли по команде «Смирно». Пионервожатая стала читать текст клятвы. Мы повторяли эту клятву: предложение за предложением, чувствуя холодок и торжество момента. Потом нам начали повязывать галстуки. Брали их из общей коробки, чей попадется под руку. Мне достался мой собственный – из кухонного коленкора. Бордовые концы галстука от жары, наверно, свились, будто сухие стручки гороха. Но ничего.
Пионервожатая управилась с повязыванием галстуков и вскинула руку в салюте: «Юные пионеры, за дело Ленина-Сталина будьте готовы!»
– «Всегда готовы!» – и мы вскинули ладони в пионерском приветствии так, как учили на репетициях.
Из всех поздравительных слов (а их говорили и директор школы, и завуч, еще какие-то взрослые) я не запомнил ничего. В памяти остался вынос знамени. Почему-то было жалко – уносят знамя…
В пионеры приняли и нашу новенькую. Она стояла рядом – при шелковом галстуке, как у председателя дружины Юрки Шенцова и старшей пионервожатой.
В пылающий алым, красным и бордовым наш класс, тесноватый, но теплый, Анастасия Феофановна принесла среди зимы невиданные нами фрукты – мандарины. Аромата хватило на всех, когда она освобождала плоды от оранжевых кожурок. Досталось и по дольке на каждого. А вслед за мандариновым праздничным уроком, ко второму уроку в классе появился сын нашей учительницы – отпускной артиллерийский капитан с золотыми погонами и с наганом в кобуре на поясном ремне. Настоящим, понятно, наганом. Капитан построил нас в пустой просторной комнате, где недавно сидели третьеклассники, и взялся обучать нас военному делу.
– Р-равняйсь! – вскрикивал капитан и скрипел портупеей. – Голову надо повернуть направо так, чтоб была видна грудь четвертого в строю человека! Всем ясно?
Оглушенная, ошарашенная мальчишеская наша орда, вперемешку с девчонками, впервые в жизни построенная по росту, по ранжиру, неловко топталась в подшитых, кривых, до безобразия стоптанных пимах местной катки, привычных к пинанию конских глыз, к самодельным лыжам, конькам-снегуркам. А капитан явно красовался. Конечно, в ту пору мысли такие и не могли возникнуть в нас никоим образом. Уж больно необычен, праздничен был этот урок посреди завывающей за окном метели. Небывалое дело: в классе офицер! Да еще с наганом!
– Смирна-а! – гаркал капитан. И далее, усмехнувшись, ронял не столь энергичное. – Вольно. Не расходиться. Можно ослабить ногу, перевести дыхание…
Скрип новеньких отпускных ремней и хромовых сапог оскорбительно оборвал бряк колокольчика. Капитан перепоясал шинель скрипучим ремнем, поправил кобуру с наганом, воздвиг на место головной убор, сверкнул золотом погон, козырнул, растаял за дверьми, в снежной замяти.
Словно ангел с небес, махнувший белым крылом, просиял он в наших спаренных классах, взбудоражил мальчишеские думы. В скудную пору. В глухом селе. В сибирской стороне, далекой от свершаемых в мире событий.
А события катились к нам со всей неотвратимостью, наполняя жизнь новыми реалиями. Как говорят, на что сподобится Господь Бог, пошлет ли нам благость или наказание. И вот во время больших зимних каникул возник в нашем доме, оглашая его крестовое пространство, младенец. Братец новый. Вечером, когда вернулся с работы отец, им было сказано, что родился Петруха. Мы тотчас усвоили, что Петруха не просто «шуры-муры», а имя дитю дается в честь Петра Первого. Знаменитого русского царя-императора!
Это будет вечером, когда еще круче завоет метель. Окрепнет холод – предвестник Рождества Христова, крупно вызвездится небо. А днем, точней с утра, мама, пугливо вздрагивая и хватаясь за выпуклый живот, настоятельно скажет мне: «Из дома никуда не отлучайся, вдруг понадобишься!»
Что ж, и я проникся сказанным мамой, вначале помышляя усвистнуть из дома – на сугробы к каникулярным друзьям,
К вечерним сумеркам короткого январского дня, зачитавшись у морозного окна, услышал вскрики матери. Выбежал в куть. Мама спускалась по приступкам печи на голбчик. Ломаясь в пояснице, поспешила с оханьем в горницу, к сундуку, достала из него чистые тряпицы, полотенце. Присела на крышку сундука, громко вскрикивая, напугав и меня, и метнувшегося из комнаты кота.
– Чё смотришь, Коля, беги за Анной Андреевой, скажи, чтоб строчно шла к нам…
Соседка – околоточная повитуха, одолев за мной перемет дороги, не мешкая с голиком у крыльца, кой-как сбив с обуви снег, вбежала в горницу. Там уже, уцепившись в спинку кровати, заняла свое место – непременное, привычное! – наша мать-роженица…
Зимняя пора наступившего пятьдесят третьего года потекла с тех минут не столь под завывания январских, а потом февральских вьюг, сколько под знакомый скрип зыбки, вздохи комбайновой пружины, вновь надетой на крюк матицы в кути, а вечером обычно переносимой к кольцу горничного потолка. Петруха родился! А нянька – вот она, девятилетняя, подросшая, опытная, я – сам. И никуда тут не денешься.
К началу марта улеглись метели. Они всегда стихали в эту пору. Весна приспевала без задержек. Синий свет конца февраля уже сулил тепло. Плавно перетекали блики солнца с березовых вершин ближних колков на крыши домов, покрывая сугробы наждаком наста.
В полдень, закинув бумазейную сумку с тетрадками и учебниками на плечо, шел я накатанной санной дорогой в школу. Вот-вот должна вывалить на улицу первая смена учеников – с ором и потасовками. Но никто не выкатывал. Улица (по ней в прежние дни непременно пролетали дровни, розвальни, начальственные кошевки) сейчас пустовала.
Пустовало и небо. В нем должна была пролететь сорока. Никого. Даже стайка воробьев, падая обычно с крыши пригона на сенную труху санного пути, отсутствовала. Но шел навстречу, размахивая такой же, как у меня, тряпичной сумкой, Шурка Кукушкин.
– Не учимся сегодня! По домам распустили…
– Как распустили? Врешь, Шурка.
– Ниче не вру. Сталин умер… Вот.
Сказал, будто ударил. И на углу нашей школы, на доме напротив, где сельсовет, увидел я флаги – кумач и черные ленты.
Сталин умер. Как это умер?! Не может такого быть. Вообще быть не может, чтоб Сталин и – умер.
Улица продолжала пустовать. Пустовали и окна домов. В иной день едва ли не в каждом окошке можно заметить чей-то любопытный взор, отодвинутую занавеску, цветущую герань. Сейчас все пустовало. Пусто и горько холодело в груди.
Я вошел в нашу маленькую школу, где уже собралось больше половины ребят. Девочки окружили учительницу. Траурным квадратом смотрела черная классная доска. Мальчишки (а нас всегда меньше всюду, кроме как на войне) стояли возле географической карты. К ребятне я и на правился. Тихо. Но в томительной тишине четко, металлическим голосом кто-то сказал, что «в большой школе все ревут, а завуч сказала, что теперь на нас американцы полезут». Потом в тишине раздалось, что «у нас есть водородная бомба и она сильнее американской, атомной». Кто это сказал? Может быть, я тогда и произнес.
– Как будем жить теперь, ребята? – потерянно произнесла наша старая учительница. – Как жить?!
Господи, прошла уже целая вечность. Десятилетия с того дня прошли. Жили. Живем. Кто достойно, а иные… Иных уж нет.
А пятого марта 1953 года у нас уже стояла весна. Как обычно. Солнце светило очень ярко. Я шел в школу и думал о нашей новенькой ученице. О девочке с синими глазами. Все, что произошло в тот день, оглушило. Надолго. И все же весна была в наших краях. На земле – весна.
ГОНЧИЙ ПОРОСЕНОК
Конец сентября. Пролетела паутина и начались дожди. За окном нашего класса серое небо и мокрая – на огородном прясле – ворона. По дороге идет лошадь. В телеге сидит мужик в брезентовом дождевике, свесив ногу в грязном сапоге. Лица его под капюшоном не видно. Нахохлился! А в классе в первый раз – не по сезону! – топится голландка и уютно пахнет березовым дымком. Учительница Анастасия Феофановна пишет мелом на доске тему урока – сочинение «Наше счастливое детство»
– Все усвоили, дети? – спрашивает учительница и садится к столу проверять тетрадки по арифметике.
– Все! – нестройно отвечает класс.
Шурка смотрит с последней парты в окно и тоскует, что не сбежал на перемене с уроков. В огороде недокопана целая гряда картошки. Вон ведь погода что вытворяет! Квасит и квасит, конца края этой мокряди не видно. А вдруг да полетят белые мухи? На сестру Галину никакой надёжи нет, хоть и старше его на два года. Здоровье у неё никуда. Чахотка давит. Сейчас, наверно, сидит на лавке, тоже смотрит в окно и ждет Шуркиного возвращенья из школы. Худая она и бледная, как картофельный росток. Рядом, на подоконнике, такая же тощая, с длинными ногами, тряпичная кукла. Без волос, но с темно-синими кругами глаз, нарисованных химическим карандашом…
Шурка клюёт в чернильницу-непроливашку и роняет кляксу на чистую тетрадку. Опять беда! Промокает лужицу розовой промокашкой, потом скребет кляксу ногтем… На мать тоже плохая надежа. Как уйдет на ферму в потемках поутру, так и приходит домой затемно. «Ну что там, ладно, думает Шурка, как-нибудь управлюсь с картошкой!» Отщипнул в парте от лепешки, кинул в рот, не жуя проглотил. Вытянул истомно ноги. Тесновата парта для переростка…
– Не пинайся! – шипит на него сидящая впереди Райка и лягает дырявый Шуркин ботинок.
– Тише, дети! – говорит учительница, ставя кому-то красного гусака – двойку.
Опять сопение, пыхтение, шарканье ногами. «Сочинение. Тема, – снова клюет в непроливашку Шурка. – Щасливое детство». Перо «мышка» царапает бумагу. Шурка втыкает перо в парту, немного выгибает его. «Я родился в тысяча девятьсот сорокавом году в семье беднаго колхозника…» Он ставит точку, задумывается. Анастасия Феофановна рассказывала по истории, что все они вышли из бедных слоев и надо этим гордиться. В старину крестьяне и рабочие тянули лямку на хозяев и вообще все жили бедно. Старину Шурка Кукушкин представляет так: тогда все мужики ходили с огромными бородами и босиком. С «лямкой» воображение тормозило. Но мерещилась этакая длинная веревка – подлиннее, понятно, той, что поддерживала его штаны, когда он ходил еще в первый класс.
Он пошел в школу давно. Тогда в первом классе, в сорок седьмом, учил их счету и письму черный старичок с огромной копной волос на голове. Жил он при школе, одиноко. Обычно, задав писать крючки и палочки, приносил он в класс чугунок парящей картошки в мундирах, принимался завтракать. Потом тяжелым костяным гребнем, сделанным из коровьего рога, вычесывал на газету свою тяжелую смоляную шевелюру.
– Тихо! – временами вскрикивал чернец и желтым ногтем с прищелком расправлялся с очередной вошью.
Чернеца выгнал временно принявший директорство в школе демобилизовавшийся из Германии старший лейтенант-пехотинец – с двумя орденами на кителе и нашивкой за ранение. С той поры проучился Шурка немало, второгодничая в каждом классе. Вот теперь дылда-дылдой среди нас, малышни. А у матери Шуркиной своё: дотяни хоть начальную школу, варнак!
«Вобче детство мое было щасливое. Спасибо родной стране и сознательному пролетарьяту. Спасибо товащчу…» – он поискал глазами портрет и вспомнил недавний случай. Среди урока в класс вошел с дубиной старший лейтенант-пехотинец и смел со стены портрет лысого человека в пенсне и с тонкими губами. Пехотинец потоптался на портрете и, глядя на перепуганный класс и учительницу, сказал: «…Потерял доверие… Он враг народа, дети!»
На старое место поместили портрет нового человека, тоже в хорошем костюме, но Шурка еще не привык к нему и смотрел недоверчиво. «Детство наше…» – старательно выводит он пером. Ему вдруг захотелось сегодня отличиться. Но мысли о недокопанной картошке неотвязно толкутся в голове. И погода эта!
Отличник с первой парты Валерка Янчук уже закрыл тетрадку, передал её на стол учительнице и, аккуратно вытерев перочисткой ручку, читает «Тома Сойера». У Валерки настоящий шелковый галстук. Он гордится этим. А Шурку вообще в пионеры не принимают. Теперь уже не до пионеров – тринадцать летом исполнилось. Из всех наук Шурка больше любит историю. Даже учебник для старших классов притаскивал домой и подолгу разглядывал изображенные в нем скульптуры греческих и римских богов.
– Ну-ка, ну-ка! – приглядывалась ко грекам Шуркина мать, тыкая заскорузлым пальцем в Геракла. – Это чё он со цветком нарисован на эн-том самом месте? Страмотишша-то какая! – добавляла вовсе непечатное.
Парнишка захлопывал книжку и бежал во двор искать заделье по хозяйству. Три курицы без петуха – какое хозяйство! Они и дома-то не находились, вечно шастали где-то на чужом подворье. А огород надо обихаживать. Прополка, поливка держались только на Шурке, потому как он и сам знал – без огородного не перезимовать!
Прошлая зима случилась морозной, лютой. Изба вечно выстывала к утру так, что выла трубой по-волчьему, и по ледяному полу приходилось бежать вприскок – голые пятки, хоть и задубевшие летом, не выдерживали. Галина та и вовсе не слезала с печи. А дров не хватало. Эта «прорва», большая на пол-избы русская печь, много жрала. Разобрали хлевушку, спилили последний столб у ворот. И к весне подворье выглядело совсем разоренно и тоскливо. Быстро, как на всяком запустении, поднялись вокруг избы дуроломы лебеды, конопли, лопухов. Под широкими листами лопухов все лето неслись чужие куры. Шурка не раз находил гнезда, полные яиц, и тогда яйцами наедались до отвала. Однажды вечером мать принесла поросенка и сказала:
– Все стали заводить поросят. Што же, мы не хуже других: вырастим за лето. К зиме с мясом будем…
Приходили смотреть на поросенка соседи, хвалили хозяйку за предприимчивость. Но, уходя, качали головами:
– Чем только, Евдокия, будешь кормить этого жихарку?
– Травы много, прокормится! – махала рукой Шуркина мать.
Поросенку сделали шлею из прорезинового комбайнового ремня и привязали к телефонному столбу. Жихарка этот поневоле и очень скоро выучился питаться травой-конотопом и носить в зубах жестяной тазик для воды. Первые недели он повизгивал голодным псом, но вскоре свыкся с долей и пошел в рост. Росли почему-то ноги да вытягивалось рыло. А щетина на горбатой спине так вымахала, что он скорее напоминал дикого кабана, вышедшего из темного леса, нежели обыкновенную домашнюю свинью. Трава возле столба оказалась вскоре выбитой и съеденной до корней так, что образовался геометрически правильный круг.
И жихарку перевели к другому столбу, куда он охотно, по-собачьи потрусил, зажав в зубах тазик. Поросенок сделался предметом насмешек и пересудов в околотке. Но подходить к нему боялись. Он зло щелкал длинными зубами и кидался на человека. Дородные, упитанные свинки из соседних дворов из любопытства похрюкивали, проходя мимо, но и они своим свинячим умом чуяли грозную опасность. Жихарка подпускал к себе только Шурку. Тот хоть и не кормилец был, но воду подливал в тазик регулярно.
– Ну что я сделаю, чем накормлю? – вздыхала Евдокия, выслушав укоры соседок.
Однажды решилась, тайком принесла с базы ведерко комбикорма, запарила и сделала мешанку. Тут попировал жихарка! А на утро возле столба нашли оборванную им шлею и вожжи… Обежали все село, облазили все закоулки и огороды. Исчез поросенок, как испарился. Через неделю пастухи рассказывали, что на Смолихе-увале, а это километров за десять, видели они дикую свинью – «горбатую, в щетине и с длинным рылом!».
Зачем туда упорол поросенок? Никто не мог толково рассудить.
– Гончий поросенок! – выдал кто-то из молодых мужиков. Обидная эта кличка вдруг – хоть и ненадолго! – пристала к Шурке. Он и вправду чем-то напоминал беглеца: худой, тощий, сутулится при ходьбе, нос большой, с горбинкой…
Сочинение совсем забуксовало. Никак не находит Шурка нужные красивые слова, чтоб похвалила завтра Анастасия Феофановна. Опять будут хвалить Валерку Янчука. Конечно, Валерка парнишка сообразительный, столько стишков на память знает, что Шурке ни в жизнь не выучить, не запомнить. Зимой, на празднике Красной Армии, Валерке дали большую шоколадную конфету за стихотворение о войне. Как он декламировал!
…И от моря и до моря
Поднялись большевики.
И от моря и до моря
Встали русские полки,
И сказал народу Сталин: —
В добрый час, за мной, друзья!
И от недругов мы степи
Очищать свои края.
Хлопали Валерке во все ладоши и ребятишки, и учителя, хлопал и пехотинец старший лейтенант. Он стал хорошим учителем физкультуры Николаем Николаевичем Протопоповым. Хлопали Валеркины родители – люди грамотные и хорошо одетые.
А Шурка стоял в кучке таких же, как он, переростков и нисколечко не завидовал. Не было у него никогда зависти. Знаю.
Но вот сегодня ему так хотелось отличиться. «Щасливое детство…» – роняет он кляксу, успевая отдернуть тетрадку. Чернила падают на штаны. Зареветь бы! Но душа у парнишки затверделая, не выдавить и одной слезинки.
– Райка, хочешь лепёшку? – он дергает девочку за жидкую косичку с косоплеткой – цветастой тряпочкой.
– Давай! – шепотом говорит Райка Барышникова.
– Вкусная… Ты о чем пишешь, Райка?
– Про отца… Как он с фронта пришел.
– Помнишь, что ли? Во даёт!
– Мама рассказывала…
– Тише! Тише там на «камчатке»… Пора закругляться, дети, скоро звонок! – учительница ходит возле парт, заглядывает в тетрадки. На «Камчатку» не заглянет. Шурка это чувствует. Он подумал об отце. Просто так подумал, не представил даже. Этот «бугай», как называет его мать, «живет у сударушки в дальней деревне, к своим дитям бестыжих глаз не кажет…»
Дума короткая, мимоходная, погасла, не обожгла…
За окном, на дороге, опять та же лошадь. В телеге мужик в дождевике. Теперь он сидит на поклаже, едет обратно. «Интересно, кто из мужиков?» – думает Шурка. По узким колесным колеям догоняют телегу два ручья. Серое небо ворочает лениво и медленно такую же серую муть. Бусит и сеет. И это надолго.
Ворона прошлась по жердине прясла, деловито и старательно почистила о кол горбатый клюв, собралась каркать…
Со звонком сорвались с парт и, толкаясь в дверях, выбежали из тепла. Холодок школьного двора напахнул прелым листом, мокрой поленницей.
– Гончий поросенок! Гончий поросенок! – боязливо выкрикивал чей-то голосишко. Шурка не обернулся. Отпнув ногой калитку, перемахнул лужу. На обочине дороги приметил две старые жердинки с завитушками бело-сизой, подгнившей уже бересты. «Хватит на целую истопку! В потемках схожу…» – подумал Шурка и, сутулясь, закинув тряпичную сумку за плечо, широко пошагал к дому.