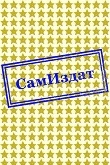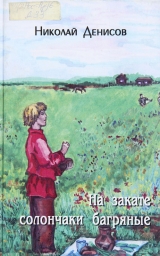
Текст книги "На закате солончаки багряные"
Автор книги: Николай Денисов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц)
– Ух, ух, а ну сыпь, Леня, позабористей! – отрывается от закусок прямой, высокий Петро Иванович. Он рад блеснуть своими галифе, поскрипеть тоже надраенными ради праздника выходными сапогами. Он и тетка Анна (та вдогонку ладится на круг), оба глуховаты, потому громогласные, шума, гама от них, как на многолюдной артельной работе, в лесной деляне, иль на зернотоке, иль на сенокосном лугу. И тетка Анна выплескивает первую припевку:
Ты моя, да ты моя —
Деревня Полуянова.
Девки дайте по рублю,
Потом напойте пьяного!
Кто-то из баб подбирает валявшуюся возле плетня заслонку и черную, тысячи раз загребавшую в загнетку горячие угли – шаболу, ширкает по жести заслонки в такт «подгорной». Присмотрелся: это же мама «выделывает» музыку на заслонке! Ух ты! Звенят медали, скрипят сапоги, пылают частушки тетки Анны. Гармонист фигурно рвет меха хромки. А из-за ограды – мычание коров, щелк кнутовища. Это вернулось в деревню со скудных майских поскотин деревенское стадо. Бабкина помощница тотчас кидается к калитке встречать «ведерницу». Проводив её, равнодушно оглядевшую людское скопище, в пригон, бабенка бежит в куть за подойником. Застолье тем временем, успокаиваясь, рассаживается по своим местам.
Чинно сидит по обе стороны отпускника солидная коханская родня. Тетя Нюся при высокой прическе, молодая, моднящаяся, тоже в ближнем соседстве с братом. Тетка Анна с «браткой» Петром Ивановичем, мои родители. Если взглянуть с нынешних возрастных высот, то ведь и они не старые были, как мне тогда представлялось – сорокалетние! Но, господи, за плечами сорокалетнего отца: коллективизация, Магнитка, строительство медеплавильного завода в Кировграде, срочная служба на острове Даманском, финская война, Великая Отечественная, тяжелое ранение, трудовой фронт в тылу… Представить только это в нынешние дни!..
Всему голова в вечернем застолье – бабушка Настасья.
– Мама, да присядь ты с нами за стол, мама! – настойчиво приглашает отпускник. И бабушка наша, кажется, в хлопотах своих так и не пригубившая рюмочки, как бы спохватясь, – пора и сына в застолье приветить! – подплывает мягко к столу, чинно принимает маленькую рюмочку с налитым для нее красным сладким вином, привезенным из города:
– С приездом, сынок! Спасибо! Ну, дорогие гости, родня наша, выпьемте! Всем здоровья и радости!
Глухой стук налитых стаканов. Мельканье вилок. Хруст ядреных огурчиков, грибов. Чесночный дух студня, уже тронутого теплом, готового осесть в большом блюде.
Гармонист берет раздольный аккорд. И вот возвышающая дух, проникающая до сердечных глубин, до спазм в горле песня, которую, не сговариваясь, заводит вдруг застолье. До сих пор без тоски в сердце не могу её слушать:
По полю тетки грохотали,
Танкисты шли в последний бой.
А молодого командира
Несли с разбитой головой.
Мы, малыши, как по команде, закончив свои игры, замираем, завороженные тем действом, о котором поется в песне. «А молодого командира несли…» В командире том почему-то чудится дядя Петя. И странно как-то, и радостно, что вот он, командир танка, сидит цел и невредим за столом. Без бинтов, без повязок, как вроде бы положено быть раненому в голову. Не слышу голоса дяди Пети, но вижу – издалека – он тоже включился в песню. Сосредоточен. Скорее – напряжен, словно что-то вспоминает из своего недавнего, огневого.
Из танка вырвались снаряды.
И пулемёт затарахтел.
И от немецкого отряда
Остались груды мертвых тел.
Выделяется высокий голос нашей матери. Ишимская родня, чинно поджав губы, внимает песне. Слышал я, кто-то из них тоже был на войне, кто-то пострадал от репрессий. «Братка», округлив глаза, напряженно, аж горло краснеет, подхватывает песню, озираясь по сторонам, словно проверяя – целы ли соседи по столу, в здравии ли, не истекают ли кровью. Убедившись, что все, слава Богу, не задеты ни снарядом, ни фашистской пулей, он удовлетворенно вскидывает подбородок, приглашая к песне тех, кто еще не успел подключиться.
Долго, эпизод за эпизодом, плывет, вздымаясь в небо, фронтовая баллада.
Про танкиста в наших застольях поют всегда. И я жду, когда батя, вздымая накаленным голосом самую трагическую ноту, опрокинув недопитый стакан иль смахнув со стола тарелку с винегретом, хрястнет по столешнице кулаком левой, не искалеченной на войне, рукой, выражая полноту чувств. Но привычней, что и делает он сейчас, не докончив песни, прослезится, никого не стыдясь, не смущаясь. Вслед за ним запромокают глаза кулаками и подолами рубах и другие крепкие, но расслабленные песней мужики.
Потом после пронзившего всех оцепенения, разряжая обстановку, гармонист ударит по басам, пробежится по ладам, создавая другой настрой, возвращая к реальности. И батя обрадованно подхватывает: «Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальём!»
Эх, непросто уйти от пережитого… И тогда тетка Анна вдвоем с мамой, никого не дожидаясь, заводят лирическую:
Каким ты был, таким остался,
Орел степной, казак лихой.
Зачем, зачем ты снова повстречался,
Зачем нарушил мой покой…
Мне теперь и не вспомнить, чем все закончится, в какие сроки. При лампе или фонаре, при полной луне, что осветит деревенские закоулки, но стихнут за столом мои родичи. Разойдутся по дворам, по домам. Бабка Настасья, следя острым взором за порядком, уложит спать на перины сына и городских гостей. Незаметно сунет старшей дочери Катерине завернутый в газету комок ременных вожжей, забытых батей с прошлого визита. Потом задвинет за последним из гостей жердь на воротах и калитке. Отгуляли!
Сколько еще предстоит таких встреч-застолий! Все мы еще в хорошем, счастливом возрасте. Нам, малышне, кому по шесть, кому по восемь лет, самой бабушке Настасье лишь за пятьдесят, остальные – в самой работной мужицкой и бабьей поре…
А записываю эти строки, считай, через полсотни лет. И вот случись бы невероятное: живи сейчас на свете белом бабка Настасья Поликарповна, задумай она собрать нас на своем дворе?! Что бы получилось из бабушкиного приглашения?
Непременно, постанывая, кряхтя, размяв по дороге ноги, суставы-косточки, притопала бы в нарядном платке тетка Анна-пролетарка, недавно отметившая свое девяностолетие. Не растратившая памяти, только потерявшая на последнем десятке лет много зубов, а то до семидесяти сверкавшая полным ртом.
Пришел бы, бодрясь в свои 76, и Петр Николаевич, дядя Петя-танкист. Вот сейчас пишу ему открытку-поздравление с 52-й годовщиной Победы. Он видел её, победу, собственными глазами, подкатив на «Т-34» прямо к рейхстагу в майский день 1945 года.
Из родичей, кроме нас, бывших мальцов, игравших в тот вечер на полянке возле бани, никого уже теперь не дозовешься.
Просторная оградка на двоеданском кладбище приняла в свои вечные пределы отца и мать, старшего брата бати – Василия-первого, дважды Георгиевского кавалера, его жену тетку Пестемею, невдалеке могилка братика Вовы, умершего на третьем году жизни – зимой 51-го, когда я учился в первом классе… Остальные родичи, не двоедане, на мирских могилках – под березами Засохлинского острова. Вечный труженик Петро Иванович Андреев, тетя Нюся, принявшая насильственную смерть от деревенского бандита в недавнюю пору. Сама бабушка Настасья под теми же березами православными. Пережила она своего дорогого зятька ровно на полгода. Отец умер на 72-м году от тяжелой болезни в Октябрьские праздники 81-го. Бабушку Настасью привезли к поминальному застолью на легковом автомобиле с другого конца улицы нашего большого села. В траурном платье, черной кружевной косынке – прямая, все еще статная, никак не скажешь, что ей давно за девяносто. Сказала доброе слово о зяте, до дна осушив поминальную рюмку.
Через полгода, в День Победы – 9 мая приехали мы с братьями в родное село навестить могилку отца. Вернулись с погоста, и тут пришел Петр Николаевич, сказал, что бабушки нашей больше нет… Почти до последнего своего часа была она на ногах, в полной памяти и здравии. Внезапно слегла, потеряла сознание, затихла во сне…
Да, лишь небесные грозы гремели в наших краях. А крестов и пирамидок со звездочками, здесь будто после больших танковых сражений…
БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ
Природой у нас четко разделено: летом – жарко, а зима – непременно с высокими сугробами, оглушительными – не просто морозами – стужами. В этом понятии – и ледяной свист вьюг, и серебряный куржак на проводах, кустах полисадников, на редких тополях. И эти сумёты, сумёты вдоль плетней, дворов, заплотов.
Да еще пронзительные скрипы полозьев саней и розвальней на деревенской улице, да закуржавелые мужики, шагающие за возами сена, уже не понукая старательных лошадей, а полагаясь на их волю, разум, извечную надёжность.
До сей поры, а с возрастом все пронзительней, захолонет вдруг в груди, как припомнишь наших лошадок, изробленных, а порой болезных, с разбитыми копытами, спутаными гривами, лишаями на холках, на костистых хребтах. И уж, конечно, голодных при несытом довольствии на конном дворе, а то и вовсе при бескормице.
Лошадки. Кони!
Наудив в отцовском кисете щепоть самосада или магазинной махры, дошкольником еще бегал я на конный колхозный двор, где помощник конюха Колька Митюрев за эту щепоть во время полдневного водопоя лошадей вздымал меня на самую смирную кобылу или мерина и разрешал прокатиться до озерной проруби, где в зимнюю пору и поился остатний, не занятый на работах, колхозный табун. Ребята постарше, посноровистей, гарцевали на более резвых лошадях, пуская их в рысь и в галоп, а мне всегда доставался такой «росинант», которого и доброй плеткой не разгонишь, не раскочегаришь.
Лошадки. Кони!
Так уж словно на роду написано было, что, пристрастившись с малолетства ко всяким железякам, в юности получив профессию механизатора широкого профиля, произрастали мы с живностью разной, с меньшими нашими братьями, в тесном соседстве, в родстве даже. Даже представить пронзительное и золотое то время невозможно без пестрой дворняжки Жучки, без кудахтанья кур и пенья петуха во дворе, без овец или боровка в хлевушке, без теплого дыхания коровы Люськи, вернувшейся с вечерним стадом домой…
Вижу воскресный полдень последней декады марта. Все дома. Отец совковой лопатой окапывает в огороде зарод сена, отбрасывает подальше набрякший влагой снег. Брат Саша взобрался на крышу дома, освобождает её от снежной тяжести. В небе синь-голубизна, солнце, не жалея сил, припекает.
Это нынче при испорченном урбанизацией климате трудно и вообразить, что в сибирском марте стояла такая теплая, мягкая пора, с роздымью в дальних березняках.
По углу дома пробую забраться на крышу, где брат. Он каким-то образом залез туда без приставной лестницы. У меня не получается, мешает выступающий далеко скат кровли. Тогда я лезу на тополь и по самой долгой ветке достигаю снежного конька крыши, сваливаюсь к трубе.
Саша поддевает ком снега, и он по наклонной скользит и падает в сугроб палисадника. Мне тоже хочется прокатиться с крыши.
– Смелей! – смеется брат, подталкивает меня в спину, и я скольжу, рушусь в мягкий сугроб,
– Ура-а-а!
– Смотри, Колька, скворцы прилетели! – доносится сверху голос брата. И в самом деле: на вершине нашего тополя, вблизи скворешника, всхлопывая крылышками, сидит пара черных птиц. Наши, конечно, скворушки, непременно наши. Добрались, долетели из теплых стран. Теперь-то уж настоящая весна пришла!
Скоро вытает из-под снега ограда. Её хоть и чистили зимой, хоть и выбрасывали снег за прясло, все же пойди справься с февральскими метелями: намело во все закоулки! Но придет настоящая теплынь, запарят волглые глызы, источат ручьи последние сугробы, пора будет и кур из дома выпроваживать. Привычными стали куры в избяном курятнике, а надоели: чисти за ними, меняй подстилку из соломы, а пометом – резким, известковым – пропиталась вся изба. Да еще петух этот, стервец, атаман, за что-то невзлюбил меня. Так и норовит долбануть острым клювом, когда подсыпаю курам отрубей, подкладываю в корытце намятой картошки.
Скорей бы уж!
Выведем из дома и лобастого бычка. Он тоже с январских морозов обитает в домашнем тепле.
Бычка, конечно, не поместишь в загородку. Бычку воля-вольная, шастает по комнатам. Не доглядели, изжевал штанину отцовых кальсон, изжамкал рукав моей рубашки. Вызволив рубаху от бычка, я – чуть не с рёвом – к матери. Заштопала прожеванные места, но Борька-бычок с того дня в нашей семье потерял всякое доверие. Один отец, выразив непонятное восхищение «антихристом», сказал, чтоб глядели, а «ушами не хлопали».
Только порадовались прихлынувшему теплу, прилету скворушек, как во хлеву, в родовых муках, погибла старая овца-матка. Принесла она двух белых курчавеньких барашков, успев облизать шерсть только на одном. Второй так и остался необлизанным, и впоследствии их хорошо можно было различить по этим зримым признакам.
Ягнят-барашков, топырящихся на слабых ножках, принесли в избу. И пока отец с братом, как водится в таких случаях, обдирали шкуру с погибшей овцы, мы с мамой решали, как быть с кормлением ягняток. Они ведь так и не попробовали материнского вымени, с первых минут появления на свет остались сиротинками. Не миновать бы им погибели, но мама знала, как обойтись с малышами.
– Счас, счас я вас обихожу! – сказала она и полезла на полати, где разыскала меж старых пимов пластину мягкой, выделанной овечьей овчины. Мы откромсали нужный кусок. Мама принялась обстригать овечьими большими ножницами шерсть, а когда обстригла до плоти, выкроила и сшила суровой ниткой две соски, примерив их на горлышко чекушки из-под водки. Потом распарила соски в горячей воде, пожулькала, помяла в руках, проколола крупной иглой дырочки для сосания. Мы наполнили чекушки коровьим молоком. Я радовался: так славно придумала мама. И вызвался быть постоянным кормильцем-поильцем сироток.
Искусственному «вымени» ягнята сопротивлялись недолго. Глотнув теплого молока, заработали губами, прижимая соски беззубым ртом, поддавая мне в руку, как поддают обычно материнскому вымени, подрагивая хвостиками.
Вскоре ягнята окрепли. Напряглись, напружинились их вчера еще слабые ножки. Теперь дробный стукоток копытец раздается отовсюду, когда сиротинки принимаются носиться по дому, загоняя кота на высокий брус полатей, откуда тот хмуро поглядывает на новых обитателей дома, ущемивших его жизненное пространство.
Удвоились и мои заботы. То и дело надо подбирать веником «горох», что ягнята щедро сеют по полу. А потом они опять тычутся в руки, требуя молока. Соски они уже основательно измочалили. Мы с мамой обсуждаем необходимость шить новые.
С восторгом я обнаружил, что на лбу ягняток твердеют бугорки будущих рожек. Мама говорит, чтоб я не трогал эти набухающие бугорки, не то барашки рано научатся бодаться и покоя не дадут. Предостережение только сильней разожгло мое любопытство. Всякий раз при кормлении ягнят я проверяю – насколько подросли и окрепли будущие рога. И вскоре – как-то само собой вышло! – барашки начали легонько, а потом все сильней, напористей поддавать друг другу, сталкиваться в поединке, стараясь пересилить один другого. Заметно одолевал облизанный барашек. Мы ведь так и зовем их – «облизанный», «необлизанный». Других имен сиротинки не получили. Да и, по правде сказать, кличками-именами овечье племя у нас не принято удостаивать. Так и бегает обычно по двору племя это без особых отличий. У кур вон тоже только Петя-петух выделяется, а все остальные – куры. Им и того достаточно.
Как добрая хозяйка в доме, прибралась в нашем околотке и в окрестностях торопливая, суетная весна. Подсушила взгорки, вызеленив их шильцами пырея и конотопа. На Долгом озере весна еще в апреле разломала льды, погоняла по глади воды, прибила к пристаням отдельные большие льдины. Пацанва постарше отваживается плавать на них.
Под всхлипы гагар-лысух, под гомон мартынов и чаек, под писк тонконогих вихрастых куличков, что бегают по солонцовым берегам, теплынь, нахлынувшая из южных, петропавловских широт, растопила наконец островки зимы до ила, до донных шилышек.
Колхозное стадо, не дожидаясь пока подрастет трава, вытурили из прокисших навозом баз, угнали на дальние выпасы. А единоличные коровы, под росшие за зиму телятишки, овцы, дожевывая последние клочки сена, еще томятся в дневных загонах подворий. Коровы дружно – от двора к двору – принимаются вдруг трубить на разные голоса, вспомнив прошлогодние сочные луга, коллектив коровий, щелканье кнута, блеяние овец, что пасутся, как принято у нас, вместе с дойным стадом и нетелями, молодыми бычками.
После посевной, означенной рокотом тракторов и шлейфами пыли за сеялками на Солоновском, Окунёвском и Засохлинском увалах (они хорошо видны с крылечка нашего дома), взрослые заговорили о том, что пора выгонять на зеленеющие поляны и домашнее стадо.
И день этот наступил. Он расцветил мой сон на восходе скрипом калиток, мычанием скота, сумятицей женских голосов. Не рядовое же утро! Все покрывал задорный, властный голос пастуха Степана Чалкова, успевавшего и пошутить, и остудить кнутом чью-то взбрындившую коровенку, разнеженную за зиму на пойлах и пахучих визилях в теплом пригоне, не желающую присоединяться к стаду.
Барашков наших, сиротинок, и речи не было пока, чтобы снаряжать в деревенский табун.
– Живой травы еще не видели! Пусть освоятся на своей полянке у ворот! – решили родители. И я понял, что не видеть мне волюшки очень долго. В прошлое лето тоже досталось: орда по ямам да зарослям конопли и лебеды носится. В прятки, в войну играет. А мне задание: выполоть гряду моркови!
Гряда эта в огороде тянется от погреба с солониной до обвитого хмелем заднего прясла, за которым солонцы да берег озерный с камышами. Во-оля! Но где она?
Барашки мои быстро освоились в вольном сообществе кур, рыжего кота Васьки и сорок, прилетавших стрекотать на прясло. Теперь-то уж стрекотали эти вещуньи не напрасно! Пришло письмо от дяди Пети из Германии, от самого старшего брата Гриши из Омска тоже получили весть: обещался паровозный кочегар приехать в отпуск.
Выкормив желторотый выводок, покинули нас скворцы, улетели в леса. Скворешник вновь заняли воробушки, собирая крохи тут же, во дворе, вместе с подрастающими цыплятами. Над ними клохчет дородная, расфуфыренная пеструшка-парунья. Она самостоятельно устроила гнездо в зарослях молодой крапивы, снесла яйца, выпарила и однажды привела во двор десяток желтых попискивающих малышей.
– За цыпушками гляди! – всегда наказывает мне мама.
В будний день она уходит возить глину из карьера для кирпичного заводика, для кирсарая по-нашему. В обед появляется «пошвыркать супу, плеснуть чё-нибудь поросенку». Да, к полудню поросенок заявляет о себе настойчиво – повизгивает в хлеву, как «острожник». Мама еще и доглядывает за нами – все ли на месте?
А куда нам деться?!
Пощипав травки под моим наблюдением, барашки залезли в тень телеги… Жара доняла и кур. Хоронятся под досками крыльца.
До поры, конечно, пока не выйдет посередь двора Петя-петух, и, похлопав крыльями, даст всем побудку. Живность выпрастывается из щелей и закутков, бежит к тазику с водой, к корытцу. Требует пищи. И я бросаю свои железяки, их натаскан у меня целый угол – «зисы», полуторки, трактора – полно! И кормлю-пою, выполняю требования моих подопечных.
В сопровождении Жучки появляется во дворе Саша. Он занят где-то своим делом. Ему давно доверяются и отцовская лодка, и сети, и ружье-одностволка, Он тоже считает своим долгом проверить обстановку в доме и во дворе. Непорядок отыскивается в самом неожиданном месте – в небесах, где в знойном зените, распластав крылья, кружит коршун. Конечно, он намеревается унести со двора цыпленка. И Саша выносит из дома ружьё, заряжает его и целится в стервятника, который тут же порывисто, почуяв порох, как всякий опытный хищник, набирает высоту. Достать его на такой высоте невозможно. Но брат бабахает на удачу распугивая воробьев и разнообразя монотонную картину дня облачком порохового дыма.
К средине июля на лесных полянках вызревает клубника. Старшая ребятня носит её с поля ведрами. За старшими увязывается пацанва, мои ровесники. Они с трехлитровыми бидончиками, важно надвинув кепки, шествуют по утрам мимо нашего дома.
Носят ягоды все. Успевают нахватать их в кошенине и косари, возвращаясь под вечер с зимним припасом.
Мама разочлась с кирсараем и тоже ушла на покос. Забрала в помощники Сашу и Жучку. Мои ж обязанности никто не отменил. Но в одно утро, оглядев привычно двор, я не нашел своих барашков.
– Уговорила Степана в табун взять! – сказала мама. – Может, привыкнут…
Да вот не получилось. Вечером, встречая табун, я еле разыскал своих питомцев, водворил их в ограду, гудящую комарьем. Не случайно, знать, целый день переживал за ягнят. И вот – на тебе! У необлизанного кровенил бок. И под шерстью я обнаружил рану, в которой шевелилось и дышало живое мясо. Отец тоже осмотрел барашка, отправился разбираться к пастуху, а вернувшись, сказал Саше, чтоб он наточил большой ножик.
– Заколоть надо, пока не сдох! – пыхал махрой отец. – Степан матерится, намаялся с ними за день, лезут к каждой корове, кака-то и зацепила рогом.
– Не надо колоть! – холодеет у меня в груди. – Может, вылечить можно, а?
– Лекарь нашелся! – боевито фыркает брат и ширкает ножом о сколок бруска. – Зря куксишься. Ничего не сделать…
Слезы жгут глаза. Вот-вот разревусь. Еле сдерживаюсь.
Мама молчит. Почему она молчит? Эх, вы все…
– Обожди, Шурка, – говорит отец. – Обождем до утра… Утром, когда опустел двор, когда обнаружил я необлизанного в целости и сохранности, то сразу побежал к Шурке Кукушкину:
– Дай йоду. У тебя в пузырьке оставался…
– Опять боровка подложили? – дивится Шурка.
В прошлом году этим Шуркиным йодом только и выходили поросенка. После ножа «коновала», как называет мама ветфельдшера, у боровка воспалилось подхвостье. Шурка приносил свой пузырек, совал в него прутик с ваткой, смазывал рану. За «вызов» он, швыркнув носом, принимал от моего отца по два пятнадчика и, сутулясь, уходил домой. На другой вечер опять деловито брякал щеколдой калитки, приступал к лечению. Длилось оно две недели и закончилось благополучно.
Кукушкина долго просить не надо. Необлизанный терпит, не дергается, когда мы обстригаем вокруг раны шерсть. Потом Шурка, будто ручку в чернильницу, сует прутик с ваткой в пузырек, принимается обихаживать лекарством больное место. Ягненок дрожит, порывается освободиться. Но мы держим крепко.
– Кто знат, кто знат! – серьезно сопит Шурка. – Сильно пырнула. Мясо вон наголе…
Денег с меня он не просит. И завтра приходит. И потом.
Но не помогает Шуркин йод. Смотрю я – в открытой ране барашка извиваются уже белые червячки. Их много, отвратно несет от раны. Я беру щепочку, выколупываю червячков, давлю их, извивающихся на земле, голой пяткой. Необлизанный стоит смирно, только дрожь сотрясает его исхудавшее тельце. Наверно, живая плоть раны уже омертвела, барашек не чувствует боль или всецело доверился мне – своему поильцу-кормильцу. Что у них там на уме, у бессловесных?!
– Да, йод не помогат! – хмурится Шурка, застав меня за этой операцией. – Нужен креолин. На ферме овечек купают в растворе креолина, давай сбегам.
Сбегали. Набрали в бутылки.
Теперь я лечу барашка уже самостоятельно. Намочу тряпицу в лекарстве, каким выхаживают своробатых колхозных овец, прикладываю тряпицу к ране ягненка по нескольку раз в день. И день ото дня дышащая плоть раны подсыхает, отпадают мертвые и сухие волокна. На поверхности раны образовалась уже плёнка, которая ежедневно сужается, покрывается живым пушком. За пушком возникает и новая шерстка. Я понял: лечение удалось. Мой подопечный будет жить!
С наступлением холодов в любом крестьянском дворе решают: как быть со скотиной? Дойной – зимовать. А барашков обычно колют на мясо.
Не вспомню, как у нас было.
Память избирательна. Горькое она сохранила, но больше – светлого. И томит оно своими красками, не отпускает, не дает забытья. Это же было в детстве. В светлые года!
К сентябрю, когда мама сшила мне на зингеровской машинке новую бумазейную сумку к школе, барашки мои обзавелись крепкими, словно точеными на станке, рожками. Упруго скакали по двору, сшибались лбами, по-прежнему гоняли кота и кур, лишь петуха, испробовав однажды его острого железного клюва, обходили стороной. Конечно, петух считал себя стражем, защитником глуповатого куриного племени. И за себя мог стоять!
Меньшие братья. Сколько их было в моей жизни. Ни разу они не предали, не изменили в своей привязанности. Разве, что только волки-разбойники. Но с волками встречаться не довелось, потому сказать о них ничего не могу.
Мне видится погожий день бабьего лета. Летает паутина. Скворцы начали возвращаться из лесов и сбиваться перед отлетом на юг в большие стаи. В огороде идет копка картошки. Пахнет вывернутым черноземом. Клубни картошки чистые, розовые. Немного «обыгаются» на солнце и – можно в подпол ссыпать.
Все, и люди, и животные полны сил и умиротворения. Всем хорошо.
Барашки наши носятся, копытят землю. Раздолье курам. Никто не гонит их сейчас с огорода, не стреляет по голым ногам запыженным в патрон вместо дроби овсом. Жучка сидит на куче ботвы и, прижав от удовольствия уши, смачно хрумкает красной морковкой.
Корова Люська с бычком Борькой дохаживают последние недели в табуне. Вот-вот зарядят дожди. Непогода прикатит. А там жди первого снега.
Пахнет прелым листом. В предстоящую зиму, в студеные ветры еще как-то не верится.