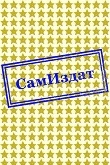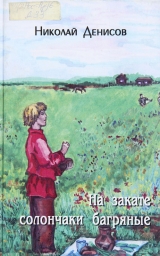
Текст книги "На закате солончаки багряные"
Автор книги: Николай Денисов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 20 страниц)
«До войны отец мой работал в совхозе на тракторе «ЧТЗ». В то время этот трактор казался могучим, заводился ломиком, сиденье было широкое, проходимость хорошая. Отец содержал трактор в чистоте, и работал он у него всегда хорошо, никогда не подводил. Отец брал меня, дошкольника, на посевную с собой. Я просто катался, а отец верёвкой поднимал лемеха на поворотах и вновь опускал, когда въезжал в борозду.
Помнится первая свежесть ранних рассветов. Первое весеннее тепло помнится, красота первых цветов стародубки, первых белых подснежников. И первый трепет листочков берез и осин. И комары – злые, кусучие…
Отец приучал меня видеть природу и сам любовался ею. Синими медунками, утренними зорями… Иногда малиновая краска заливала облачка, попавшие в широкий разлив зари.
Я числился прицепщиком и был горд этим. Кормили кашей с мясом в бригаде, а как было вкусно! На посевной соревновались, каждая бригада старалась отсеяться первой. Хорошо помню, как люди шутили, пожимали друг другу руки, радовались, что отсеялись вперед.
А осенью отец садился на прицепной комбайн, убирал хлеба.
В июле 41-го отца взяли на войну вместе с трактором. Я провожал его до конца нашей рощи. В Бердюжье, в райцентр, он решил ехать через Осинники – ближним путем. Остановились в конце рощи, отец подошел к небольшой березке и из её веток свил венок на память, оставил меня возле этого венка и сам уехал, долго махая мне рукой…
На следующий день я пошел к этому венку, побыл рядом, погоревал. И только потом сказал об этом матери. Она попросила принести венок домой. Я взял нож, чтоб срезать его, хоть мне почему-то не хотелось этого делать. В роще той березки я не смог найти. Обошел все полянки, осмотрел все деревья – венка нигде не было. А мать все посылала и посылала меня за ним. А он так и не отыскался…
После войны стали приходить домой солдаты-фронтовики. Среди первых вернулись шоферы Иван Саломатов, Василий Когтев, Петр Фомин. Вернулся и отец. Без трактора. Решил устроиться в совхоз шофером. Но в первую очередь машины давали бывшим шоферам. Когтев, помню, получил – одну раму и кабину от машины. Не стал ею заниматься. Пешком ушел в Ишим вместе с семьей. Там он и прожил до конца своих дней…
Отцу пришлось принять машину, предложенную Когтеву. И через некоторое время он восстановил её по «косточкам». Что это ему стоило, только он сам знал. Все перебрал, отладил и стал ездить!
Почему все в Окунёво вспоминают: ездил он тихо?! Не думаю, что боялся скорости. Тогда и скорости-то были другими. Самая высокая – 70 километров в час. А отец ездил где-то 30–50 и не выше. Возможно, он жалел машину, восстановленную с таким трудом. Да и дорог тогда не было, кроме грунтовых и грейдерных. Кочки да ямы, а после дождей вообще не проехать, все машины буксовали. Шофера пытались выскочить на обочины, но потом приходилось просить трактор, чтоб вылезти из кювета. А отец в такую погоду ездил по Казанскому тракту – через Одышку, нигде не буксовал, первым приезжал из Ишима в Окунёво с грузом. Словом, ездил расчетливо: не пытался штурмовать кюветы, осматривался, где можно проехать травой, подлопатить, убрать бугорок, подложить сучьев под колесо. Берег машину, и она его не подводила. Но однажды, во время отпуска отца, машину дали временному шоферу. Он её кончил, разбил. Отцу снова пришлось восстанавливать…
Платили в совхозе очень мало. Даже хорошим специалистам. И когда отец пошел на пенсию, стал получать 60 рублей в месяц. За все свои многолетние честные труды!
А он был честнейшим человеком. И светлым душой. Никому не сказал грубого слова, никого ничем не обидел, никого не ударил, даже нас, детей. Ничего ни у кого не украл, никого не осудил, не оскорбил, никогда не матерился, никогда и никому не был должен – не любил занимать. А в долг давал. И мог отдать последнюю рубаху, если человеку трудно. У дома насадил сосенок и цветов, которые приносил из ряма и рощи. Березки в огороде посадил. Они росли быстро, потом уж, в поздние годы, новый хозяин нашего дома выкорчевал березки: не должны быть деревья в огороде! Но я знаю, что если бы у отца был еще какой-то участок земли, он бы превратил его в сад!
Он был человеком самого широкого профиля: умел построить дом, связать рамы, окосячить, умел сложить печь и обшить дом стругаными досками. Все умел. До войны шил хромовые сапоги. Помню, как на железной лапе он забивал в подошвы деревянные березовые шпильки и как работал дратвой со щетинкой вместо иголки. Столярничал хорошо, мог сделать шкаф, хоть и не было у нас специального набора инструментов. Пытался держать пчел, но какой-то мор навалился, и пчелы погибли.
Образование у отца было небольшое, но писал он грамотно, красиво, читал газеты и мог поговорить на любую тему. Последние годы отец переписывался с каким-то немцем из ГДР. Что они писали друг другу и на каком языке, не знаю…
Умер отец на семьдесят третьем году жизни. Похоронен у ряма на двоеданском кладбище. Рядом с ним лежит моя мать Мария Викторовна…»
За рямом, за рямом… Полоснуло тут по моей душе. Там и мои…
О, Русская земля… Шумят, шелестят травами степные ветры. Плачут. О чем этот плач. Не скажут ветры. Не узнать и мне никогда.
НА ЗАКАТЕ СОЛОНЧАКИ БАГРЯНЫЕ
Пахнуло солончаковой прелью, духом молодого камыша, испарениями от нагретой за долгий день воды. Потом обозначились и эти камышинки, они скудноваты ростом, как везде по бережкам горько-соленых степных озер. Потом открылась и сама гладь реликтового водоёма с блестками пены по узкой полоске песчаного берега.
По песку бегал хохлатый куличок – одинокий, словно потерявшийся. Он, вероятно, и кричал, как кричат обычно кулички этой породы – «пил-лик, пил-лик!» Но за гулом мотора не было слышно – о чем взывала в пространство одинокая, в предвечерье, птица.
Машина, замедлив ход, громыхнула бортами на спуске-повороте с накатанного грунтового большака и, мягко продавливая колеи, покатила полевой дорогой.
Молодой гомон, так и не утомившихся за день парней и девчат, возник с новым напором. Знать, и куличок этот напомнил: въехали в свои родные Палестины. До села оставалось верст двенадцать. Сережа Субботин, азартно жестикулируя, жесты эти сопровождались смехом девчат, принялся рассказывать про известного у нас в селе Сашу Куркова: вот втемяшил себе парень! – решил стать чемпионом области по бегу. Тренируется по ночам, топает круг за кругом по улицам. «Виданое ли дело!» У баб пересуды. Мужики табак смолят в задумчивости. Старухи сходятся на том, что
«Шура, проучившись два года в городе, в Тюмени, знать, надсадился в этом ниверситете головой, с ума сошел! Чё бы ему бегать-то, с чево!»
Разговоры разговорами, а Курков не сдается. Едва ночь спустится, топает!
Ребята с девчонками понимают, что «у Куркова, у Сашки, и страсть, и цель» А все же!.. Двоеданки вон крестятся: «Господи, оборони!» До утра покою не дает «жеребячий топот физкультурника!».
Тяжелое колесо солнца катилось к закату. В небе сочились еще жаркие остывающие краски, подсветив березы берегового колка, стоймя отражающегося в зеркале воды. Краски эти стекали на камышинки, метелки ковыля, багряня набухшие земной сукровицей былинки солончаковой растительности.
В глазах – картины города, где мы провели этот долгий летний день. Для одних, как, скажем, для нас с Толькой Рыбиным, он прошел в открытиях. Другие, как Сережа, Валя Журавлев, Аганька Семибратова, Валя Васильева, Юра Мишин, Мотя Белова, Валя Кудрявцева, нахлеставшись, как говорят у нас, набегавшись по магазинам, везли теперь городские обновы – в нетерпении поскорей добраться до родной горницы, до зеркала, чтоб вновь надеть-примерить, уже без спешки, пахнущие фабрикой вещи. Сережа вон, не мешкая, еще в городе, как нахлобучил на пшеничный чуб, так и не снял «самую моднячую» у парней кепку – серую, будто сплетенную из мягких ворсистых нитей. Так же и Валя Журавлев поступил. Он в «знатной» курточке: белой да при змейке молнии-замка – от пояса до крепкой шеи. Моднятся ребята окунёвские. Пора – старшеклассники!..
Поездка в этот град-Ишим, самый ближний от села настоящий город, выпала нам с Толькой внезапно. Как подарок, который дали не насовсем, а подержать, полюбоваться. И уже не важно, как ранним утром попали мы в кузов «зиска» с набросанной в него соломой, с дружно занявшими удобные места у кабины парнями и девчатами, по-молодому самоуверенными. Почти взрослые.
Нам, отрокам, достался закуток возле заднего борта, где вдоволь натряслись и наглотались дорожной пыли. Но экая важность неудобства – пыль и эта тряска на ухабах, что веселила даже, не угнетала во время нечаянного путешествия.
Город начался с тихоструйной речки Карасуль-ки. У нас и таких речушек нет. Через нее, узким мосточком, въехали мы в Ишим. Увидели собранные в одну бучу деревянные дома и домики. Вроде все как у нас в селе. С теми же огнями гераней в окошках, с горками нерасколотых дров у ворот, со знакомым духом щепы и опилок. Ну и ну, подумалось мне, эка невидаль!
Каменный двухэтажный центр с мостовой, выложенной серым булыжником, «зисок» наш проехал медленно, как бы крадучись, озираясь на красный околыш милиционера, а потом ободрился и опять вонзился в деревянную кипень домов другой окраины. Вырулил на береговую улочку, заросшую травой, уперся радиатором в ворота ограды, за которой склады и казенное жилье. Это – «экспедиция, городское подворье нашего совхоза». Отсюда и отгружают к нам черный каменный уголь для кузниц, запчасти, крупу-пшенку, прочие продукты, нужные в страду на полевых станах с коллективным, артельным котлом.
Нам, пассажирам, чтоб ехать обратно, надлежало собраться здесь к пяти вечера.
– Ребятишки, река Ишим вон там, в переулке! Летите! – махнул рукой в нужном направлении понимающий нас шофер «зиска» Саша Кузьмин. И мы с Толькой полетели.
Знакомая по школьной карте «настоящая река», которая впадала в Иртыш (а тот в Обь, что синей и толстой жилой на карте стремилась в Ледовитый океан), текла под высоким обрывистым берегом. Нити тропинок змеились вниз, к кустам ивняка, с верхотуры казавшимися зелеными кочками.
– А где пароходы? Корабли где?
Эх, Ишим-река! Конечно, знал я, что пароходы тут не ходят, они дальше – на Иртыше, и все же!
– Подожди, приплывут! – ухмыльнулся дружок мой.
– Да пошел ты!
А потом открылось диво: в сотне метров от нас, между берегами, висел воздушный мост. И гадать не надо – мост! По нему с того берега обыденно шел мужик с удочками, и толстые стальные канаты вздрагивали при каждом шаге мужика. Когда он поднялся тропинкой на кручу берега, мы побежали к мосту. Оставить его без нашего внимания просто не могли.
Пружинили под ногой доски. Свистел ветер. И над рекой. И в груди. А под нами, далеко внизу, стремительно закручивались воронки быстрого течения. С середины моста виднелся вдалеке черный паром, тоже невиданный нами прежде, но узнанный сразу – паром…
– Здорово, а!
Заречный простор стелился далеко, к высоким лесам. А что там, за лесами? Скачут на конях казахи? Аулы бронзовеют в степи! И ковыли колышутся, простираются аж до самого Китая. По географическим-то знаниям – я первый в классе…
– Здорово, а?
А потом Толе, с чего бы вдруг, вздумалось раскачать воздушную конструкцию. И он принялся присядать да нажимать на страховочные ограждения, как на веревочные качели в Пасху, отчего конструкция загудела как живая. Застонали, заскрежетали витые тросы. И что было бы потом, не воображу, если бы с берега не понеслись матерки мужика-рыболова, посулившего, если не прекратим хулиганство, оборвать нам дурные головы!
– Ладно! – хмыкнул Толя и посмотрел на меня. – Напугался??
– Пошел ты…
Вот так всю жизнь – и в детстве-отрочестве и потом! – обзаводился я, сам «не от мира сего», отчаянными приятелями. Один лез на верхотуру топографической мачты по гнилой лестнице, другой над рекой воздушный мост чуть не угробил. С третьими в торосы Ледовитого океана полезу потом. И далее – в «ревущие сороковые» широты Южного полушария…
Но об этом что толковать: все приключится как приключится. И, конечно ж, не так, как сейчас, не с бухты-барахты, а по разумению взрослой (и к той поре не совсем уж дурной) головушки…
А пока мы – в настоящем городе. Впервые. И я нянчу в груди план наших открытий.
– На станцию теперь! Смотреть паровоз!
Толя не сопротивляется. А чего упираться: и он впервые! Каким-то чутьем угадывая направление, прошагали мы вдоль палисадников и оград Артиллерийской улицы. Название – что надо! И пара тележных оглобель, вздыбленных над забором одной из оград, нарисовала в нашем воображении стволы артиллерии малого калибра. «Большого калибра» встретятся потом – на главной улице, в настоящем военном городке – ряды гаубиц, зачехленных, а все-таки боевых, настоящих!
Травяной плацдарм улицы с военным названием наконец перехлестнулся с булыжной мостовой. И мы заскочили внутрь автобуса с надписью над лобовым стеклом – «Вокзал – Хутор».
– Следующая остановка Болотная! – громко объявила толстая тетка с сумкой на груди. – Рас-читаемся, граждане…
Потом обнаружится, что все кондукторши в Ишиме – толстые, все говорят громко, с придыханием. И сумки у них на груди бренчат мелочью. Забавно. Но надо расплачиваться.
– До вокзала нам! – сказал я вежливо и нащупал в кармане штанов мелочь. С полкилограмма ее оттягивало мой карман. Недавно повезло мне: в «орлянку». Обчистил всю орду деревенскую. «Прожженных» игроков обчистил!
– За две остановки рассчитаемся! – сказала кондукторша. – Не ясно, что ль, по двадцать копеек за остановку! Откуль такие?
Толя надавил мне локтем в бок, а другой рукой сунулся в накладной карман рубахи, вынул сотенную, небрежно помахал «портянкой» этой, выданной недавно в совхозной кассе – за труды на конных граблях:
– За обоих плачу!
– Да что вы, мальчики! Для сдачи я еще и «четверной» не наторговала. Езжайте уж так… Болотная! Следующая – вокзал!
Притиснулся к стеклу в надежде разглядеть если уж не подобие нашего Дворникова или Красулева болота, то хоть лужу с осокой, с метелками камыша. А нарисовалась вывеска железнодорожного универмага, потом возникли кусты сирени, высокие тополя, обогнув их, автобус тормознул на конечной.
Вокзал! Отсюда когда-то и пролягут все мои будущие пути-дороги. Он, вокзал, войдет в мои фантазии со всей своей предметностью – игрушечным уютным видом, с часами на фронтоне крыши, с фонтанчиком-журавлем и шарообразно подстриженными декоративными деревцами. Ими-то, деревцами, и занят сейчас садовник с большими ножницами на длинных ручках.
Я спросил его:
– Дяденька, а где тут паровозы стоят?
А дяденька даже не обернулся, занятый кропотливым «искусством».
– Он глухой и немой! – отреагировал Толя.
Мы пошли за чемоданным народом в гулкое помещение вокзала. Посмотрели на потолки, на стены, ни на чем не задерживались взглядом, с тем же народом вылущились – уже на перрон. Здесь было лучше и просторней. Да, уже потом, в будущих моих фантазиях, влюбленные герои повести «Пожароопасный период» станут встречаться именно на этом самом перроне. Здесь к той поре поставят фанерные ларьки с жареным минтаем и скумбрией, а сейчас вдоль открытого под небом дощатого прилавка-базарчика цвели бабьи платки, а на самом прилавке багрянели пучки влажной редиски. Возле пучков зеленого лука парили миски молодой картошки, выпячивались бутыли с молоком, заткнутые газетными пробками.
Мы догадались, что торговки ожидают проходящий поезд. Но поезда не было. И вообще все рельсовое пространство перед вокзалом пустовало. Рельсы и шпалы со следами мазута лежали в одиночестве. Зато – ого! – вдалеке громоздился на путях настоящий черный паровоз. Он выставил перед собой сочного цвета красную звезду и временами испускал облачка пара.
Мы двинулись к паровозу. Как не подойти? Это ж – паровоз! Все остальное – не столь важнецкое.
Тут, читатель, надо уточнить ситуацию. Как лучше в нашем положении ориентироваться в незнакомой городской буче? Надежней – спрашивать! Да. Но больше, соображал я, настроясь на лад дружка, больше нас выручит уверенность, этакая Толина нагловатость! На двоих эти понятия хорошо делятся и выглядят даже пристойно.
И мы уверенно поднялись на переходной – над рельсами – мост. Черный паровоз оказался как раз под нами – внизу.
– Твой братан на таком работает? – спросил Толя.
А в тот момент из будки паровоза высунулась голова, что-то крикнула, а вслед за криком этим раздался такой заполошный рев, что мне показалось – проваливаюсь в преисподню. Дребезжащий железный рёв вибрировал и клинился под сатином рубахи, проникал в каждую клеточку тела.
– А ну-у его! – спекшимся голосом выдохнул Толя…
Он и сейчас, в кузове «зиска», железный этот горячий обвал, стоит в груди, все еще обволакивая сердце кипятковым тугим духом. Уже вроде давно отъехали от города, шестьдесят верст за бортом – через деревни, пашни, березовые леса, степь. «Зисок» пылит уже через большое село Пеганово. И парни стучат в кабину кулаками. Ого, столовая! Шофер тормозит у крылечка. И все ринулись тратить последнюю мелочь. Набрали компота и принялись со смехом уминать хлеб с тарелок, нарезанный аккуратными кусочками. Да, конечно, здесь, как и в нашей чайной, хлеб бесплатный, дармовой.
– И тут коммунизм! Айда, ребятишки! – зовет нас шофер.
Толя пытается что-то вымолвить, но болезненно морщится, машет рукой – обойдемся! Смех и грех с Толей! Так навалился в городе на мороженки мой дружок, «съел аж двадцать четыре штуки!» Хвастался мне, а вот теперь осип, потерял голос.
Началось все в железнодорожном саду. Туда, на трубы играющего оркестра, двинули мы с вокзала. Дивился я: столько отдыхающего народа гуляет в саду! И все в хорошей одежде. А меня все смущало, томило как-то: вот народ – ходит, разговаривает, смеется, а мы, как чужие?! В деревне у нас принято здороваться и с чужим народом! И я пробую поделиться размышлениями своими с Толей. Он иронично хмыкает. У него на сей счет свое мнение? Конечно, Толя хоть и грубоват, а начитан побольше меня, имеет свое понятие! Он влечет меня от фонтана, где под струями важно плавают два лебедя, к примеченному киоску с мороженым. Мороженое, конечно, вещь замечательная, но мне хватило и пары вафельных стаканчиков. А Толя пристал к киоску, как к варенью муха, и отставать не собирался.
Хорошо, наверно, быть городским!
– Ну будет, будет! – почти силком увлек я дружка из этого нарядного парка с фонтаном, гипсовыми скульптурами, хорошо играющими трубачами и с мороженым этим.
Дошли до автобусной остановки. И тут заспорили. Куда теперь? Паровоз посмотрели! Мороженого налопались! Куда?
– Не знаю! – валял дурака Толя. – Буду кататься на автобусе, мне понравилось…
Автобус дотряс нас до центра с каменными домами.
– Госбанк! – объявила кондукторша.
Вышли почти все пассажиры. Спрыгнули на тротуар и мы. А тут уж я заупрямился:
– Мне надо попроведовать бабушку Розалью! Мама наказала. Улица – рядом с церковью. Пошли вместе? Во-он купола с крестами…
Толя уперся:
– Вон видишь вывеска – «Колхозный рынок»! Еще пару мороженок возьмем, а потом на автобусе покатаемся, двинули!
Ломать друг друга, дело бесполезное. Сошлись на одном: улица Артиллерийская – главный ориентир, придем к пяти вечера в «экспедицию». Всё!
Стало быть, надо привыкать к самостоятельности. Побренчал я мелочью и встал в очередь к киоску «газвода». Да, конечно, шипучая водица эта повкусней рабкооповского морса. И вообще столько праздничного вокруг. Одни афиши кинотеатра чего стоят!
Автобусы тоже праздничные. Даже телега и запряженный в нее коняга забавно стучат и звякают по булыжнику!
Хорошо в городе. Вон пушки из-за забора дыбятся! Настоящие! Присел на скамейку – веселей на душе! Офицер идет, сапоги поскрипывают. Погоны в золоте.
– Здравствуйте! – говорю офицеру.
– Здравия желаю! – улыбается офицер и подмигивает мне.
Девчонки в коротких сарафанах. Смеются, глазами стреляют по сторонам. Эти пусть себе идут своей дорогой.
Устало, сразу видно, что находилась по жаре, на каменные ступеньки кинотеатра поднимается женщина. Со мной поравнялась. Так похожа на нашу учительницу Анастасию Феофановну, так похожа…
– Здравствуйте!
Остановилась, пристально смотрит на меня. Лучше сказать – уставилась в недоумении. А я, будто к школьной доске вызван с невыученным правилом по грамматике. Некуда деться. Сиди уж, коль выпятился со своей вежливостью, со своей воспитанностью. А сидеть уж не хочется: нарвался!..
– А ты из какой школы, мальчик? А что не в лагере?..
– В каком лагере? Ничего я не знаю…
– А-а, понятно, нездешний. Из деревни приехал?
– А вам-то что? Ну, приехал…
Провалиться бы! Кровь прихлынула из глубины. Щеки, чувствую, пылают! Такое со мной, сколько не борюсь, приключается…
Как со стороны себя вижу. Уставился на свои тапочки в смущении. А куда еще уставиться оставалось?!
Поднял глаза, а тетенька уже топает к углу кинотеатра, пучок укропа торчит из авоськи. Зелененький…
Бабушку Розалью, ту – из загадочной для меня польской родни, нашел самостоятельно и быстро. А сначала был ориентир – церковь! С запертыми воротами, пустым двором и одиноко бродившей по двору пестрой курицей. Картина! И церковь вот так близко впервые вижу. Но – помани, кто угодно сейчас в эту ограду, хоть чем завлекай, никогда не войду. Не пионерское дело!
Жил-был поп,
Толоконный лоб,
Пошел поп по базару
Посмотреть кой-какого товару.
Прошел поп… А перед моими глазами Балда этот пушкинский веревкой чертей мутит-пугает…
Батя наш ироничный такой: «Дай, Катерина, топор, иконы твои на щепы колоть буду…»
Церковь. Кресты на куполах. Жаркий полдень в городе. Средина пятидесятых годов. Одинокая курица, порывшись в пыли, не отыскав и зернышка-крошки, отправилась в заросли лебеды, что вялыми метелками тулились возле церковного штакетника.
Пошел поп по базару.
А я пошел к бабушке Розалье.
– Из Окунёва? – открыла она на стук в дверь. И я сразу узнал – она! В цветном халате, хорошо причесанная, завитая, вся – городская. В квартирке чисто, прибрано. Комод с кружевными салфетками. Глянцевые фигурки-слоники. Еще какие-то чудные безделушки, флаконы с духами. Цветы в вазе. И неживые цветы – в простенке. Яркие картинки на обоях. И часы-ходики с гирькой на цепочке. Обрадовался: у нас такие же! И качают языкастым маятником…
– Катеринин, говоришь, паренек… Я ведь гостила у вас, помнишь, конечно… Подрос! В каком классе учишься?
– Пять закончил нынче! – отвечаю, а тем временем уже усажен к столу, на котором появились яблоки, конфеты, сдобные булочки, а на керосинке, в кухонном уголке, что-то уже зашкворчало на сковородке. Бабушка Розалья, сестра моей деревенской бабушки Настасьи, все выспрашивает, выспрашивает. Я же, впервые попав в городскую «фатеру», как мама говорит, думаю о том, что живется городским – «не то, что у нас…»
Миновали деревню Карьково. «Зисок», натужно завывая мотором, поднялся на высокий увал, с которого открылась низинная солончаковая степь – без единого деревца и кустика. Никого. Лишь ближе к деревне Песьяново, что осталась справа, паслась отара овец и темнели два бескрылых ветряка.
Самое труднопроходимое для машин место – эта солончаковая низина. Не дай бог, говорят, оказаться здесь в распутицу иль застигнутым ливнем. Набуксуешься, насидишься по кюветам.
Но сейчас сухо, привольно. Девчата, приникнув к друг дружке, спохватились вдруг, завели песню, но на просторную про казака, что скакал через долину, уже не остается времечка. Скоро, скоро поднимемся на последний Крутинский увал, с которого откроется ближняя деревенская степь, такая ж солончаковая, с чудной растительностью. Под закатным солнышком простерта сейчас эта степь во всех своих красно-багряных тонах, в которые добавляли огня лучи заката.
Толя что-то безголосо промычал мне в ухо, показывая на огненные степные краски. Я понял, что и он счастливо захвачен этим неожиданным видением, происходящим, наверное, во всякий ясный летний вечер. Да вот приметить его, полюбоваться им, не всегда достает случая.