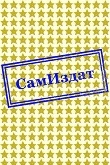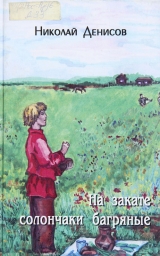
Текст книги "На закате солончаки багряные"
Автор книги: Николай Денисов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 20 страниц)
ПАСХА ПОД СИНИМ НЕБОМ
В останкинскую дубовую рощу мы ходили по вечерам «слушать соловья». Идиома эта затвердилась на нашем курсе с легкой руки севастопольца Вани Тучкова, с которым я прожил рядом в одной комнате все наши экзаменационные и установочные сессии, растянувшиеся на пять с половиной вузовских лет – в Литературном институте. Как раз строилась Останкинская телебашня, и всякий раз, приезжая на очередную сессию, для заочников – это месяц в сентябре-октябре, затем еще месяц поздней весны или начала лета, мы первым делом отмечали, насколько за наше отсутствие в Москве продвинулось строительство. Основание башни – этакая фантастическая лапища, упершаяся в землю наподобие инопланетного летательного аппарата, было скрыто коробками домов, и только бетонная «труба», опутанная тросами, шлангами, строительными механизмами, упорно тянулась и тянулась к небу,
Ваня дивился, глядя на «трубу» из окна нашей общаги, прицокивал языком, придумывал этой «трубе» грубоватые сравнения, наконец, измаявшись от ничегонеделания, учебники он аккуратно укладывал под подушку – «во сне сами войдут в голову!» – тормошил меня, углубившегося в книгу: «Кончай, пойдем соловья слушать!» Я сопротивлялся, мол, надо готовиться, завтра экзамен по зарубежке сдавать! «Все сдадим… Кроме Севастополя! Пойдем!»
Пафос про «Севастополь» убеждал меня – надо! Откладывал учебник, натягивал свои флотские клёши, потуже перепоясывался широким ремнем с якорем и звездой на надраенной бляхе – еще не успел отвыкнуть от недавних строгих порядков на службе! – и мы выходили под останкинские небеса.
Как пели соловьи в прохладные черемуховые майские вечера, какие трели-коленца выдавали в теплые ночи июня! Иногда, случалось это чаще по выходным, я уходил в дубовую рощу один, раскинув прихваченное одеяло, устраивался с книжкой под уютным кустом. Ходили мы еще в Ботанический сад, что рядом с ВДНХ, тоже оккупировав какую-нибудь реликтовую полянку из пахучих трав, погружались в свои конспекты. Иной раз, обнаружив сие безобразие, прогоняли нас сторожа Ботанического, и мы опять шли в дубовую рощу, где никакой стражи…
Теперь, по прошествии лет, когда судьба разбросала нас, литинститутцев, по суверенным государствам (вот и Ваня Тучков за кордоном, а говорил – «Севастополя не сдадим!»), горько сознавать (и мы виновны, дававшие воинскую Присягу Родине!), что в октябре 93-го по этой дубовой роще хлестали очередями ельцинские бэтээры, сбивая листву с деревьев, между которыми метались в вакханалии демократического побоища люди, истекали кровью, умирая с остекленевшим ужасом в глазах, вопрошая в холод серого неба: за что?!
Соловьи, соловьи…
Но это будет потом, через годы, когда в стране победит серость, а она беспощадна и мстительна, кроваво отомстит за своё прошлое многолетнее пресмыкательство, за бездарность, за нищету своего духа. Повсеместно отомстит. Во всех сферах жизни.
И где ей будет понять красоту и беззащитность таланта, патриотизм подвижников, жертвенность во имя гордого имени Отечества, Родины!
А тогда мы радовались удачной строке, каждому образу, эпитету, хлесткой пародии, эпиграмме на какого-нибудь «классика», по-хорошему завидуя успеху товарища, ценя самобытность. К нам в комнату заходили очники – Боря Примеров, Витя Смирнов – смоленский, белорус Ми-кола Федюкович, ребята с нашего заочного отделения – Саша Голубев из Воронежа, Толя Демьянов из Ижевска. Толя писал не только отличные стихи, но и заваривал чай такой чернильной густоты, после которого, по его словам, можно видеть сквозь все потолки нашей семиэтажки небесные звезды или как бегают в подвале крысы. Словом, разный народ бывал в нашей комнате – даже грозный комендант общаги Циклоп. Но поэты бывали чаще! Стихи читали без продыху. И мой сосед по комнате Миша Мамонтов, прозаик, да еще староста курса, махнув на нас рукой, уходил от нашего стихочтения, как он говорил, «пообщаться с простым народом, с работягами» – куда-нибудь на бульвар или к гастроному, где и работяги, и все прочие обычно «страивали» по вечерам.
Еще признавался Миша, дивясь нашей поэтической неукротимости, что после возвращения домой в свой узбекский Алмалык, где он водил на каком-то секретном руднике электровоз, – не может смотреть на все то, что написано «столбиком» или стихотворной «лесенкой»! Даже – на объявления!
Однажды, побывав на вечернем бульваре, Мишка вернулся в комнату расстроенный, какой-то взвинченный, никогда таким его мы не видели. Ну, рассказывай, говорим, что у тебя? Да вот, говорит он, Рубцова вашего знаменитого сейчас отчехвостил! Мы с Ваней насторожились: Рубцов, хоть в нашей комнате не бывал, но был уже известен. Читающая публика его знала, а мы, однокашники, подавно!
– Был я в столовой, где пиво продают, бар там есть, знаете, – рассказывал Мишка, – взял кружку, подсел за столик, где Рубцов сидел. Там еще одна девушка кушала. Сидим, припиваем, и тут Рубцов, с чего не знаю, начал грубости девушке говорить. Она взяла тарелку свою и перешла за другой столик. Тут я не выдержал, взорвался: как вы можете? вы же известный поэт. Вас люди читают… И вообще, ни за что ни про что! Он, правда, примолк, насупился… а вот сейчас увидел меня на улице, свернул в сторону, чтоб, наверно, не встречаться…
Тут я говорю Мишке: «Ты сильно-то Николая не задевай, сам же понимаешь, какой это большой поэт!» – «Да понимаю, – горячился Мишка, – но нельзя же так, тем более – ему…»
Впервые услышал я о Николае Рубцове в том же Ботаническом саду, на реликтовой полянке, летом 1966 года. С одним студентом из Череповца «загорали» там за книжками. Он и говорит:
«Знаешь поэта Рубцова?» – «Нет, не знаю, – отвечаю, – а хорошие он стихи пишет?» – «Ты что, замечательные?» – «Ну прочти хоть одну строфу».
Парень приободрился, прочитал:
Я весь в мазуте, весь в тавоте,
Зато работаю в тралфлоте…
«Ну и что, говорю, ничего гениального, – а это у нас было высшей оценкой! – не вижу».
Прошел еще год, который все переменил, взвихрил, вздыбил в поэтической атмосфере шестидесятых. Таланты блистали! Но выход рубцовской «Звезды полей» в «Советском писателе» стал особенно ярким явлением. И всем стало ясно: в России появился громадный талант! И ко всему прочему, это же был наш товарищ по литинституту, студент старших курсов. Я сумел приобрести в Москве несколько сборников «Звезды полей», привез в свою тюменскую провинцию, раздаривал: почитайте, обязательно понравится! Читали, кивали: хорошие стихи, душевные! Но один «авторитетный» местный критик все ж изрек: «Знаешь, старик, я тут больше десятка готовых стихов не нашел, остальные надо ох как дорабатывать, дорабатывать…»
Откуда такая глухота?
Поэзия Рубцова уже не просто жила во мне, она была созвучна моему дыханию, судьбе, сути, пониманию прекрасного. Он – тоже человек из деревни. И еще он тоже моряк, тоже «долго служил на флоте…» И еще он смог пронзительно, как никто другой – по-философски, образно выразить, кажется, простую мысль о маете русской души, о её божественной привязанности к родной земле:
С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.
Только один эпитет – смертную! – и столько в нем точности, достоверности, смысла, поэзии. Это уж потом – при размышлении – приходят оценки-определения. Вначале – прочел, – и душу захватило. До слез…
Не было собак —
и вдруг залаяли.
Поздно ночью – что за чудеса! —
Кто-то едет в поле за сараями.
Раздаются чьи-то голоса…
Как знакома эта сельская картина мне! Все так: и лай откуда-то взявшихся собак (я даже явственно представил – поджарых, верных, оберегающих хозяйское жилье), и предполагаемые упряжки лошадей (хотя их нет в стихотворении), и хозяин, отпирающий ворота, их морозный скрип, голоса: «Пустите переночевать?» И многое-многое, знакомое сердцу…
Пасха под синим небом,
С колоколами и сладким хлебом,
С гульбой посреди двора,
Промчалась твоя пора?
Промчалась, промчалась… А все-таки? Пасха на Руси, даже в долгие десятилетия богоборчества и насаждаемого атеизма, была едва ли не главным праздником.
У нас-то, в Окунёво, Пасху отмечали славно. Я слышал из разговоров старших, что наступил Великий пост, надо постовать, грех есть жирное, «молосное». Батя наш – какой уж «верующий», известно! – прибирался во дворе. После зимы дел хватало. С одним накопившимся навозом дел ни на один день! А мама устраивала большую побелку в доме. Я протирал керосинной тряпочкой иконы, рамки «патретов», фотокарточек в рамках. Тараканы в нашем доме не селились. А вот клопы – случались: таились по щелям и даже в плахах полатей. Керосином их – в самый раз! Стирались занавески, надраивались полы! А в самый канун Пасхи пекли шанежки, булочки, красили луковой шелухой яйца. Мама доставала из сундука праздничную скатерть, накрывала стол, на котором завтра, поутру, и возникнут праздничные яства.
День Пасхи всегда выдавался теплым. Парили оттаявшие, освободившиеся от снега, полянки, взгорки. Л на самых высоких местах села – мужики возводили из жердей качели. Люди принаряжались во все самое лучшее, прибереженное для светлого праздника Воскресения Христа.
Пасха под синим небом…
Власть большого поэтического таланта заставляет чистую, неиспорченную душу сопереживать, очищаться, как на исповеди, как в минуты любви и светлых потрясений…
В редкие вечера возле дверей комнаты Рубцова, обычно в глубине общежитского коридора, возле окна, не толпились его поклонники. Я не примыкал к этой компании, были там люди и не очень мне симпатичные. Любовь к стихам Рубцова заставляла меня в редкие общения с ним держаться скромно. Не навязывался, как иные, чтоб потом похвалиться панибратским общением со знаменитостью.
Однажды Рубцов, дело было осенью, подсел ко мне на лавочку в нашем скверике. Не узнал. Курил молча. Я читаю, опять к какому-то экзамену готовлюсь. И вдруг неожиданно: «Бросьте читать. Вот далось…» Я отвечаю: «Надо, знаете, я же из деревни приехал, а тут у многих уже по одному высшему образованию. Им можно и не читать!» «Из деревни?» – напускной гонорок так и сошел с Николая. Глянул как-то тепло, придвинулся. С полчаса проговорили мы о том, о сем, пока какие-то девчушки, играющие невдалеке, не увлекли Рубцова. Он вступил с ними в шутливые, «детские» разговоры, разулыбался. Я тихо поднялся, пошел в общежитие, на крылечке оглянулся, подумалось тогда: все же он отчаянно одинок!..
Как-то июньской порой идет навстречу – со стороны нашей столовки, где вчера мы пивком баловались. Ко мне утром приехала жена из Сибири, мы шли, кажется, в ту же нашу общепитовскую точку – пообедать. Остановились, поздоровались. Рубцов в своем неизменном коричневом потертом костюме, при галстуке. «Вот это Николай Рубцов!» – говорю я Марии. Он светлеет лицом и как-то часто по-особенному моргает, говорит приятные слова моей жене. И опять мы разошлись. Я почувствовал тогда: могли бы сойтись ближе. Но времени уже не оставалось…
Последняя наша встреча была в те дни, когда курс Рубцова выпустился. Прошумел у них прощальный вечер в кафе «Синяя птица». Сдали экзамены и мы за четвертый курс. Все разъезжались. В общежитии, гулком от внезапной пустоты, подзадержались четверо: Рубцов, Ваня Тучков, Алекса Абдулаев и я. Сбегал я в комнату за фотоаппаратом, вышли мы на солнце, на крыльцо. Я щелкнул своей «Юностью» несколько кадриков. Вот память и осталась. Последняя…
Потом уж, через годы, вспоминая Рубцова, написал:
Осенний сквер прохладою бодрил,
А битый час, нахохлившись над книжкой,
Я что-то бодро к сессии зубрил,
А он курил, закутавшись в плащишко.
Скамья, и рядом признанный поэт!
Заговорить, набраться бы отваги,
Мол, я из той – хотя без эполет! —
Литипститутской доблестной общаги.
Он все сидел, угрюм и нелюдим,
Круженье листьев взором провожая,
И вдруг сказал: «Оставьте… все сдадим!»
Я подтвердил кивком, не возражая.
«Вы деревенский?» – «Ясно, из села!» —
«Не первокурсник?» – «Нет, у нее не гений…»
В простых тонах беседа потекла,
Обычная, без ложных откровений.
Вот пишут все: он в шарфике форсил.
Но то зимой. А было как-то летом:
«Привет, старик!» – рублевку попросил
И устремился к шумному буфету.
Теперь он многим вроде кунака,
Мол, пили с Колей знатно и богато!
А мы лишь раз с ним выпили пивка
И распрощались как-то виновато.
Потом о нем легенд насотворят
И глупых подражателей ораву,
При мне это тогда был фотоаппарат,
Техника сработала на славу.
Он знал и сам: легенды – ерунда,
А есть стихи о родине, о доме.
Он знать-то знал – взойдет его звезда,
Но грустен взгляд на карточке в альбоме.
Не знаю, смог бы нынче, в этом смутном времени, где торжествует победившая серость, писать свои прекрасные стихи Рубцов? Смог ли бы вообще он выжить? Известно, как он материально бедовал тогда, в благополучные те года! Наверное, не выжил бы…
В нашу Тюмень я приехал благодаря Рубцову. Работал в своих сельских весях, в соседнем от моего района поселке райцентровском – ответственным секретарем газеты. Формировал номера газеты самостоятельно, редактор только в свет подписывал. Часто печатал стихи. Рубцова печатал. Однажды вечером, проходя возле типографии, слышу, наша печатная машина молчит. В чем дело? Захожу. Оказывается, замредактора – шеф в командировке – снял с полосы уже заверстанную подборку стихов Рубцова: «Нельзя пропагандировать УПАДНИЧЕСКОГО автора!»
Вынести этот идиотизм было не в моих силах. Вернувшемуся из поездки шефу я положил на стол заявление об увольнении из газеты. Уговоры – передумать! – не помогли. Уехал.
Грустно, и так кстати пульсировали и в душе строчки поэта:
Я уеду из этой деревни…
Будет льдом покрываться река,
Будут ночью поскрипывать двери,
Будет грязь на дворе глубока…
И осень была грустной. И мысли, и чувства. И все же то был свет поэзии, тот свет, о котором пел нам когда-то соловей в дубовой останкинской роще.
ТОСКА ПО РОДИНЕ
А потом было Аравийское море. Тихое, знойное. Теплоход-сухогруз, будто в густом, чадящем, догарающем вязком жире, лениво крутил винты, проталкиваясь всё дальше – северным курсом – к Бомбею. Море горело оранжево-белесыми красками, как-то нереально, фантастично для меня, хотя повидал уже разного за долгие месяцы тропического плавания. Летающие рыбки, недавно привычно выстреливающие из-под бортов, словно присмирели, подрастеряли азарт и резвость, а потом вдруг чуть ли не совсем запропали. И эта внезапная отчужденность моря, липкая жара над палубами рождали тревожные мысли о прошумевшей где-то экологической трагедии – разлитой в море солярке из гигантского танкера, либо о разбомбленном нефтяном промысле в Персидском заливе: судовое радио вещало об арабских войнах. «Да нет же, нет! – объясняли мне. – Это вода цветет…» Непомерно радостно разошлись встречным курсом с корабликом под либерийским флагом: за последние дни – живая встреча! А ночью, заткнув тряпкой сломанный регулятор кондиционера в подволоке каюты, – нагнало столько холода! – смотрел я в иллюминатор на крупные алмазы индийских звезд, на Южный Крест, на бледноватую Деву, на античные очертания Паруса…
Еще я в ту пору остро тосковал по дому. Как объяснить это несколько банальное – «тосковал по дому», ведь за годы странствий по миру, к зрелому возрасту, чувство ностальгии должно видоизмениться, перейти в новое качество, не столь острое, как в юности?! У кого – как! А я тосковал.
Правда, давно уже перестало сниться пшеничное поле с разделяющей его надвое теплой дорогой, по которой шагал я в каждом сне босиком, с каким-то библейским посошком – под стрекот кузнечиков, всхлипы перепелок, под легкий шелест колосьев: покой, тишина, солнышко светит… Все это едва ли не каждую ночь виделось в Южно-Китайском море на переходе из Осаки в Бангкок. Тогда было начало рейса, первые его недели, по ощущениям сравнимые, пожалуй, с первым моим в жизни путешествием в соседнюю деревеньку Полднево к тетке и дяде Ипатовым.
Кажется, годочков пять от роду мне и было. А до сих пор помнится, как дичился я незнакомой улочки с редкими палисадниками и огоньками гераней в бедных, без занавесок, окошках, как духмяно, остро пахло лошадиной сбруей в широком, крепко обустроенном дворе родственников. А дядя Петя Ипатов, колхозный бригадир, хорошо так улыбался, говорил какие-то сердечные слова, заводя в оглобли легкого ходка игреневого бригадирского коня. Он говорил и говорил, мой дядя, моложавый тогда, с ржаным чубом, в комсоставских «должностных» галифе и френче (в ту пору эта была униформа всякого сколь-нибудь приметного начальства). А потом тетка Катерина кормила меня окрошкой и всё подкладывала шанежки с морковкой, с творогом, да еще «картовные». А потом уж я очутился на зеленой лужайке за околицей, где блестело стекло озера и гоготали гуси. Гусей было много, злых, поминутно шипящих и вытягивавших шею в сторону предполагаемого обидчика. Они зорко охраняли пушистеньких, желтых, с куцыми крылышками гусенят и холодно поблескивали дробинками глаз на ребятню, что резвились поблизости, доглядывая выводки. У нас дома гусей не было. Не было и обязанностей пасти их. И познал я к этой поре иную летнюю волюшку-волю: где хочешь – бегай, играй. Вот и не понравилась мне эта полянка чужой деревни, эти чересчур озабоченные ребятишки – мои ровесники. Потом еще что-то не понравилось, кажется, малочисленное коровье стадо, бредущее из поля (дворов в Полднево немного!). И мрачноватый закат, и солнышко, уходящее в тучу, напомнившее, что ночевать придется не дома, где мама, кот возле черепушки с парным молоком и все такое родное, привычное…
В сумеречном вечернем доме Платовых шли хлопоты – звякали ухватами, ведрами, пахло жареной картошкой, мягко стучала дверь в избу, а я плакал. Сидел на лавке в переднем углу под иконами и горько безутешно плакал.
– Ну что ты, что ты – вдруг? – виновато всплескивала руками тетка Катерина, не зная чем утешить. – Ну заскучал, дитятко, ну завтра дома будешь, успокойся…

Заходил с улицы Валерий – двоюродный мой братишка, старше меня лет на шесть, говорил весело:
– Не реви! Хочешь гороху? – и все сыпал мне на колени, выгружая из-под рубахи, зеленые тугие стрючки,
За горохом забывался я, просторнело в груди от участия, не помнилось, как и заснул…
А потом было Аравийское море! (Как просто: волею пера взял да и перенес себя аж на несколько десятилетий вперед. И вроде ничего, ладно). Море цвело оранжево, фантастично. И думалось мне хорошо: завтра увижу Бомбей, ворота Индии, погуляю в пестроте улиц огромного города.
Но опять в ностальгических думах своих переносился я на родину. И казалось (субъективно, пожалуй!), что так остро грустит о своих пределах только русский человек.
Во второй половине аравийской ночи восходила огромная, прямо-таки ощутимо тяжелая луна, море поигрывало рябью желтых бликов, уводя далеко, в чернильную даль теплой ночи, лунную дорогу. И воздух, словно в выстывающей баньке, умеренно мягкий, йодистый, так и одевал с ног до головы, когда выходил я в шортах на корму или прогулочную палубу. Там уже теплился огонек цигарки боцмана или второго механика.
– Не спится? – ронял боцман и не ждал ответа. Он думал о свадьбе, наверное, которую предстояло играть после возвращения из рейса – старшей дочери. О хлопотах думал, о расходах, да еще о том – не забастуют ли вдруг бомбейские докеры, как недавно бастовали в других портах Индии (тогда пиши-пропало, никак не поспеть домой к намеченному сроку)…
– Не спится? – спрашивал и второй механик. Он ждал разговора. И мы толковали о том о сем. Пустяшные разговоры, вспоминать не стоит. Второй механик, наверно, думал о повышении – на днях его приняли в партию! – представлял себя: как это он – стармех, «дед»! И, видно, пьянило его от этих дум, и малиновый уголек его цигарки вспыхивал при затяжке весомо и значительно.
Наконец, выстрелив окурком в фосфорическое мерцание забортной воды, второй механик степенно шел к себе в каюту. Потоптавшись, отправлялся спать и боцман. А я оставался один на один с низкими колючими звездами, с огромной тяжелой луной.
… А луна там огромней в сто раз…
Как бы ни был красив Шираз,
Он не лучше рязанских раздолий.
Приходило на память есенинское. Ни в Ширазе, ни на Рязанщине мне не доводилось бывать, потому, может быть, строки эти воспринимались несколько украшенно и абстрактно. Даже раздражали, казались искусственными, слащавыми, как «лубочно-трубочный» портрет самого поэта. Другой портрет мне был ближе, понятней – тот, что с бунтарской дьяволинкой в синем взоре:
Я вам не кенар, а поэт,
И ни чета каким-то там Демьянам…
Да что там!..
Сухогруз шел и шел. Висела луна – моя деревенская, из сибирских, тюменских моих пределов. С теми же щербинками и оспинками на лике, с кратерами, морями, с рубчатыми отметинами от луноходов, с припорошенными неземной пылью следами астронавтов.
Вдруг вспоминался – ассоциативно, что ли? – как нечто омерзительное, невинно-приятельский вопросик домашнего знакомца, к тому ж – начальничка, подписывавшего мою характеристику для плавания: «А ты не останешься там, за границей?» За вопросик приятелю-начальничку по-рабочекрестьянски полагалось бы врезать. Но не врезал, стерпел. Оформлялся в рейс… Что ж! Ту интеллигентность, ту «терпимость» к мерзости, хоть и плохо, но оправдывали, извиняли теперь два пережитых тайфуна, в коих трепало нас недавно, грозя поглотить в пучине вод навсегда.
Но вопросик все же остался без ответа. И в те последние дни перед вылетом во Владивосток чувствовал я кожей, интуицией, эти «невинные» разговоры за спиной: «А вдруг там останется? Нам ведь не поздоровится из-за него…»
«Будьте оне прокляты, окаянные, со всем лукавым замыслом своим, а страждущим от них вечная память трижды!» – так вот проклинал врагов своих и мучителей неистовый протопоп Аввакум.
Что же мы тогда, нынешние праведники, – думалось мне в эту ночь, – возвысившиеся над природой, Богом, планетой своей, штурмующие вселенную, так робки порой перед заведомым гадом, пресмыкающимся перед сильными мира сего, подобно флюгеру, держащим нос по ветру? Что же? Придет ли когда настоящий день?
И опять не было ответа.
Утро качало нас крупной зыбью. Но боцман все же выдал из шкиперской намордники-респираторы и приказал «доколачивать» облупившуюся краску надстройки. Пулеметно молотили обивочные машинки, вдалбливая в мое сознание очередную порцию романтики дальних морских дорог и экзотических приключений. После обеда и адмиральского сон-часа увидел я выдвинутые в море, словно форштевень огромного судна, высотные кварталы Бомбея.
– Бомбе-ей! – зачем-то усмехался боцман.
– Ага, Бомбей! – весело, без иронии, отвечал я.
Я все еще не привык, не перестал удивляться, ждать от предстоящей ночи или дня чего-то непознанного, невероятного. И «боцманюга», как выражался капитан наш, видел меня насквозь.
Потом был вечер. С недолгими лиловыми да багряными красками заката, переливом оттенков и теней на слегка утихшей зыби. Вечер вдруг обнаружил, что мы не одни на рейде: столько всяких судов и суденышек поджидают разрешения войти в порт. И собрались мы в этот вечер в пятый или в шестой раз смотреть «Вокзал для двоих». Едва задернули шторки салона, едва застрекотала узкопленочная киноустановка «Украина», едва артисты Гурченко и Басилашвили встретились на нашем игрушечном экране…
– Тревога! Человек за бортом! – раздался в динамике голос вахтенного штурмана.
И заразговаривали под каблуками железные палубы. И был я через какую-то минуту на ботдеке, где старпом и боцман командовали спуском шлюпки.
– Что случилось-то? – недовольно бубнил чей-то голос.
– Батумских охламонов понесло течением…
Шлюпка и мы в ней плавно приводнились, механик добыл из дизельного моторчика шлюпки жизнь, полетели, рассекая волны.
– Где они, эти охламоны?
– Будем искать! – отвечал, сидящий на кормовой банке, у руля, второй штурман.
Гулко, как по днищу пустой бочки, ударяла в шлюпку волна. Вздыбленный нос, где сидел впередсмотрящим молодой матрос, немилосердно осыпало брызгами, долетали и до нас, неожиданно прохладные, зябкие.
Дело, если уж не трагическое, то обидно-несуразное произошло у соседа по рейду – батумского сухогруза. Объявили шлюпочные учения. Спустили первый мотобот, не смогли запустить мотор. Понесло течением в открытое море. Спустили второй – та же картина…
– А-а-а, э-э-э, Василий! Ты где-е? – тонко взывала на позднем озерном берегу моя мать, когда отец до густых сумерек задерживался на рыбалке, когда уж все лодки, промерцав смолеными бортами, вернулись домой. – А-а-э!
– Ну чего всполошилась? – откликался из ближней курьи отец. – Рыба попалась, выбираю… Скоро буду!
На рейде золотисто мерцали огоньки. Но еще зорок был взор в лиловых сумерках. Ночь тропическая скорая вот-вот накроет. Крикнуть бы: «Вы где там, мореходы! Э-э-э!» Неловко кричать, не в деревне. Там далеко на западе – Аравийский полуостров, за кормой, уже в огнях, огромный город Бомбей. А вон могучий утюг американского сухогруза, почему-то туда, к американцу, правил шлюпку второй штурман; «дых-дых, цок, цок!» – разговаривал выхлопной и клапанами шлюпочный мотор.
Я поднял взор к высокому срезу борта «американца». Черные, чугунно застывшие в сумерках, негры-матросы равнодушно посматривали с высоты на нашу посудинку, хлюпающую на малых оборотах возле невероятно огромного снизу океанского мостодонта. И вдруг острой молнийкой грусти и жалости о чем-то далеком опять прострелило душу, и парни в шлюпке, натужно подшучивающие друг над другом, показались столь родными, словно вещая сила, неведомая до сей поры общность, объединила нас в этой скорлупке посреди чужого и коварного моря. Да, пожалуй, впервые в жизни вот так остро осознал я это родство душ, необъяснимый на простом языке аромат далекой родины нашей. Тяжелая якорная цепь американского сухогруза гипотенузой уходила в черноту воды, и на ней, на цепи, словно привидение, чудом примостившись на чужой суверенно штатовской территории, в плавках и «пиратской» косынке с торчащими у затылка концами, «загорал» русский мореман.
– Братва, – обыдено произнес он, – мы тут находимся.
Парень держал чалку бота, намотав ее на якорную цепь, а сам бот где-то во тьме прижимало к скуле форштевня и, почти слившись с темнотой, батумцы баграми отталкивались от железа чужой территории.
– Ну, тогда поехали домой! – также обыденно сказал наш кормщик. Мы быстренько закрепили буксир, механик добавил обороты мотору. И мотор, радостно зарокотав, окутал всех едким родным дымком.
– Ребята, вы что? Подмогните кто-нибудь! – плеснуло вдруг у нашего бортика и на волне возникла голова в «пиратской» косынке.
– Жить тебе надоело? Акулы… Мы ж подрулили бы…
– Думал, забыли… Акулы… Хы-ы! – выплюнул воду матрос, – Давно из дома, а? Дайте закурить! – и по-свойски устроился на банке. – Тетки у вас на пароходе есть? У нас есть, да все старые…
Ах ты, Боже мой!
И этот незадачливый «пират», заговоривший по-русски из пучины аравийской волны, показался вдруг едва ли не корешем, закадычным другом, с которым – эх, черт возьми! – и море по колено.
Ночь окутывала рейд темнотой, звездами, огнями судов. Отбуксировав потерпевших к борту батумцев, мы еще отыскали вторую шлюпку, так же благополучно выловив её среди волн и звёзд, неуправляемую, одинокую, вернулись досматривать фильм, но уже не было киношного настроения.
В каюте я выключил свет, но не сразу провалился в забытье сна. Еще долго пылила, поднятая прошедшим коровьим стадом, сельская улица, малиново и ярко пылали в окошках соцветия гераней. Кто-то проскакал на диком коне вдоль заборов и плетней, пахнуло полевым ветром…
«Ну что ты, что ты… Хочешь гороху?»
Потом другой голос – протяжный, мамин, на озерном берегу, у мостков, где пахло нагретой за день морогой, тиной, зеленым молодым камышом.
«Ты где та-ам? А-а-а, э-э-э…»
В иллюминатор заглядывала большая, прямо-таки ощутимой тяжести, луна. И, конечно же, над мачтой, чуть внаклон, в сторону Индийского океана, висел Южный Крест. Потом уж, во второй половине ночи, всходил ковшик Большой Медведицы – привычное глазу созвездие северных российских пределов.