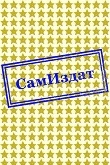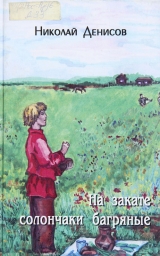
Текст книги "На закате солончаки багряные"
Автор книги: Николай Денисов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 20 страниц)
И как в киноленте наплывает из ряда вон выходящее видение. Продуктовый амбар. Отец, аккуратно взвешивая, отпускает буханки хлеба, перловую крупу, наливает в бутыль подсолнечное масло. Подъехал возчик продуктов с какого-то совхозного отделения. Отец ведет свое действо. На переднем плане – желтый, освобожденный от серой бумаги огромный куб коровьего сливочного масла. Я во все глаза гляжу в полутемный проем амбара И тут возникает молодой шофер Володька Добрынин. Возле его полуторки я не раз крутился – потому мы хорошо знакомы.
– Ах, Василий Ермилович, Василий Ермилович! – говорит Володька. Берет со стола длинный нож, таким колют в деревне свиней, отпластывает от белой буханки увесистый кусмень, отчекрыживает от кромки масляного куба увесистый сегмент, размазывает на кусмень хлеба, выносит мне.
– Ешь давай!
Отец как-то опустошенно, потерянно смотрит на действия Володьки, опустив руки, не проронив ни слова…
Поскольку я считаюсь своим в МТМ, взрослые (а это – токари, слесаря-ремонтники, шоферы и пилорамщики, мотористы электростанции) позволяют мне беспрепятственно лазить по цехам, смотреть, как красиво вьется стружка под резцом токарного станка, визжит над горкой опилок пилорама или как мотористы разогревают на открытом огне какой-то «шар», чтоб запустить нефтяной движок «Болиндер». Запускают. Движок, громко стреляя выхлопами, крутит при помощи ремня-шкива веялку или дробилку зерна. Рядом – тоже в работе! – дышит огнем и паром локомобиль с огромными, из «всего железа» колесами и высокой дымной трубой.
Среди предельно занятого, но жизнерадостного артельного народа есть «еще те ухабаки», как мама говорит, что учат меня материться и цвиркать – сплевывать через передние зубы так, чтобы плевок получался эффектным и по дальности полета был близок к полету брошенного камня или сколыша чугунка, выпущенного из рогатки.
Первому делу – матеркам – обучился я успешно, не понимая смысла произносимого и производимого морального урона. Сыплю матерками направо-налево, веселю «ухабак». С цвирканьем же сквозь зубы получается отчаянно плохо: слюна летит не дальше подбородка, на грудь рубашонки, под ноги. В конце концов, от публичного цвирканья я напрочь отказываюсь, тренируюсь в одиночку, но безуспешно.
В три-четыре года я почему-то затвердил в своем уме, что меня тоже, как и отца зовут Василий Ермилович. Когда разобрался – что к чему – было поздно: мужикам из мастерской сие навеличивание жутко понравилось и делали они это с подчеркнутым великодушием.
– Вот и Василий Ермилович пришел! А ну, расскажи стишки. Кто-то подкидывает меня на руках, устанавливает на большой торец столба или бочку, где высоко и страшновато – самостоятельно ни в жизнь не слезу.
– Рассказывай!
Ленин Сталину сказал:
Давай поедем на базар,
Купим лошадь карюю
Накормим пролетарию.
– Ладно… НКВД рядом нет. Продолжай!
Советская власть
На куриной ножке.
Всю пшеницу за границу,
Сами на картошке.
– Ишь ты! – оглядываются мужики.
Много позже прочту я у Василия Белова в романе «Кануны» частушку про «лошадь карюю». Там речь идет о тридцатых годах, о поре коллективизации. И вместо Ленина на Вологодчине фигурирует Троцкий. А наша частушка-вариант свободно гуляла в сибирской стороне и после войны, не столь и пугала слушателей, не говоря об исполнителе; конечно, в попугайстве своем не понимавшего крамольного смысла. Спрашивал – уже взрослым – у матери: кого забирали?
– Помню хорошо, как Кашкарова Андрея увозили, вернулся уж после войны! А в тридцатых, на пашне, он рассказал частушку «про курину ножку» – при активистке окуневской. Курила, на лошади скакала чисто Буденный, вот она и сообчила кэвэдышникам. Приехали на паре лошадей из Бердюжья, обрестовали Кашкарова…
– Других забирали?
– И этого горя хватило тогда на всю деревню…
Но я стою на высоком столбе и под шумные одобрения мужиков декламирую услышанное вчера.
– Громче, Василий Ермилович!
Набираю в грудь воздуху, ору сколько достает голоса:
Самолет летит
Да к верху дудками.
Это наш самолет
С проститутками.
– А ну слазь со столба, острожник! – слышу голос подошедшего отца. – Вот ремня дам! – а в голосе не злые нотки, скорей приглушенное одобрение. Ремня он не даст, припугивает. Ремня отцовского – этого горячего «воспитателя», нюхавшего кровавую земельку и под Таганрогом, и под Воронежем, и под Ростовом-на-Дону, достанется еще мне, подрасту только. А пока…
– Слазь! Кто это тебя научил?! – усмешка в голосе.
Шофер Володька Добрынин берет меня под мышки, опускает на землю, от неё пахнет бензином, как и от высветленной на солнце Володькиной рубахи.
Ношусь опять среди пшеничных ворохов, залажу, загребая зерно руками, на их вершины, скатываюсь под ноги баб, лопатящих зерно, работающих плицами, наполняя тяжелые мешки. Их тут же подхватывают за усья, вяжут шпагатом, тартают и устанавливают на платформу больших весов, возле них с карандашом за ухом, с тетрадкой в кармане толстовки – отец. Подкладывает плоские гири, так напоминающие противовесы комбайнового хедера.
Тут вижу, как, отодвинув доски забора, к вороху подбираются незнакомые ребятишки: не с нашей улицы, точно. Хватают торопливо зерно, рассовывают по карманам штанов.
– Чё раззявился, хватай, бежим в рощу, пока не сцапали!
Отчего-то подчиняюсь незнакомому пацану. Он постарше, какая-то сила в нем, она заставляет так же воровски и спешно совать горсть за горстью в карман, потом за приглушенным: «Ну, рванули!», сдирая с плеча кожу, нырять в пролом забора. Перепрыгивая через железяки, бежим в березки и шиповниковые кусты. «Рвем когти», как скажет потом взрослый парнишка в таких же, как у меня, штанах на одной лямке через плечо, босой, с красными цыпками, проступающими сквозь грязь на щиколотках, которую можно оттереть разве только рашпилем или наждачной бумагой. Минуем две открытых поляны, ископыченную лошадьми дорогу с выбоинами и канавами, полными желтоватой воды. Наконец забегаем в папоротники, которые скрыли нас с головой.
– Далеко уконопатили. Все! Надо послушать, нет ли погони! – говорит старший парнишка. Он ложится на землю, вжимается в нее ухом. Мы тоже приникаем к непросохшей после утренней росы траве, подражая старшему. А он, поднимаясь и кидая в рот щепоть зерна, прожевывая, говорит этак с гордецой, с поучительным назиданием:
– Когда погоня, слыхать копыта лошадей!
Потом мы долго идем в полумраке папоротников, отводя в стороны жесткие стебли. На голову сыплются семена и былки травы. Нет-нет долбанет комар. Ныряем под развешанную, настороженную паутину с огромным белым на ней мизгирем. Боюсь я этих тварей. Но сейчас в незнакомой компании с другой улицы, орды, никак не годится выдавать этот свой страх, леденящий спину мурашковым ознобом.
Наконец заросли папоротника расступаются, и мы утыкаемся в бугор земли, поросшей пыреем, подорожником, мать-и-мачехой. С бугра смотрим на двускатную крышу: она почти до земли, до поляны, усыпанную свежей стружкой. На поляне тесаные сырые лесины, мощно, умело загнутые, стянутые толстой проволокой. Это заготовки для будущих саней и розвальней. Возле сарая с санными загогулинами никого нет, видно, взрослые ушли на обед. В груди уже просторнее. И старший парнишка говорит:
– Пегаша посмотрим, щас выезжать будет Шенцов!
Про Шенцова я знаю. Это директор совхоза. Отец, как и другие мужики, называет его Цыганом за его смоляной чуб, что с вороным отливом красиво выбивается из-под шапки-кубанки.
Мы, затаившись за кустом шиповника, ждем выезда Шенцова. Он ездит только на гладком, ухоженном и рысистом жеребце Пегаше – белом с большими коричневыми яблоками на спине, с подстриженным хвостом и расчесанной конюхами гривой.
Совхозная конюшня – напротив, за дорогой, ведущей в глубину рощи, а там, наверное, и дальше в какую-то деревню Глубокое или в Уктуз, где я не бывал. Вообще я еще нигде не был дальше наших окрестных лесов. Даль-далекая звучит во мне туманным, сладким звуком… Из растворенных ворот конюшни несет конским навозом, дягтярным духом хомутов, уздечек и седелок, колесной мазью, свежим сеном.
– Вот он! – сдержанно вскрикивает старший парнишка. И мы едва успеваем перевести дыхание, как Пегаш, высоко вздымая коленные чашечки, проносит мимо нас чернявого человека, откинувшего из кошевы ногу в блестящем хромовом сапоге.
– Видали?! – исторгает тот же, придушенный волнением, возглас старший парнишка. – В Красной Армии был Пегаш, под командиром ходил, может, под самим Ворошиловым!
– Болтай, хлопуша! – подает голос кто-то из пацанят. Мне уже начинает нравиться эта невесть откуда взявшаяся орда-компания.
Мы идем кромкой рощи, кидаем в рот щепотки сырой пшеницы, пережевываем зерна до вязкой кашицы, заглушаем голод. И многоцветный мир с птичьими голосами в листве березок движется и течет под высоким полдневным солнышком августа. Гибкие березки, между ними кудрявые розетки заматеревшего дудника, султаны конского щавеля, морковника… Внезапно роща редеет. Здесь деревья толще – с жесткой корой, с обломанными по низу сучьми. Это мы выходим к совхозной дирекции – к старинному с резными наличниками сосновому дому на прочном каменном фундаменте. Дом этот раньше принадлежал попу из какой-то местной церкви, но ничего поповского в облике дома не сохранилось. Вывеска дирекции, доска показателей, красный плакат по резному фронтону: «Вперед, к победе коммунизма!». Надпись прочитал нам старший парнишка.
В низинке напротив ржавеет брошенная, без колес полулегковая машина пикап.
– Отлетал свое! – говорит наш предводитель.
Окруженные решеткой, сколоченной из потемневших от дождей и ветра плах, стоят два каменных человека. Одного из них в глухом френче я тотчас узнал, взобравшись на вскинутую вперед высунутую из деревянной клетки руку второго каменного человека.
– Гляньте, это же великий Сталин!
– Вакуированные памятники-то! – важно заявляет наш командир. И тут же он внезапно настораживается, меняется в лице:
– Ты чё это, карапет! Ты зачем залез на руку-то, а? Вдруг отломишь! Ты кто такой, чеглок полосатый?
– Сам чеглок! – во мне вскипает не просто обида, а злость – так меня еще никто не называл. Я готов кинуться в драку. И кинулся бы, если б не сидел на верхотуре.
Старший парнишка почувствовал это, счёл, видимо, ненужным трогать «чеглока» или испугался.
– Айда, ребятишки, а он на нас докажет! Рвем когти!
И орда, как не бывало её, сверкая пятками, исчезает за кустами густой поповской сирени.
Как по ступенькам, спускаюсь я по досточкам обрешетки «вакуированных памятников» на землю. Поплевав на ладошки, оттерев известковую пыль со штанов и рубашки (на них и так полно всяких мазутных и зеленых травяных разводий), скоро забываю о чужой компании, о Пегаше, о роще с каменными человеками, бегу к токарям, где так весело гудят станки, празднично вьются кудряшки железной стружки.
Беру её в ладони и чувствую исходящее от стружки умиротворяющее фиолетовое тепло.
ПРИЛЕТАЛ САМОЛЁТ
Самолет появился неожиданно. Он вырвался из-за Чащинской рощи, пронесся с ревом над совхозной мастерской, едва не задевая крыши колесиками шасси, полетел к нашему околотку. Над озером Долгим сделал разворот, прогремел над оградами и, угнав в подворотник кур, скрылся за колхозной овчарней.
Юрка Каргаполов сунул под рубаху шляпу подсолнуха, перемахнул через прясло:
– Орда, вылазь эроплан глядеть!
Мы с Толькой Миндалевым, прятавшиеся в картофельной ботве, подняли головы.
– Счас появится! – Юрка в азарте куснул огурец, оказавшийся переросшим, твердым, кинул его в заросли лебеды.
Самолет прилетел опять. В этот раз он шел так низко над огородами, что можно было различить голову летчика в шлеме.
– А-а-а, баба, с неба телега падат! – дурниной закричала Надька, четырехлетняя внучка хромой бабки Улиты. Недавно мы обчистили самый окраинный в селе бабки Улиты огурешник. Аккуратненько «поработали» – плети даже не поломали, набрали в карманы по пятку огурцов, собрались бежать на полянку.
– Самолет диверсанты подбили! Орда, бежим летчиков спасать! Мы с Толькой и глазом не успели моргнуть, как старший из нас, Юрка, уже сверкал пятками к околице. Туда же торопилась и вся деревня. Хлопали калитки, гремели брошенные пустые ведра. Впереди всех, визжа и взлаивая от восторга, летели собаки. Степенные, всегда неторопливые плотники втыкали топоры в недотесанные бревна, тоже дружно текли к околице. Молотобоец Васька Батрак бежал почему-то с кувалдой через плечо.
Выбрав за околицей поляну, самолет опустился невдалеке от сарая, где сушились под обжиг сырые кирпичи. Какое-то время рулил на поляне, подпрыгивая на кочках, ревел мотором на больших оборотах, потом смолк. Пропеллер перестал вращаться. Летчик, молодой парень, вышагнул из открытой кабины на зеленое, обтянутое жесткой тканью крыло, спрыгнул на землю. Тут уж гуртились подоспевшие. Поздоровался с мужиками, попросил попить. Быстренько, из сторожки колхозного зерносклада, принесли кваса, нас, ребятишек, оттеснили. Но Юрка, с завистью смотрели мы, сумел проскользнуть между ног взрослых – поближе к летчику. И даже потрогал крыло машины. Летчик что-то объяснял мужикам, брал из шуршащей пачки печенье, запивал из кринки квасом. Мужики слушали его, кивали.
В задней кабине ПО-2 был еще один человек. На него обратили внимание, когда тот спустил на землю увесистый блестящий прибор, стал смотреть в него, прислушиваясь, крутя никелированные ручки.
Спросить, что он делает, его никто не решился.
Самолет улетел так же скоро, как и появился. Пока он разбегался против ветра, оглушительно стрекоча и раздувая пузырями рубахи бежавшей следом ребятни, мужики махали выгоревшими картузами. Бабы придерживали цветастые подолы, продолжали дивиться впервые увиденному так близко аэроплану.
Расходились взрослые неохотно, шумно обсуждая событие. Мне и не вспомнить теперь, кто произнес это слово – «нефть». Но слово было сказано. Глуховатый мужик по прозвищу Братка, он прибежал к самолету, бросив неоструганную оглоблю к телеге, уверял мужиков:
– Точно, Карасин нашаривают под землей!
Над ним посмеялись, но поддержали:
– На днях это – на плотцы пришел воды почерпнуть, а поверху так сизая плёнка и плават. Нефть! Близко где-то она, под суглинком… Который уж раз примечаю…
Встряла какая-то бабенка:
– Карасин… Нефть… То-та! Это трактористы, холеры, мазутными ведрами протеяли воду черпать. Рубашонки полоскать негде…
Бабенку одернули. Замолчала. Всем хотелось верить в хорошее, грандиозное, необычное. Не случалось еще в нашем селе таких событий, как прилет самолета. Чудачества какого-нибудь. Нет, не случалось. Даже свадьбы, где можно поплясать от души, поклясться соседу в уважении и дружбе, а нам, ребятне, поглазеть на застолье сквозь неплотно задернутые занавески, давно не было. Нет, давно не было. Цвели подсолнухи, пахло визилем на сеновалах. По утрам отбивали косы во дворах, над полем парили ястреба и жаворонки. К полудню изнывали от жары – скотина, люди. Но люди делали работу. Простую, привычную. Каждый день. До заката.
И вот – на тебе!
Авторитет в суждениях держали мужики. Но им так казалось. Дальше всех фантазии заходили у нас, ребят. Удивил всех Генка Логинов – парнишка с совхозной улицы:
– Я точно знаю – за падинником сталь залегает в земле. Сталь! Так что железную дорогу из города к нам потянут. Точно. В совхозной дирекции я слушал: поезда будут ходить к нам…
Мы округлили на Генку глаза. Как-никак он хоть с горем пополам, но уже первый класс закончил. Правда, про Генку, потешаясь, рассказывали и такое:
– Мама, я кол получил по арифметике! – это Генка ошарашил мать свою уже в первую неделю учебы в школе.
– Учись, учись, сынок, кустюм новый куплю! – одобрила мать. Потом спохватилась, но ругаться уже было поздно.
Опять застучали топоры у строящейся колхозной базы, зачакала в кузнице наковальня, полилась в ведра у колодца вода. А мы еще гуртились на бугре, вспоминали подробности. Говорили сейчас не о летчике, а о том, кто прилетел на заднем сиденье аэроплана.
– Как он достал свой моторчик, я сразу догадался – пробу брать начнет! – говорил Шурка Кукушкин.
– Какую пробу?
– А какую на молоканке берут, на состав и жирность, понял?
– Да это же у молока жирность проверяют, а тут зернозем…
– Тут тоже надо пробу брать, чтоб не ошибиться. Нефть ишшут, кумекать надо! – настаивал на своем Шурка. Сам-то он про молочную «пробу» знает со стороны: коровы у Кукушкиных нет. И, понятно, плана на их подворье тоже нет – по молоку.
– Верно, говорит Шурка! Я целое лето план таскал, а оказалось, что – мало. Жирности не хватило! – подал голос Юрка.
– Пошел ты! Жирность! А может, это шпионы? Связали бы – и в сельсовет… У председателя Потапа Алексеича наган в сейфе.
– А ты наган видел?
– Как тебя, видел.
Не поверили и этому.
Мы лежали на поляне…
Юрка, самый старший из нас, затих, больше не вступал в разговоры мелюзги, думал. Потом спросил задумчиво:
– А кто видел, что ел летчик?
Никто не видел, что ел летчик.
– Да-а, хорошо быть летчиком! Вот вырасту, обязательно на летчика пойду.
– Упадешь где-нибудь в озере, захлебаешься.
Юрка не обратил внимания:
– Главное, летчикам всегда печенье дают! С килограмм, а может, даже больше. В каждом кармане насовано… Сам видел. И еще шоколад – НЗ.
– А это еще чё – НЗ?
– Неприкосновенный запас. Понятно?!
Мы пофантазировали еще какое-то время. Вопрос о нефти решился сам собой: «Раз говорят мужики… Раз прилетал самолет!» Не зря же он горючее жег, не зря в такую даль летел к нам в окуневские Палестины. У нас вон горючее берегут. Хоть и каждый день ездит в Ишим на бензовозе дядя Ваня Саломатов, с нефтебазы привозит. Случалось, что и пустым возвращался: нет горючего в городе! А тут – своё, дармовое! Копни землю поглубже, можно все бензобаки, керосиновые лампешки по горло залить. Вот какое дело – нефть!
Забыли мы в тот день про свои огородные подвиги, напрочь забыли!..
Как сейчас вижу прилет самолета – вблизи ряма и Засохлинского острова, где по весне так синё от незабудок, а летом снуют осы и разноцветные бабочки – раздолье, приволье. Из деревенских, бежавших на эту поляну посмотреть самолет, больше помнится молотобоец Васька Батрак и его тяжелая кувалда. Зачем он не оставил её в кузнице, до сих пор не пойму!
Недавно была война. В школу было мне еще рано. И голодно было в нашей местности. А столь было света, столь загадочного, манящего.
И не скоро еще – родилось у меня это самое «документальное» моё стихотворение:
Прилетал самолёт…
А зачем? Уж теперь не узнаю!
Пусть побольше загадок останется нам на Руси.
Помню, в озере Долгом, зеленую тину глотая,
От моторного рева ушли в глубину караси.
Самолет покружил, опускаясь во поле широком,
По которому резво коняга трусил под дугой.
Помню, мы от винта раскатились весёлым горохом,
И ковыль заклубило спрессованной силой тугой.
И казалось – небес опускался за ярусом ярус,
Что-то кепку удуло в угрюмый дурман конопли,
Чьей-то белой рубахи надулся восторженный парус,
И смущенные бабы держспи подолы свои.
Из кабины ПО-2 показался таинственный лётчик,
Он на землю сошел и «Казбек» мужикам предложил.
Сразу несколько рук потянулось и только учётчик
Угощенья не принял – он, знать, в РККА не служил.
Прилетал самолёт… Пустяки, приключенье какое!
Ну село всполошил, от работы, от дел оторвет.
И поднялся опять. Но надолго лишил нас покоя;
Ведь не зря же, конечно, он, тратя бензин, прилетал?
Нет, не зря… Ах, как он растревожил меня, шпингалета:
«Буду летчиком – точно! – решил, – А доверит страна,
Сам сюда прилечу я со сталинским важным пакетом,
Папирос дополна и конфет привезу дополна!
А на землю сойду – от сапог только солнышко брызнет!
И на чай, на блины со сметаной родня позовет.
В ту уж пору, конечно, мы все заживём в коммунизме…»
Дальше спутались грёзы. Позвали полоть огород.
Снова возле домов мужики с топорами потели,
Так никто и не слышал мальчишечью думу мою.
На Засохлинском острове сильно берёзы шумели,
И журавль у колодца раскачивал долго бадью.
ЦЫГАНСКИЕ КОСТРЫ
Орду нашу так и сдуло с уличной полянки. Побежали каждый ко своему двору, захлопали калитками, загремели засовами, накидывая кованые и проволочные крючки на петли внутренних запоров. Прилипли изнутра подворий к щелястым заборам и плетням, будто изготовились к скорой обороне.
А они, цыгане, повозки их с впряженными в оглобли конягами, двигались неразбойно, мирно, но с непонятным все ж нездешним пафосом, шиком. А ведь наезжали к нам эти полудикие, неизвестно откуда взявшиеся цыганские таборы, считай, каждое лето, И вроде б уж привыкли мы к разноцветию юбок и кофт цыганок, к их наступательным манерам, к голым, рахитичного вида, брюхам их ребятишек, к косматым, смоленым чубам вихреватых мужчин-цыган, к их фасонистым плеткам за поясом или за голенищами высоких сапог, к рубахам навыпуск – поверх просторных шаровар, при ярких опоясках с кисточками, а порой и при кожаных ремешках – иной поясной перевязи.
Так чего ж мы опять всполошились?!
Наезды цыганского табора, конечно, лишали село привычного, спокойного ритма жизни. Но не настолько, чтоб впадать ребятне в испуг, хорониться за крепью жердяных изгородей, за бревенчатыми заплотами, нащупывать в карманах рогатки и шрапнель «чугунков», которыми в обычную пору пуляли мы по воробьям, по забредшим с чужого подворья курам иль по чьему-то блудливому, шлындающему беспризорно поросенку.
Все просто: для нас переполох этот – вроде игры. А они двигались. Одна, вторая… пятнадцатая повозка-кибитка, оглашая нашу окраину то присвистом, то щёлканьем кнута, что играючи, фасонисто взвивал над головой чернобровый молодец. Кнут с медными колечками змеей изгибался в воздухе, раздавался треск, будто раскалывалась скорлупа полупудового ореха. Чужая, непривычная для нас жизнь и вольница.
На горничном подоконнике нашего дома качнулись цветки гераней. За ними чудился мне любопытный взор мамы. Зашевелились огоньки ваньки-мокрого в окнах избенки дедки Павла Замякина, за которыми мелькал платок бабки Пашихи.
А на самой окраине улицы выглядывал из огородной картофельной ботвы Шурка Кукушкин. И бабка Улита, припав на хромую ногу, замирала кривым изваянием посередь ничем не укрепленного двора, кое-как обозначенного гнилыми жердочками.
Взрослые, конечно, нянчили надежду, что разноцветный этот поезд телег минует незабудковые полянки возле соснового ряма, уедет за Зуево болото, втянется в леса и канет в боярках травянистой малонаезженной крутобереговской дороги. Или свернет на городскую дорогу – туда, к Дворникову болоту, обогнув гороховое поле Засохлинского острова. И тогда опять распахнутся наши калитки, отодвинутся ситцевые занавески на синих окошках и простая, бесхитростная обыденность воцарится на наших улицах – без лишнего и чужого человека, без настырного ока чернявых гадалок, которые, не догляди только, не побрезгают унести со двора нужную вещь – оставленные после стирки на плетне иль веревке платьишки хозяйки, рубашонки ребятишек.
Но цыганский табор никуда не повернул, а прямо от колхозной овчарни стал втягиваться в ближний березовый колок по соседству с мирскими могилками. Подростки-цыганята по дороге успевали, соскочив с телег, опустошать кромку горохового поля, тщательно охраняемого от нас, деревенских, конным объездчиком. Он, объездчик Барышников, бдительность, что ль, утратил? Будто косилкой, стригла горох голопузая крикливая вольница.
Обоз втянулся в густоту рощи и вскоре над вершинами её ударили в предвечернее небо большие дымы.
Цыгане ставили избитые дождями, выбеленные зноями палатки, наполняя их нутро подушками, перинами, разноцветным, как все разноцветное у цыган, походным скарбом. У костров звякала посуда – прокопченные кастрюли и большие котлы; цыгане готовили похлебку. Ожила походная кузница. Цыганский мастеровой-кузнец, позвенев молоточком о наковальню, ладил разбитый в пути обод колеса, осматривал подкову захромавшей молодой лошадки.
Картины и действо сие легко представлялись и угадывались нами из прошлого опыта, когда в неистребимом любопытстве подползали мы в густой траве к табору, наблюдая таинственную жизнь кочевого народа.
Табор кипел, гоношился, затихал, вновь вспыхивал. Мелькали шали с кистями и яркими маками, розовые рубахи мужчин, звенели мониста из монет, стекая с загорелых шей молодок в соседстве с горошинами красных и малиновых бус, колыхались под кофтами просторные груди.
Как и у нас на взгорках, неуемно кипела ребятня, младшая сплошь бесштанная, босая, подростки-отроки в извоженных в пыли и золе портках, то и дело сползающих с задниц, с криками, смехом водружаемых на место. В гомоне этом сквозила бесшабашность, прерываемая увесистыми шлепками матерей. И если вдруг зачинался рев, то немедленно обрывался под строгими командами мужчин или отроков постарше. Однажды один из цыганят, лет восьми-десяти, обнаружил нас в лопухах. Не напугался, скорее удивился и выпалил:
– Хочите, на пузе спляшу?
То что плясать эти чертенята умели ловко и отчаянно – помани только монеткой иль бумажной деньгой, что делали порой наши взрослые парни, мы знали, но вот – «на пузе», такого не доводилось нам еще видеть.
– Врешь, поди, не умеешь…
– А дайте двадцатчик, спляшу!
– Даром давай! – сказал за всех Шурка Кукушкин.
– Хи-и-трые! Не-е, только за двадцать копеек! Вот завтра в деревню привалим – денежки готовьте!
Завтрашнего дня селение наше ждало не без тревоги, наученное прошлыми нашествиями этого народа, утомительными, обещающе-сладкими приставаниями погадать-покудесить, способностью выманить не бог весть какое богатство (его и нет ни у кого из сельчан, а все ж выцыганенное куриное яичко, краюха хлеба, пучок лука с гряды были не лишними в наших домах). И все же многие при этом отворяли калитки на стук гадалок, и души свои растворяли доверчиво. Вдовые бабы – особенно. Солдатки недавней войны. Легко и охотно попадали под их чары да разговоры о «счастье», об «удачах в жизни», с легкостью одаривали чернобровых не только парой гнезд молодой, еще не набравшей рост, картошки, не жалели и трёшницы. Вынимали из угла комода припасенное на завтрашний день. С каких небес привалит этот фарт, было неясно, а все же верили бубновому королю, трефовой даме, посулившим при гадании «нечаянный интерес».
– Цыганки идут! – всплескивала руками мама, заметив в окошке колыхающую юбками в направлении к нашей калитке гадалку. – Беги задвинь на бастриг ограду.
Я бежал и задвигал, еле осилив тяжесть этого бастрига. И потом вопросительно смотрел на маму, чуял мальчишеским разумением – ведь приказывает она с неуверенностью, что ль! Знаю, и сама мама, не будь лишних глаз в доме в эту пору, охотно бы послушала гадалку. И одарила бы. И для цыганенка достала пару сладких конфет, что хранятся в дальнем углу шкафа для «добрых людей». А тут бросала мне, будто в сердцах:
– А ну их к холере такой!
Было иль не было, теперь уж трудно заключить, но так получалось в пору огневого стояния табора в березах Засохлинского острова, что всякая мелкая пропажа со двора приписывалась им. Выпластанные у иной хозяйки первые огурцы деревенскими архаровцами темной ноченькой тоже сваливали на кочевой народ. До одной, как говорится, кучи!
То вдруг проносился слух, будто в Савино-деревне или на Одышке – глухой лесной ферме пропал конь. Ниточка, судили-рядили, вела в цыганский табор. И по окрестности – не попадись на пути! – скакали верховые мужики на оседланных горячих жеребцах. Шерстили будто бы таборных мужиков-цыган. И это вовсе не слухи – врывались к кострам, устраивали разбирательства. Полосовали будто бы направо-налево кнутами и троехвостными плетями, но добиться ничего не могли. Молчали, знать, виноватые. И населению было ясно: конокрады спознались с казахами, и угнали коня в Северный Казахстан – в петропавловские степи и аулы, а там ищи-свищи. Казахи не выдадут. Не тот народ, что наши простодырые русаки-Иваны.
Находился не находился потом этот запропавший конь? Не помнится нынче. Только явственно отпечаталось в жарких представлениях той поры: ничего разбойного не было выявлено нашими самодельными дознавателями-сыскарями. И табор, и село успокаивались, обоюдно вглядываясь ночами друг в друга. Таборные – в огни семилинеек-ламп нашей деревенской стороны, а мы – в вонзающиеся в небеса костры Засохлинского острова. Там, вблизи страшного кладбища, долго, до утра, раздавались песни и звоны, музыка незнакомых нам цыганских инструментов.
Цыганки идут! С улицы, а может, с чьего-то высокого забора донесся солнечным утром голос этот. Иль родился-возник сам собой – ожидаемый, похожий на огненный выдох тревоги, на команду «Свистать всех наверх». Он взбодрил и меня, рванувшего по приступкам сеношной стены на чердак дома. Там, отодвинув пласт дерновой кровли, прилип я к образовавшемуся смотровому отверстию.
Цыганки идут!
Интересно. В кино про Александра Невского, что недавно показывали бесплатно всей деревне, развешав на уличной стене старого клуба белое полотно, вот так же похоже двигалась толпа наступающих воинов. С мечами и пиками, с рогатинами и оглоблями, в кольчугах и островерхих шлемах, а больше просто отчаянные мужики – посконные рубахи, армяки, косматые шапки!
Текли и в боевом равнении, но опять же гуртом. Сосредоточенно, с азартом и верой в победу над псами-рыцарями, закованными в латы, грозные железа-доспехи.
Странно и, пожалуй, нелепо, что утренний исход цыганок из берез и костров Засохлинского острова напомнил мне победное для русичей сражение!
Они шли в направлении наших улиц. Масса, никем будто бы не управляемая, но охваченная единым порывом, одной целью.
И без биноклей, зрительных труб, расстояние-то – километр какой-то до нашей окраины, виден их устремленный шаг. Почти на каждой «воительнице» – малый ребенок, торчащий за плечами, притороченный к спине полушалком, иль на материнской груди, а следом босоногая мелкота – словно тыловое обеспечение. Фаланга, когорта. Как боевые доспехи, через плечо глубокие кошелки на лямках, какие-то короба, напоминающие наши плетеные из тальника корзины. И все это – понятней понятного для нашей орды! – для сбора дани с деревенских дворов: кто что подаст. А брать неутомимые гадалки умели. Искусницы. От мала до велика.
Ничто не противостояло надвигающейся толпе, если не считать припоздалую телегу. Все ушагали давно на свои и казенные покосы. А эта телега и впряженный в нее бык-тихоход на какое-то мгновение погрузились в разноцветье движущейся массы, из которой потом вылущились уже в просторном поле.
Соскользнув с чердака, очутился я в доме. Толстые бревенчатые стены не пропускали уличные звуки. В окне, текущие в село толпы гадалок раздвоились на два потока, втягиваясь в солнечные улицы и на полянки конотопа. Тихо в селе. Пусто, как всегда в пору сенокоса.