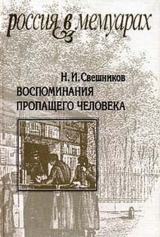
Текст книги "Воспоминания пропащего человека"
Автор книги: Николай Лесков
Соавторы: Абрам Рейтблат,Николай Свешников
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 25 страниц)
На другой день, около часу, мы подходили к Угличу. Страшно сделалось у меня на сердце, точно его в тиски зажало, когда я из-за рыжечника (так называется у нас сосновый лес, принадлежащий городу) увидал золотые главы Девичьего монастыря. Вот тут я родился, и тут я рос в детстве, а потом я двенадцать лет здесь не бывал, а теперь и прийти не к кому. Никого у меня здесь уже нет… Я взглянул на свой серый халат, на коты и на закованные руки… и заплакал… Вспомнилось мне все прошлое время и особенно когда я во время войны служил санитаром и другим помогал, а теперь иду отряха-отряхою и не знаю, к кому подойти и где преклонить свою голову… Вот моя родина!.. Будет мне здесь хуже, чем во всем свете.
Но вот мы и в городе. Здесь в полицейском управлении приняли от конвойных наши бумаги, проверили находящиеся на нас казенные вещи и отправили всех нас вниз, в арестантскую.
– Последнее мытарство. – сказал мне Го-ков, – завтра будем свободны.
«Да, – опять подумалось мне, – завтра я освобожусь, но в чем освобожусь, и к кому я пойду, и куда я преклоню голову?»
Давай я опять плакать.
Двадцатого числа апреля, в среду на Страстной неделе, в девять часов утра, нас привели в мещанскую управу.
Пришел староста.
– Этапом пришли? – спросил он.
– Да, этапом, – ответили мы.
– Так. Ну-ка, Го-ков, поди-ка ты сюда, – вызвал он первого Го-кова. – Ты, брат, это который же раз таким манером из Питера поворотом прогуливаешься?
– Виноват. Что будешь делать, – отвечал Го-ков.
– Только для Страстной недели я тебя последний раз приму, а больше принимать не буду. Давай за этап полтину.
– У меня ничего нету.
– Ну, ступай.
Другой оказался из приписных: этот всего только второй раз приходит этапом.
– За этап есть у тебя? – спросил его староста.
– Есть, господин староста, – ответил он, – вот, пожалуйте, да нельзя ли мне взять билет на два месяца? Я ведь не лишенный столицы, я не из Петербурга, а из Кронштадта пересылаюсь.
– Ну, подходи-ка ты, Свешников.
Я подошел.
– Ты это какой же такой Свешников?
– Я, – говорю, – здешний уроженец; здесь у нас дом был у Девичьего монастыря.
– Ага! Это, значит, ты после Ивана Иваныча потомок?
– Да, я его сын.
– Знал я его. А ты что же это, брат, путешествуешь? Ведь ты, кажется, много лет за паспортом сюда присылал?
– Что ж делать, господин староста, запьянствовал – паспорт просрочил.
– С тебя нужно за одежу пять рублей, да за этап полтину.
– У меня ничего нет.
– Скидывай одежу.
Я снял с себя казенный халат и коты и остался в своей рвани.
– Нет ли там у нас лаптей? – спросил у сторожа староста, увидав меня в лохмотье и босиком.
– Лапти есть, – сказал сторож.
– Ну, так дай ему лапти, босиком теперь холодно.
Я обул лапти на босые ноги.
– Что ж ты теперь будешь здесь делать? – спросил меня староста.
Я не мог и ответить и залился слезами.
– Что он будет делать? – отозвался сидевший с ним старичок из торговцев. – Известно, что все они делают: руку протягивать.
– Нет, – сказал я, – этого я не хочу; я лучше за пятиалтынный в день стану что-нибудь работать, а милостыни просить не хочу.
– Ну, брат, мало ли чего не хочешь! А работы-то здесь про вас таких не заготовлено. Много вас теперь в таком питерском уборе ко дворам жалуете, все у нас ходят по миру.
– Иди с богом, – сказал староста.
Я посмотрел: куда идти?
– А куда хочешь!
Так я очутился на свободе и в родном городе без одежды, без крова, и в кармане у меня был один пятиалтынный экономии от арестантского порциона, а впереди восемь дней праздников… во все эти восемь дней никакой работы не делают и никому люди не нужны, – все едят, пьют да целуются.
Куда подеться и что с собой придумать?
Но деться уже есть куда и у нас в Угличе.
– Ступай в «Батум»! – мне сказали.
– А что это за «Батум»?
– Ночлежный приют.
Пошел я туда, в это «заведение», вроде того, как сенновский «Малинник», только гораздо похуже, и переночевал, а когда ночью заблаговестили к утрени, те из высыльных, которые сюда раньше высланы, стали вставать, и я с ними встал… А больше и сказывать нечего… Началось с этой ночи как раз то самое, что предсказывал мне старичок, сидевший с мещанским старостой…
На этом прерываются записки «лишенного столицы». Все вышеизложенное здесь напечатано с рукописи потерпевшего, которая и остается у меня в подлиннике. По-моему, этот опыт литературного изложения не хуже тех крестьянских этюдов, какие выведены на свет Л. Н. Толстым и И. С. Аксаковым. Здесь тоже, на мой взгляд, есть наблюдательность, последовательность и точность в описании, простота и отсутствие сентиментализма в выражении ощущений и здравый смысл, сообщающий весьма простой и безъэффектной картине интерес характерного явления, которое достойно внимания.
В виде эпилога, быть может, стоит сообщить, что описатель этого нового хождения на сих днях (в мае 1889 г.) опять возвратился в столицу уже с законным паспортом, но ему здесь не на что было прописать этот свой паспорт, и он чуть с самого же прихода не ушел опять обратно теми же стопами в угличский «Батум».
К счастию, верно или неверно его заключение, будто «в столице люди добрее и проще», но его здесь во всех его отрепках пожалели несколько более, чем на его родине.
Приложение
Г. Ф. КурочкинПубликуемый текст представляет собой большую часть рукописи Григория Федоровича Курочкина (1833–1905?) «Воспоминания старого букиниста», написанной им на склоне лет и хранящейся в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки (Ф 362. К 7. Ед. хр. 6). При публикации в тексте сделаны небольшие купюры, опущены начало рукописи, где речь идет о детстве автора, и конец, где описываются похождения его брата. Хотя Курочкин в 1870-х гг. печатался в «Искре» и других периодических изданиях (под псевдонимом Сущевский – по названию его родной деревни Сущево), однако писавшиеся незадолго до смерти воспоминания демонстрируют его малограмотность (например, автор пишет «кепсик» вместо «кипсек», «акцыон» вместо «аукцион» и т. д.). Поэтому при подготовке к печати рукопись была подвергнута небольшой редактуре: расставлены знаки препинания и исправлены некоторые грамматические ошибки. В то же время в публикации по мере возможности сохранены особенности языка автора и его окружения. Слова, необходимые для понимания текста, введены в квадратных скобках.
[Закрыть]
Почти в середине [Апраксина] рынка, между Шмитовским и Базаровским проходами, был особенный мирок торговли. Этот мирок были лари, где торговали книгами. Правда, между ними были лари, в которых торговали и другими товарами, но их было немного.
От Садовой улицы и до Базаровского прохода был каменный корпус, единственный во всем рынке. В этом корпусе торговали новыми товарами. Корпус назывался Металлическим <…>
Главные двери лицом были отворяемы к Апраксину переулку, а сзади, к Ягодному ряду, были другие двери. Лицом на Фонтанку была стена. Вот к этой-то каменной стене и приделана была во всю стену из дерева лавка, на Фонтанку лицом. Эта лавка принадлежала тогда купцу книгопродавцу Василию Васильевичу Холмушину. Направо и налево лари, в которых и торговали книгами. Ларей этих окало тридцати. Как я сказал ранее, тут торговали и другими товарами, только их было немного. А все книгами, вплоть до Шмитовского прохода, где визави к Холмушину, т. е. лицом, был ларь, принадлежащий Ивану Герасимовичу Воронину, или Комарову, как его тогда звали в рынке, тоже торговавшему книгами. Вот это-то и был так называемый книжный ряд. Я буду описывать по порядку, кто возле кого торговал.
Вот они стоят передо мною, как живые, эти типичные личности. Хотя прошло около 50 лет, а я их вижу сейчас. Ну, на сцену, давно умершие друзья – книжники и букинисты. Оригинальны вы уж очень были, так оригинальны, что таких оригиналов в настоящее время нигде не найдешь.
Номер первый, Василий Васильевич Холмушин, был в то время годов около 55-ти, небольшого роста, черноволосый, с такой же бородой с проседью, несколько сутуловат. Он не ходил, а как-то бегал, словно бы куда торопился, мелкими быстрыми шагами, немножко толстенький. Волосы пострижены по-русски в кружок, курчавый. В своем роде это был оригинал.
В то время его представляли на Александринском театре – пьеса называлась «Путешествие апраксинского купца в ад» [309]309
«Путешествие апраксинского купца в ад» – Речь идет о фарсе-водевиле П. Г. Григорьева «Необыкновенное путешествие щукинодворского купца и благополучное возвращение», впервые поставленном в Александринском театре в 1846 г. и в том же году опубликованном под названием «Путешествие апраксинского купца в ад» в журнале «Репертуар и Пантеон» (кн. 8).
[Закрыть]. И была отпечатана театральная пьеса, только фамилия вместо Холмушин была Хал мин. Раз я был в театре, когда играли эту пьесу; и когда открылся занавес, я чуть не закричал: на сцене стоит Василии Васильевич. Так актер загримировался – точь-в-точь Холмушин, как две капли воды, только ростом повыше его. И хохотала же публика, глядя на похождения купца в аду. Этих пьес [т. е. экземпляров пьесы. – А.Р.] тогда на рынке было много. Вероятно, они сгорели во время пожара рынка.
Холмушин торговал книгами преимущественно русскими и более духовного содержания, и главная торговля его была – мелкая продажа так называемых брошюр московского печенья – так называли книжники московские издания, которые тогда были в большом ходу.
Было у него много (книг) и своего издания, как сказок, так и духовных, выбранных из четьих миней. В большом ходу были тогда «Сердце человеческое», «Страшный суд» [310]310
Сердце человеческое есть или храм Божий, или жилище сатаны. Пер. с немецкого Спб., 1838 (книга неоднократно переиздавалась); книгу с названием «Страшный суд» выявить не удалось.
[Закрыть], а из сказок «Бова Королевич», «Еруслан Лазаревич», «Францыль Венциан», «Английский милорд», «Битва русских с кабардинцами», «Могила Марии, или Пригон под Москвою» [311]311
«Могила Марии, или Притон под Москвою» – исторический роман, впервые изданный анонимно в Москве в 1835 г. и с тех пор неоднократно переиздававшийся до конца XIX в.
[Закрыть]. Этими книгами простой народ зачитывался. Кроме того у него было много картин лубочных, московской мазни. В настоящее время эта мазня вывелась, и Москва стала издавать гораздо лучше, хотя и аляповато, но все же лучше.
Этот мелкий товар, книги и картины, брали торговцы у Холмушина и редко кто не имел этого товару. Он был в большом ходу, тогда книжных лавок в домах не было [и никто не снабжал народ книгами], кроме разносчиков, расхаживающих по всему Петербургу, да еще букинистов, торговавших у Гостиного двора, по Садовой улице, у Государственного банка, по Садовой и по Канаве, также у Юсупова, на Острове у Биржи. Тут раскладывали они свой товар и развешивали картины по решеткам и на веревках, как кто умел или как кто хотел. Тогда торговля была свободная, за места они никому ничего не платили, и никто их не теснил.
Как вспомнишь, хорошее это было время. Много людей кормилось, а иные даже нажили деньги.
Так все эти торговцы и брали эту мелюзгу – книжки, брошюрки – преимущественно у Холмушина. С Москвою он имел дела большие и часто туда ездил, а москвичи ездили к нему.
Грамоту он знал плохо, как и сами вы можете заключить из следующего случая. У министерства на углу был ларь, в котором торговал книгами Иван Андреевич Бардуков, большой приятель Холмушина. У него покупок было много, так как кто нес продавать в рынок книги, то к нему первому и попадал.
Один раз приносит лакей большой узел книг, завязанных в салфетку. Смотрит Бардуков эти книги на скорую руку и живо сторговал за 6 рублей. Отдал лакею деньги, тот ушел. В это время приходит к нему Холмушин.
– Бардуков, что нового?
– А вот, – говорит Бардуков, – сейчас купил покупку, да какую! Купил «Сочинения» Гоголя.
– Где? Где? Кажи.
– На, смотри, – и подает четыре книги в переплетах.
Холмушин схватил их под мышку и говорит:
– Сколько возьмешь, говори?
– Сорок рублей, – отвечает Бардуков.
– Сорок не дам, а тридцать дам, да пойдем чай пить. Там в трактире и сделаемся. Поди, заказывай чай и графин водки, я тебя угощаю. А я снесу книги в свою лавку и тотчас к тебе приду.
Бардуков загородил метлой свою лавчонку [312]312
Рыночные торговцы, уходя ненадолго из лавки, не закрывали ее, а ставили поперек входа метлу в знак того, что хозяина нет на месте.
[Закрыть]и с радости полетел на всех парусах в трактир в Апраксине переулке. Трактир этот помешался в доме Струбинского, тогда бывший Шмидта, и принадлежал некоему Герасиму Васильевичу.
Уселся наш Бардуков, заказал чай, графин водки и два бутерброда. Сидит такой веселый и радостный, потирает руки, шутит со слугой.
Меж тем Холмушин катится тоже радостный в свою лавку. Пришел и говорит своему сыну, Александру Васильевичу, кладя книги на выручку.
– Александр, я купил «Сочинения» Гоголя. Экземпляр хороший.
Тот развертывает переплет, смотрит, взял другую часть и так далее, да с досадой и говорит отцу:
– Папаша, да что вы врете. Это «Записки русского путешественника» Глаголева [313]313
Глаголев А. Г. Записки русского путешественника с 1823 по 1827 год. В 4-х ч. Спб., 1837; 2-е изд. – Спб., 1845.
[Закрыть].
– Как? Что ты болтаешь, дурак?
– Да посмотрите сами.
Василий Васильевич берет книгу и чуть не по складам читает. Весь покраснел, плюнул, как-то обругался. Схватил под мышку книги и стрелой побежал в трактир к ожидавшему его другу и приятелю Ивану Андреевичу.
А тот сидит такой радостный, любовно взглядывая на графинчик.
– Бардуков, что ты меня надул. – обращаясь, говорит он [Холмушин. – А.Р.] ему.
– Как надул, когда надул?
Холмушин положил между тем книги на стол:
– Смотри и читай.
Тот как ошпаренный кипятком берет книгу, другую и по складам читает:
– «Записки русского путешественника» Глаголева.
А был он такой же читарь, как и Холмушин, нисколько не лучше.
Сидят и посматривают друг на друга. Потом Холмушин берет графинчик, наливает по рюмке и говорит:
– Пей, Гоголь-моголь.
Выпили по рюмке, потом по другой, опорожнили графин, потребовали другой. На скорую руку выпили по чашке чаю.
– Ну, бери книги, Гоголь-моголь. Продавай, кому знаешь, а этого добра у меня самого некуда девать.
И действительно. «Записки русского путешественника» Глаголева продавались почти у каждого книжника, так как пред тем были куплены с аукциона немного дороже как на бумагу и разделены поровну. И порешили между собою продавать по рублю за экземпляр.
Когда у них в трактире была эта сцена за графинчиками, в то время пили чай и другие торговцы. И видя друзей в таком положении, обоих покрасневших, обоих в поту и смотрящих друг на друга как кошка на мышку, и узнав в чем дело, хохотали до слез. И вскоре это узнал весь рынок.
Пойдет Бардуков с кем-нибудь чай пить, а ему кричат вслед: «Гоголь-моголь», – да так и осталась эта кличка за ним навсегда.
Из этого можете заключить, какие в то время книжники были грамотеи.
Сам Василий Васильевич находился в лавочке мало, а торговал его сын Александр Васильевич, которому в то время было годов 23 или 24. И был еще мальчик Егор, впоследствии первый муж Сопроновой, торгующей и в настоящее время на Васильевском острове в Седьмой линии и вышедшей потом вторично замуж за артельщика, тоже умершего. Был и приказчик у Холмушина, Игнатий Архипов, но тот ездил от него круглый год по ярмаркам. Иногда на большие ярмарки ездил и сам Холмушин, как то: на Нижегородскую, в Ростов Великий, в Ярославль, в Валдай, Старую Руссу и другие города. Но он ездил на короткое время, приказчик же Архипов ездил более один с мальчиком Григорием Гущиным и временно тоже приезжал в Петербург с отчетами к хозяину и за свежим товаром.
А главное дело была Москва, с которою Холмушин имел большое крупное дело, менял товар и покупал книги на большую сумму. И так же много покупал духовных книг синодального издания, которые расходились в его лавках, а более по ярмаркам, особливо так называемых учебников. Учебниками назывались в то время следующие книги: церковная азбука, часовник, псалтырь. По этим книгам училась вся русская деревня. Так же много расходилось церковных святцев. Календарей в то время не издавалось, кроме так называемых академических [314]314
Указом Сената в 1800 г. за Академией наук было закреплено исключительное право на выпуск календарей, отмененное только в 1860-е гг.
[Закрыть], которые издавала Академия, и кроме нее никто не имел права их издавать. Потому они по своей дороговизне недоступны были простому народу. Они издавались с портретами царской фамилии. Потому-то церковные святцы были в большом ходу и нужны были всякому грамотею. Кроме того, и молитвенники издавались также Святейшим Синодом, которых расходилось громадное количество. Эти книги имели все книжники, потому что на них был большой спрос.
После пожара, истребившего Апраксин двор, Холмушин, потерпевший огромный убыток, весь осунулся и опустился до неузнаваемости. Как говорится, сел в груду и потому передал хозяйство своему сыну Александру Васильевичу.
Александр Васильевич мало стал обращать внимания на прежний товар, то есть мелкий, а стал приобретать и торговать крупными изданиями, и притом же начал запивать порядочно. И дело у них пошло в упадок. От порядочного запоя и от упадка в торговле Александр Васильевич стал болеть и в 1872 году скончался, 35 лет от роду, а чрез два года помер и сам старик, Василий Васильевич.
По смерти отца и сына наследники выбрались из большой лавки, бывшей в каменном корпусе, в металлический корпус в маленькую лавку, а торговлю стал продолжать внук старика, Александр Александрович Холмушин. Дела шли туго-плохо, и чем бы все это кончилось – неизвестно, но вдруг судьбе было угодно и случилось так, что ближайший родственник и отец крестный Александра Александровича, тоже книгопродавец, Василий Гаврилович Шатаев, скончался и отказал свою книжную лавку и весь товар своему крестнику. А товару было множество и точно такого, какой был у Холмушиных до пожара. И в настоящее время Александр Александрович торгует в лавке своего покойного крестного отца.
Приказчик же Холмушина Игнатий Архипов после пожара, когда выстроили новые лавки, снял уже свою лавку, и благодаря своей трезвой жизни и знанию цены книгам дела у него пошли отлично, но мелким товаром он торговать не любил, а старался приобретать книги дельные и крупные и завел иногородних покупателей, торговцев книгами из разных городов нашей матушки Руси православной. Он был нрава горячего и как будто сердитого, и потому суседи и своя братия книжники любили его посердить и при случае над ним посмеяться.
Раз как-то утром приходит он в лавку и видит, что какой-то шутник написал на дверях мелом надпись: «Царь Берендей». Суседи слышат; кто-то кричит и ругается, смотрят: Архипов стирает рукавом мел, которым была [сделана] надпись: «Царь Берендей». И говорят, что он ругался целый день. И с тех пор книжники и дали ему прозвище Берендей да Берендей, к которому он впоследствии и привык <…>
У Архипова приказчиков не было, а были мальчики-племянники, с которыми и торговал Архипов лет пятнадцать тому назад, около 1890 года. [Поскольку] он не имел детей и был вдов, то и отказал весь капитал и лавку с товаром своему племяннику Алексею Федорову Нарышкину, который прежде также был у него мальчиком. В настоящее время Нарышкин торгует в лавке своего дяди и торговлю свою поставил на широкую ногу.
На правую руку, где прежде торговал В. В. Холмушин, был ларь небольшой, в котором торговал старыми развальными книгами, наподобие бумажного хлама, среднего роста рыжеватый человек, прозванный Николай Конек. Торговал он и картинками, и соломонами, и мелкими брошюрками, и прозван был Коньком я не знаю почему. Он в 1852 году помер. Особенно сказать о нем нечего. Это был отец Николая Николаевича Тверского, тоже книжника, недавно умершего и всем нам известного. Это был номер второй после Холмушина.
Номер третий, рядом с Коньком, был большой ларь с верхом, в котором торговал книгами Никита Васильевич Васильев. Это был видный красивый мужчина, лет под сорок, высокого роста, черные волосы и такая же черная подстриженная борода уже кое-где стала серебриться. Он носил летом и зимой, в трескучие морозы, пуховую шляпу фабрики Циммермана, которые были тогда в моде. Только зимою он носил теплые шляпы на пуховой вате или гагачьем пуху.
Никита Васильевич торговал одними русскими книгами, всего более учебными, а еще того более военно-учебными, которые он покупал у мелких торговцев. Любил он ценные книги, которые были тогда в ходу и употреблялись в кадетских корпусах (ныне переименованных в училища). Тогда в ходу были следующие книги: «Логарифмы» Калета, «Полевая и долговременная фортификация» Теляковского, «Тактика» Карцова, «Статистика» Соколовского и Ивановского, «Словарь» Рейфа – единственная книга, и в настоящее время спрос на которую еще не прекращается. В гимназиях же шли книги: «История» Смарагдова полная в трех частях, древняя, средняя и новая, «Всеобщая краткая история» Кайданова, «Грамматика» Греча, «Арифметика» Меморского, «Логарифмы» Вега, «Краткая история» Устрялова [315]315
Речь идет о следующих учебных пособиях; большинство из которых неоднократно переиздавалось: Каллет Ж.Ф. Таблицы логарифмов. М., 1837; Теляковский А.З. Фортфикация. Ч. 1–2. Спб., 1839–1846 (Часть 1 – Полевая фортфикация; часть 2 – Долговременная фортфикация); Карцов А. П. Тактика. Ч. 1–2. Спб., 1850–1852; Соколовский Л. М. Статистика России. Спб., 1852; Ивановский И Статистика европейских государств. Спб., 1852; Рейф Ф. И. Новый карманный словарь русского, французского, немецкого и английского языков <…> 4.1–4. Спб., 1843–1850; Смарагдов С. Н. Руководство к познанию древней истории. Спб., 1840; Он же. Руководство к познанию средней истории <…> Спб., 1841; Он же. Руководство к познанию новой истории <…> Спб., 1844; Кайданов И.К. Краткое начертание всемирной истории Спб., 1822; Греч Н. И. Начальные правила русской грамматики. Спб., 1828; Меморский М. Ф. Арифметика в вопросах и ответах М., 1823; Вега Г. Сокращенные таблицы обыкновенных логарифмов. Спб., 1835; Устрялов Н.М. Руководство к первоначальному изучению русской истории Спб., 1840.
[Закрыть]. На издания не смотрели, потому что были без перемены, лишь были бы листы все целы. Вот эти-то книги и любил Никита Васильевич. Он их покупал по пятьдесят экземпляров и даже более одного звания и не боялся, что вот выйдет новое издание. Он был поставщик кадетского корпуса, но которого именно, Константиновского или Павловского, не могу сказать утвердительно. Но кроме того у него была и беллетристика только известных авторов, дряни книг или неполноты он не любил.
У него приказчиков не было, был один мальчик, Федор Семенов, старший брат Андрея Семенова, так разбогатевшего впоследствии и недавно умершего, который оставил своему сыну богатейший книжный магазин в своем собственном доме в Семеновым переулке.
Никита Васильевич женат не был, а жил он гражданским браком со своею кухаркой. После пожара рынка он уже нигде не торговал и о нем не было ни слуху ни духу: куда уехал или помер, неизвестно.
Бывший у него мальчиком Федор Семенов открыл свою торговлю, торговал на Казанском мосту, потом на Аничковом. К нему-то и привезен был его младший брат Андрей Семенов из деревни. Федор Семенов стал порядочно выпивать, с женой стал буянить и драться. Пошла передряга, и его пьяного так раз поколотили, что вскоре он отдал свою душу богу. После него осталось двое сыновей, Григорий и Петр. Григорий был за что-то сослан в Сибирь, а младший, Петр Федорович Семенов торгует в настоящее время книгами в Ново-Александровском рынке близ Измайловского моста.
Время меняется незаметно, а со временем меняются люди. Так было и так будет до конца.
Рядом с Никитой Васильевичем номером четвертым торговал Семен Васильевич Ваганов. Простой, добрый, хороший был человек Семен Васильевич. В начале 50-х годов он имел товару немного и преимущественно русские книги различного содержания. И более имел духовных книг, которые любил покупать у мелких торговцев и в домах. В то время трудно было достать следующие книги на русском языке, т. е. гражданской печати: [за] Новый Завет с переводом на русский язык давали книжники торговцы по 5 и 6 рублей серебром, на одном гражданском – 4 рубля. В Синодальной лавке в продаже не было. Церковной печати можно было достать сколько угодно духовные журналы, где помещались сочинения Иннокентия [316]316
Иннокентий (Борисов) (1800–1857) – известный богослов и проповедник, с 1848 г. – архиепископ Херсонский и Таврический.
[Закрыть], как то «Великий пост», «Светлая седмица» и другие его сочинения. Как редкости [они] продавались чуть ли не на вес золота. Вот и журнал «Христианское чтение» [317]317
«Христианское чтение» (1821–1917) – духовный журнал, издававшийся при Петербургской духовной академии.
[Закрыть], в котором были помещены вышеизложенные статьи, ценился дорого. Вот такие-то редкие духовные книги и покупал Семен Васильевич, и цену он платил хорошую. Я сам лично много продавал ему книг по этому предмету, и чрез то он приобрел много покупателей, особенно из лиц духовных. Он был знаком с митрополитом Григорием. Никанором и протоиереем отцом Федором Сидонским, служившим в Казанском соборе, с Павским, с Дебольским [318]318
Григорий (Постников) (1784–1860) – с 1855 г. митрополит С.-Петербургский и Новгородский; Никанор (Бровкович) (1827–1890) – историк религии, философ и публицист; Павский Герасим Петрович (1787–1863) – протоиерей, видный филолог и гебраист; Дебольский Григорий Сергеевич (1808–1872) – магистр Санкт-Петербургской духовной академии, видный богослов.
[Закрыть]и многими другими, которых я не упомню. И так же он [был] знаком с министром народного просвещения А. С. Норовым, к которому часто носил редкие книги на квартиру.
Многие эти писатели отдавали свои сочинения на комиссию для продажи. Во время пожара в Духов день 1862 года у него сгорело множество комиссионных книг, но много было и в кладовой, которые сохранились. Но авторы махнули рукой, а некоторые помогли еще деньгами.
Он торговал с родным своим братом Гаврилой Васильевичем, который часто запивал и пил запоем иногда неделю, иногда и две. Тогда он не показывался в рынке и как ни ругал, как ни уговаривал его Семен Васильевич, ничто не помогало. И Семен Васильевич, видя, что с братом ничего не поделаешь, махнул рукой и отправил его на родину, в деревню, в Угличский уезд Ярославской губернии.
Гаврила Васильевич – отец Николая Гавриловича Ваганова, который впоследствии был прислан к своему дяде Семену Васильевичу и жил у него до самой смерти дяди. А после смерти дяди он открыл свою книжную лавку в Ново-Александровском рынке по Вознесенскому проспекту. На квартире жил он в Малковом переулке, и было у него двое или трое детей. Но в одно прекрасное утро он в чем-то рассорился с женою, ушел неизвестно куда, оставя и пачпорт, и жену с детьми, и лавку. Куда скрылся – никому не было известно. Думали, что он утонул или где-нибудь лишил себя жизни. Но кажется, что года через два его нашли где-то в Сибири, в одном из монастырей, и привели этапом на родину как беспаспортного бродягу, где была уже и жена с детьми, сдавшая лавку другому торговцу. Но Николаю Гавриловичу дома делать было нечего, и он, выправя пачпорт, опять приехал в Петербург и с помощию добрых людей, и преимущественно своего кума, книгопродавца Ивана Ивановича Иванова, открыл вторично в том же рынке и тоже по Вознесенскому проспекту другую небольшую лавочку. А для обстановки он купил у меня журнал «Дело» [319]319
«Дело» (1867–1888) – популярный у учащейся молодежи петербургский литературно-политический журнал, стоявший на радикально-демократических позициях.
[Закрыть], годов двадцать и также разрозненные номера. С год с небольшим прошло, и, вторично бросив все опять, он скрылся и пропал бесследно. И носятся слухи, что он где-то в дальнем монастыре уже дьяконом служит.
Он когда жил у покойного дяди еще мальчиком (на квартире жили они в Казачьем переулке, близ церкви Введения во Храм Пресвятыя Богородицы), каждую церковную службу не пропускал и ходил в церковь на крылос, а впоследствии читал апостолов, а с духовенством этой церкви был близко знаком.
Пристрастившись к духовным книгам, к церковной службе его все тянуло; в монастырь, где можно было думать об иной жизни, а не о суете мирской, где одна мысль: нажива и обман.
И вот эта не покидавшая его мысль и засела ему в голову. Но у него жена и дети. И вот он бросает жену, детей и отправляется Бог знает куда. Пути божьи неисповедимы, может быть, и найдет где-нибудь своей мятежной душе покой.
Был у него брат, Василий Гаврилович, который торговал ранее с ним, но он был отдан в солдаты и теперь неизвестно, жив или помер.
У Семена Васильевича Ваганова было два сына, Иван и Константин. Старший младшего был старее лет на пятнадцать. Семен Васильевич давно до своей смерти старшего отделил, дал ему много хорошего товара: экземпляров двадцать сочинения Брема «Жизнь птиц и животных», а также и других изданий по нескольку экземпляров.
Иван Семенович открыл тогда свою лавку по Садовой улице против Гостиного двора. Но он в лавке сидеть не хотел, а пристрастился к птичкам певчим и дни проводил на Кукином дворе и любовался на пернатую братию с любовию азартного игрока. Накупил штук 30 в клетках различных птичек, а себе свистульку – учил их петь. Вычищал клетки, покупал корм. Иногда проводил целые дни на квартире с птичками. Некоторые у него дохли, а другие ничего не стоили, тогда покупал других.
Лавка стояла запертая, следовательно, торговли не было. Так он задолжал за лавку, за квартиру, мяснику, в мелочную лавочку. И он продавал хорошие ценные книги своему брату торговцу иногда даже за половину стоимости. А потом запутался со своими птичками вконец и совсем разорился, лавку прикрыл и куда девался – неизвестно. Некоторые говорили, что купился в артель, а другие утверждали, что уехал домой на родину. Вероятно, второе вернее, так как в Петербурге его никто никогда не видал.
Младший же брат, Константин Семенович, после смерти отца, получив товар, не захотел торговать в рынке и снял [помещение] на Садовой улице в доме Публичной библиотеки в воротах, несколько в углублении. Начал покупать множество различных журналов и из них стал вырывать статьи и к некоторым даже стал печатать обложки. А все это стоило порядочных денег. Содержание лавки большое и другие расходы довели его до краха. И в самом деле – далеко ли уедешь на этих статейках. Ведь не все же были охотники платить за статью по 1 руб. и 1 руб. 50 коп. А если и платили, то немногие, а можно сказать редкие, те, которые деньгами не дорожили или искать у букиниста было некогда и которым была очень нужна эта статья. На одной этой торговле далеко не уедешь и действительно поторговал он с год с небольшим и дела пошли из рук [вон] плохо. И он должен был прекратить торговлю.
Товар получил, спустил с рук, а похуже кое-как кому размотал и остался чист молодец. Пошел в услужение и кое у кого пожил. У кого год, у кого и того менее. А парень был скромный и с совестью.
В настоящее время судьба как будто ему улыбнулась благодаря Федору Ивановичу Колесову], который был хороший приятель его покойного отца Семена Васильевича.
И вот он по просьбе Колесова, который находится управляющим в книжном магазине у Алексея Сергеевича Суворина, поступил приказчиком туда же. В настоящее время я не знаю, живет он там или нет.
Номер пятый: рядом с Семеном Васильевичем торговал его двоюродный брат Иван Андреевич Ваганов. Как старший брат он был хозяином, и у него помощниками были его два родных брата – Николай Андреевич и младший Осип Андреевич. Они торговали книгами преимущественно на иностранных языках. Особенно Иван Андреевич любил французские, и не какие-нибудь, а редкие, дорогие, как то кепсики [320]320
Кипсек – роскошно изданное иллюстрированное издание большого формата.
[Закрыть]и другие с гравюрами. И цены он давал хорошие. Хотя покойный Н. И. Свешников и писал [в очерке] «Петербургские книготорговцы-апраксинцы и букинисты», помещенном в «Историческом вестнике», 1897, июнь, т. LXIX, что Иван Андреевич помер в 1850 году, но это неверно. Он помер гораздо позднее, так как я имел с ним дела.
Раз утром ко мне в мою лавочку приходит лакеи и говорит:
– Что, вы покупаете книги?
– Покупаю! – отвечаю я ему.
– Так сейчас пойдем со мной. Барин едет за границу и хочет продать лишние книги. У нас их много.
– А далеко ли вы живете?
– Близ Синего моста, на Морской, угольный дом на Мойке. (Теперь там на углу кирка [321]321
Кирха – протестантская церковь.
[Закрыть], а тогда не было).
Мы пришли. Выходит господин, высокого роста, пожилой, с усами, и говорит:
– Вы книгопродавец?
– Точно так, ваше сиятельство!
Господин этот был граф Гурьев [322]322
Гурьев Александр Дмитриевич, граф (1787–1865) – член Государственного совета.
[Закрыть], как я узнал впоследствии.
– Вот в этом шкафе книги, которые я хочу продать, посмотрите.
Он отворил дверцы у шкафа Я стал смотреть. Книги были все почти на французском языке, преимущественно кепсики с гравюрами, золотообразные.
Граф в это время вышел в другие комнаты.
Книги были что называется антик [323]323
Антик – старая, редкая, ценная вещь.
[Закрыть], сердце у меня бьется, как птичка в клетке. «Ну, – думаю, – удастся ли мне купить?»
Времени прошло с полчаса. Вдруг выходит граф и говорит:
– Ну, сколько вы дадите за эту полку в самом верху?
– А сколько вы желаете взять?
– Рублей 60. Я менее не возьму.
И за 50 рублей мы сторговались.
– Приходите завтра, в это время. Я еще отберу.
Я пришел наутро и еще купил на 40 рублей, отдал деньги и хотел уходить. Но граф остановил меня и говорит:
– А что вы дадите за эти книги? – и, отворив в самом низу деревянные дверцы, показал рукой. Я думал, что это переплетенные газеты – «Пчела», издаваемая Гречем [324]324
Имеется в виду газета «Северная пчела» (1825–1864), издателями и редакторами которой по 1859 г. были Ф. В. Булгарин и Н. И. Греч.
[Закрыть]. Взял книгу, развернул, смотрю: гравюры с описанием.
– Знаете, что это? Это «Венецианская галерея» на французском языке. Это вещь очень и очень дорогая. Тут тридцать томов и около трех пудов весу. Сколько вы можете дать за нее?
Я стал в тупик и не знаю, что и давать.
– Хотите нажить деньги – менее 200 рублей не берите, а я с вас возьму сто рублей и менее ни копейки.
– Ваше сиятельство, возьмите 80 рублей.
– Менее ни гроша. – И граф захлопнул дверцы.
Сердце во мне и щемит, и дрожит, и трепещет, и радуется, и, вместе, как-то болит. Вещь, которую я вижу в первый раз в жизни, вещь серьезная, дорогая. Если я упущу – сейчас же найдутся охотники и купят. И, нисколько не медля, с купленными книгами, сел на извозчика и марш в рынок. Привез и прямо к Ивану Андреевичу. Он немного стал и смотрит на них. И мы сторговались за 60 руб. Слава богу, я нажил 20 руб.
Я и говорю ему: так и так, Иван Андреевич, я торговал у барина полную «Венецианскую галерею» в переплетах, на французском языке.







