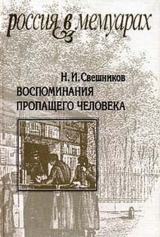
Текст книги "Воспоминания пропащего человека"
Автор книги: Николай Лесков
Соавторы: Абрам Рейтблат,Николай Свешников
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 25 страниц)
Проработав здесь несколько недель, я наконец совсем ушел к сестре на Черную речку, где остальное время лета ходил собирать грибы.
Зиму до половины февраля я тоже прожил у зятя. Работы нигде не было никакой: да я ее и не искал уже потому, что находился опять без паспорта и собирался уехать на родину, но недостаточность средств задерживала мой отъезд. Полное отсутствие какого-либо занятия развило во мне еще более страсть к чтению, и я за это время много перечитал романов, повестей и мелких стихотворений, а чтение, в свою очередь, породило во мне желание и самому писать. Я написал восемь или десять стихотворений, которые почти все посвящал Кате. Грустно мне было оставлять Петербург и расставаться с Катей, но я сознавал бесцельность своей петербургской жизни и потому стремился поскорее на родину.
Перед отъездом я зашел вместе с сестрою проститься к Налисовым. Прощание было самое сердечное, а у Кати я заметил навернувшиеся на глазах слезы. Любила она меня или нет, я не мог этого узнать, но все время нашего знакомства она была со мною ласкова. На вокзале я передал сестре раньше приготовленное мною письмо к Кате, в котором писал, что безнадежность моей любви к ней заставляет меня покинуть Петербург. Но это была неправда.
ГЛАВА ШЕСТАЯВозвращение на родину Холодный прием со стороны родных • Поступление в кучера к поверенному питейными откупами • Работа на плотине • Поступление на фабрику • Иван Иванович Гоберт • Порядки на фабрике • Вторая любовь • Оставление фабрики • В овощной лавке • В лачуге у товарища • Неудачное обращение за помощью к архимандриту • Дома у отца • Путь в Петербург
В феврале месяце 1861 года я вторично приехал из Петербурга на родину.
Я уже говорил, что предыдущие перед этим с лишком четыре года я прожил или на разных очень незавидных местах, или совсем без занятий, а потому мне и во второй раз пришлось приехать из Питера ни с чем.
Зять тогда сам жил очень небогато, и отправить меня на родину стоило ему немалого расчета. Но сестра настолько меня любила, что, несмотря на свои нередко стесненные обстоятельства, всегда старалась, чем только возможно, помочь мне. И на этот раз она, опасаясь, чтобы я без паспорта как-нибудь не попал в полицию, упросила мужа дать мне на дорогу денег, а сама снабдила бельем и необходимыми подарками для родных.
В то время Рыбинско-Бологовской железной дороги еще не было, и мы ездили из Петербурга до Твери по Николаевской дороге, а от Твери до Углича на переменных, складываясь для этого по шесть человек и нанимая тройку рублей за тринадцать – пятнадцать и дороже, смотря по тому, какова была дорога.
Была глухая ночь, когда я с колокольчиком подъезжал к своему дому. Поклажи у меня было очень немного, и я мог бы от постоялого двора, где останавливались ямщики, легко дойти пешком до дому; но я отдал последний оставшийся у меня гривенник ямщику на водку, лишь бы он меня подвез к дому с колокольчиком, чтобы родные мои видели, что я пришел не пешком, а приехал на тройке. Но я ошибся в расчете; родные мои крепко спали и не слыхали, как я подъехал, не слыхали и звеневшего колокольчика. Долго мне пришлось стучать в ворота и в окно, чтобы разбудить их; наконец отец услыхал и впустил меня в горницу.
После обычных поклонов в ноги отцу и мачехе и целований меня спросили, как я добрался. Я сказал, что приехал на тройке, но мне не верили, а были убеждены, что я пришел пешком.
– А что. Николай, верно у вас там, в Питере, бумага-то дорога? – вдруг спрашивает меня мачеха, когда я улегся на полу спать.
– Какая бумага? – переспросил я, не понимая ее вопроса.
– Да вот бумага, на которой пишут.
– Нет, – говорю я, – по копейке лист продают, а есть и по грошу.
– А мы думали, что у вас там уж и очень дорога.
– Почему же вы так думали? – спрашиваю.
– Да письма-то от вас больно уж редко приходят; неужели на почте теряют?
Я ничего на это не ответил, только подумал: ну, вот уж и начинается; что-то завтра будет?
Но на другой день со мной мало и разговаривали, только отец что-то сердито раза два спросил, а мачеха обходила молча.
Опять настало такое же житье, какое было пять лет тому назад. Опять я боялся свободно вымолвить слово, заявить какое-нибудь желание или выразить в чем-нибудь свое мнение; боялся взять кусок хлеба и за обедом наедаться досыта.
Так продолжалось месяца три; затем я поступил к жившему у нас на квартире поверенному питейного откупа – в кучера, для разъездов с ним по кабакам в нашем уезде.
Хозяин мой был сверхштатный поверенный по откупу. Обязанность его состояла в том, чтобы ездить по находящимся в уезде кабакам, делать учет продававшимся винам и разливать их. Жалованья он получал от пятидесяти до шестидесяти рублей в месяц, из которых должен был нанимать от себя кучера и содержать пару полагавшихся от конторы откупщика лошадей. Мое жалованье было небольшое, восемь рублей в месяц на своем содержании; но езда по деревням в летнее время мне очень нравилась. Постоянно менявшиеся местности, свежий здоровый воздух, свежая деревенская и недорогая пища (за обед на местах стоянок с поверенных брали по пятнадцати копеек, а с кучеров только по семи копеек) и при разливе попадавшийся стакан водки – все это меня довольствовало и веселило; только хозяин мой был настолько капризный человек, что кучера у него не уживались. До меня кучера менялись у него через неделю, через две, много через три; сколько мне ни нравилась эта работа, сколько мне ни хотелось есть собственный хлеб, чтобы не возвращаться опять к домашнему, но я не мог прослужить более месяца.
Рассчитавшись со своим хозяином и дополучив от него какие-то копейки, я отправился на фабрику. Я раньше слышал, что за Волгой, на Варгунинской фабрике, по случаю перестраивавшейся там плотины, требуются рабочие, и поступил к подрядчику, поставщику чернорабочих, по пяти рублей в месяц на его содержании.
Проработав на плотине месяца два, мне захотелось поступить на самую фабрику, чтобы обеспечить себе работу и на зиму. Для этого я сошелся с фабричным десятником, несколько раз его угощал и, кроме того, обещал ему хороший магарыч, если он доставит мне место. Хлопоты мои не пропали даром; в скором времени, когда у десятника спросили рабочего на фабрику, он представил меня мастеру-англичанину, и тот на первое время поставил меня в помощники к прессовщику – прессовать промытую и измолотую материю; но здесь я пробыл недолго, и меня перевели в клееварню толочь канифоль. Сначала я знал только одну эту работу, но потом устроили еще котел для варки клея, прибавили еще рабочего, и меня поставили к котлу варить клей. Работа эта была вовсе не тяжелая, но очень грязная, липкая: за неделю так испачкаешься, что едва отмоешься в бане.
Сюда к нам очень часто похаживал брат директора фабрики, англичанин Иван Иванович Гоберт. Не знаю, имел ли он какую-нибудь долю в фабрике или нет, но только он не входил ни в какие распоряжения; а придет бывало так себе, посмотрит, спросит что-нибудь, побалагурит, померяется с кем-нибудь силою (он был очень силен: две двухпудовые гири поднимал с полу и держал до десяти минут над головою: из всей фабрики только один рабочий мог поднять так гири и за это получил от него в подарок романовский дубленый полушубок). Зато рабочие его любили и считали за честь, если он придет и поболтает с кем-нибудь. Захаживая ко мне, Иван Иванович расспрашивал, кто я, знаю ли грамоте и где прежде жил. Я, конечно, не преминул похвастать, что учился в уездном училище и кончил курс с аттестатом, что жил прежде в Петербурге, несколько времени занимался книжной торговлей, любил почитать и читал много романов и стихотворений и даже сам сочинял стихи, причем прочел ему одно или два из моих стихотворений, которые теперь уже и сам забыл. Но знания мои в литературе, даже в русской, оказывались совершенно ничтожными сравнительно с тем, что знал Иван Иванович. Все-таки он похвалил мою любознательность и даже подарил мне три рубля; но посоветовал выкинуть из головы поэзию и ознакомиться лучше с химией, чтобы быть полезным рабочим. Однако в то время я был настолько еще несведущ, что не понимал, чему учит химия, и Иван Иванович должен был мне это объяснить. Я бы, пожалуй, и увлекся предложением Ивана Ивановича, если бы было по чему учиться, но приобрести такую книгу в своем городе я не мог, а чтобы выписать из Петербурга, не имел свободных денег, да и не знал, сколько она стоит и откуда ее можно приобресть, а Ивана Ивановича просить об этом не посмел или, вернее, не догадался.
В течение года мне пришлось работать на фабрике почти во всех ее отделениях; где бывало не хватает человека, то мастер и говорит: позвать маленькой, такой – показывая рукою на мой рост – мальчик с клееварни, и меня тащили на другую работу, где я и находился до возвращения старого или до постановки на это дело другого постоянного рабочего.
Исключая клееварни и обрезной, во всех прочих отделениях фабрики работа производилась днем и ночью, и рабочие чередовались: одну неделю день, а другую ночь. Жалованья простые рабочие получали от восьми до десяти рублей, старшие от двенадцати и до двадцати пяти, а мальчики, девушки и женщины от пяти и до семи рублей в месяц. Работа в самой фабрике, или, как у нас называли, в корпусе, была не особенно тяжела, но в каждом отделении были свои неудобства: в ролях и у прессов сильно мокро; в самочерпне и в обрезной небезопасно, потому что не трудно попасть под ножик или в шестерню; а в белильной и парильной, особенно когда бывает усиленная белка материи, невыносимо; едкий и удушливый газ нестерпимо резал глаза, производил беспрерывный, резкий кашель и захватывал дыхание. Кашель зачастую не давал всю ночь уснуть, и при этом отделялась целая лужа обеленной, как молоко, мокроты. Этот удушливый газ ужасно был вреден зимою, но летом, когда все окна и двери были постоянно открыты, он скорее выдувался, и работать было легче.
Вопреки всем описаниям безнравственности и циничности фабричных рабочих я должен сказать, что у нас на фабрике соблюдалась безусловная благопристойность. Молодые ребята, работая нередко вместе с девушками, не позволяли себе ни неприличных шуток, ни сквернословия. Каждая неблагопристойность, если она была замечена или по чьей-либо жалобе доходила до мастера, наказывалась штрафом; но, кроме этого, неиспорченность нравов можно было объяснить еще и тем, что на этой фабрике совсем не было пришлого народа; работали все или городские, или ближние деревенские, все люди, взятые из семьи.
Я в то время был молод и, как уже сказал, был влюблен в Петербурге, но, прожив с год на родине, я начал забывать свою возлюбленную, а через полтора года мне и здесь приглянулась девушка, с которой я часто работал в белильной. Дуня, дочь нашего мещанина, очень недурненькая и скромная семнадцатилетняя девушка, положительно увлекла меня; я только и бредил ею, писал в честь ее стихи, и, как образец, привожу одно из этих стихотворений, сохранившееся в моей памяти до сих пор;
Испытав любви оковы,
Я хотел ее забыть,
Но прелестны ваши взоры
Снова мне велят любить!
Ах! вы снова показали
Нежну сердцу путь к любви
И, как будто вы сказали:
Сердце, ты опять живи!
И теперь, я вам признаюсь.
Что любовью к вам горю;
Я теперь вам открываюсь
И от вас ответа жду
Но ужель в любви столь страстной
Получу я ваш отказ?
Ах, тогда скажу, напрасно
Только я влюбился в вас!
К этой немудрой песенке я подыскал мотив и распевал ее в белильной.
– Какая хорошенькая песенка, – сказала раз Дуня.
– Это, – говорю я, – Авдотья Матвеевна, вам посвящается.
– Как это посвящается?
– Да так, вам посвящается, потому что я для вас только ее сочинил.
Дуня ничего мне на это не сказала – только надула губки и ушла.
Она рассказала подругам о моем признании, а те сделали мне выговор за такое непринятое или, по их понятиям, неприличное признание молодой девушке. Мне сделалось и совестно и обидно, что я не понят и не оценен в любви, и я скоро бросил фабрику.
Во время моей службы на фабрике я большую часть жалованья отдавал в дом, а на остававшиеся у меня деньги оделся довольно прилично, что дало мне возможность вскоре опять получить должность. В то время у нас в доме квартировали живописцы; хозяин их отрекомендовал меня в овощную лавку, и я из фабричного сделался торговцем.
В этой лавке, как и вообще в провинции, торговали не одними овощенными товарами: тут были и краски, и табак, и вино, и всякая всячина. Торговля шла довольно хорошо, товару было много, жалованья мне положили, против фабричного, более приличное, семьдесят пять рублей в год на хозяйском содержании, тогда как на фабрике я получал всего восемь рублей в месяц на всем своем. Хозяин был хороший и смирный человек.
Хотя я был доволен этим местом и старался, насколько мог, но должен сознаться, что и тут был не безгрешен. В выручку я не ходил – красть деньги было невозможно, – но я потаскивал сигары и папиросы и, спускаясь в подвал, пристрастился попивать кагор. Все это сходило благополучно – пьяным я не напивался, курил скрытно, и меня ни в чем не замечали; но почему-то меня невзлюбил старший приказчик, а из угождения ему и мальчики. О всякой сделанной ошибке или малейшем упущении с моей стороны доносилось хозяину; такие нападки повторялись ежедневно; однако я все выносил, не желая оставить эту должность.
Но вот однажды, при запоре лавки, меня заподозрили в краже папирос; хотя при обыске у меня ничего не нашли, но все-таки я был отказан.
Что было делать? Прийти домой и сказать, что я отказан, я не смел – боялся отца, да и совестился домашних и жильцов: я решился идти к одному моему товарищу по фабрике и на время поселиться у него.
Товарищ мой был человек еще очень молодой и совершенно одинокий; он жил в своей лачужке на краю города. Когда я постучался к нему и рассказал свое положение, он принял меня; я же с своей стороны, конечно, не преминул пообещать ему, что щедро отблагодарю за такой прием, когда получу расчет с хозяина, но получить не пришлось ничего, и я прожил таким образом неделю.
Раньше я много наслышался о доброте и благотворительности архимандрита Покровского монастыря, находившегося всего в двух верстах от нашего города. К этому-то благотворителю я и решился идти просить помощи.
Я попросил товарища принести с фабрики лист писчей бумаги и, за неимением чернил и пера, написал архимандриту письмо карандашом. Письмо было составлено, по моему мнению, трогательно и убедительно и начиналось так: «Ваше Высокопреподобие, отец и благотворитель!» Затем излагалось мое положение и просьба о помощи. Написав это письмо, я был очень доволен его содержанием, думая, что оно так и прострелит душу архимандрита, что он поймет и оценит мои достоинства. Но ожидания мои не сбылись. Спустя минут десять посте того, как я передал послушнику мое письмо, в приемную вышел архимандрит и, глядя в письмо, сказал:
– Я не ваше высокопреподобие, да и письма мне карандашом не пишут; а ты, чем писать письма, лучше бы поискал себе какой работы, ведь ты человек еще молодой – иди с богом.
Униженный от стыда и разбитой надежды и притом же голодный, я шел от архимандрита и думал: «Да, вот они благотворители-то, а еще архимандрит, святой отец, а нисколько в нем нет милосердия, да и людей не может понять».
Однако, когда я шел далее по чистому полю, горе мое понемногу стало изглаживаться, и я начал придумывать какой-нибудь другой исход.
На этот раз я решил вернуться домой. Я уже не пошел к своему товарищу и целый день до вечера бродил в отдаленных пустых улицах города, а когда стемнело, то раз тридцать прошел по своей улице, все выглядывая, что у нас делается в доме.
Это был день праздничный, на святках. Я видел в окно, что у нас в доме небольшая вечеринка, и потому мне казалось еще более неудобным явиться, да и было совестно. Но голод взял свое, и я, видя, что некоторые посторонние разошлись, а свои собрались в одну горницу, потихоньку пробрался в темную половину.
Конечно, меня приняли не совсем дружелюбно; но подробностей уже не помню, да их не стоит и описывать; брань и упреки всегда сводились к тому, что я, вместо того, чтобы быть отцу помощником, только дармоедствовал на его хлебах.
До великого поста я снова пробыл без дела: но постом задумал во что бы то ни стало опять отправиться в Петербург. Домашние меня не удерживали, но и не думали поощрять или помогать.
Я продал за пять рублей свою пару платья, выправил паспорт и простился с Угличем, имея в кармане около трех рублей.
До Твери я дошел пешком; что я видел во время этого путешествия, где ночевал и сколько денег пропутешествовал, не помню: но на пятый день я был в Твери: денег у меня на железную дорогу не хватило, и я принужден был еще кое-что продать. В Петербург я приехал на Вербной неделе. Зять и сестра меня приняли хорошо: сестра даже была рада моему возвращению, и я на первое время остался у них.
ГЛАВА СЕДЬМАЯТорговля книгами вразнос Книгопродавец Шатаев • Братья Канаевы • Поездка на родину • В Мышкине на ярмарке • В селе Заозерье • Неудачная торговля • В Калязине • Знакомство с Садовским • Наши странствования по деревням • Кража • Продажа краденых вещей • Ссора с Садовским • Прошение милостыни • В остроге • Острожная компания • Отправление по этапу в Углич • Пожар • Знакомство с Кузнецовым • Возвращение в Петербург
На этот раз я приехал в Петербург уже с определенным намерением заняться книжною торговлею. Но, чтобы торговать, нужны деньги, а у меня их не было; зять не мог дать мне; он тоже нуждался – ему на Пасху нужно было открывать лавку.
Я начал искать себе работы, и так как была весна, то и находил ее по дачам. Где возьмусь сад расчистить, где канавы окопать, и, таким образом, в течение месяца я кое-что заработал.
Заработанные деньги я отдавал сестре, но, конечно, их было немного, и она, истратив из них несколько рублей мне на белье и прочее необходимое, последние три рубля попросила дать зятю в оборот, пока я не примусь за свою торговлю. Я так и сделал и сам, как умел, помогал ему в торговле.
С весны дела у дачных торговцев идут всегда неважно. В первое время они наперебой, друг перед другом, стараются продать товар как можно подешевле, чтобы заручиться покупателями на все лето, а затем уже с вверившимися им покупателями и наверстывают весенние недохватки. То же самое было и с моим зятем: я видел, что он сам очень нуждался в деньгах, – не спрашивал у него моих трех рублей, хотя и сгорал желанием заняться своей торговлей.
29 июня 1863 года я взял наконец у зятя три рубля и отправился в рынок купить книжек. Не помню уже, указал ли мне кто, или я сам забрел в лавку Василия Гавриловича Шатаева [59]59
Шатаев Василий Гаврилович – издатель и книгопродавец, обслуживавший «народного» читателя. Подробнее о нем см. ниже в очерке Свешникова «Петербургские книгопродавцы – апраксинцы и букинисты».
[Закрыть]. Он надавал мне разной мелочи: азбук, песенников, сказок, житий святых, соломонов [60]60
Соломон – название гадательных книг, по имени мудрого библейского царя Соломона.
[Закрыть]и т. п.
Первое время я торговал мелкими народными изданиями и картинами, имевшими тогда несравненно большую ценность, чем теперь. Затем я стал почти ежедневно заходить в Сытный рынок, где, в так называемом Пассажике, т. е. маленьких деревянных ларьках, стоявших в два ряда посредине грязной немощеной площади, ютились торговцы разным старьем. У этих торговцев, при отсутствии тогда еще книжных лавочек на улицах, встречались нередко старые и дельные книжонки, которые я и покупал почти за бесценок.
Торговать я ходил преимущественно по дачам в Лесной Корпус. Новую и Старую деревни, Паргалово, Коломяги и по островам. Вначале я торговал совершенно особняком. Из прочих книгопродавцев, кроме Шатаева, я ни к кому не ходил и ни с кем не знался. Все приобретаемые на стороне книги я носил показывать Василию Гавриловичу и большею частью променивал или на его собственные, или на дешевые московские издания, за что он меня любил – давал советы по торговле и частенько водил в трактир угощать чаем.
Шатаев был тоже не из настоящих книгопродавцев. Прежде он был посудником; но основав, по совету и при поддержке В. В. Холмушина [61]61
Холмушин Василий Васильевич (1802–1874) – апраксинский книгопродавец и издатель. О нем см. ниже в очерке Свешникова «Петербургские книгопродавцы – апраксинцы и букинисты», а также в статье: Симони П. К. О книжной торговле и типах торговцев на старом Апраксином рынке В. В. Холмушин//Старые годы. 1907. № 4. С. 149–151.
[Закрыть], книжную торговлю народными изданиями, впоследствии сделался сам издателем множества народных дешевых книг. Всегда трезвый, расчетливый, но, вместе с тем, нескупой и доброжелательный, он, не обладая большими познаниями по книжному делу, через десяток или полтора лет сделался в Петербурге первым торговцем народными книгами и картинами.
В это лето, несмотря на мои малые сведения в книжной торговле, я торговал недурно и завел знакомство с некоторыми из дачных покупателей.
Первыми моими знакомыми из господ были три брата Канаевы [62]62
Имеются в виду Александр Николаевич Канаев (1844–1907), педагог и драматург, основатель мастерской учебных пособий и предметов в Петербурге, по чьей инициативе были написаны воспоминания Свешникова; а также его братья Иван и Владимир.
[Закрыть]– один из них был тогда студентом, а два еще гимназистами. Я очень часто, проходя по Поклонной горе, останавливался у занимаемой ими дачи отдыхать и беседовать с ними. Они были моими учителями и впоследствии имели большое влияние на мое развитие, по настоянию старшего написаны и эти воспоминания. Но в первый год знакомство мое с ними ограничивалось только несколькими беседами на даче и посещением их в городе – в Троицком переулке, где я был поражен приветливым и ласковым приемом, оказанным мне со стороны всего их семейства.
Запас моего товара и особенно недостаточность знания в нем давали мне мало хороших покупателей; но все-таки я в это же лето сумел приобрести себе покупателем П. А. Муханова [63]63
Муханов Павел Александрович (1797–1871) – собиратель и издатель материалов по отечественной истории, библиофил. С 1861 г. – член Государственного совета. О его библиофильских увлечениях и библиотеке см.: Березин-Ширяев. О моем знакомстве с П. А. Мухановым //Рус. архив 1879. Кн. 1. № 2. С. 236–245.
[Закрыть], к которому впоследствии несколько лет ходил и продавал книги чуть ли не на всех европейских языках, имевшие исторический и описательный характер.
С наступлением осени, когда дачники поразъехались, торговля моя пошла хуже, но мною за лето было скоплено немного деньжонок, и потому я мог бы, при даровой квартире у зятя, вести это дело и зимой без большой нужды. Но осенью у меня явились приятели из разных забастовавших дачных торговцев; я начал поигрывать с ними в карты и погуливать, почему, в скором времени, скопленные мною летние барыши истощились, и я, собрав остатки своего летнего товара, решился отправиться опять на родину с тем, чтобы там заняться этой же торговлей.
Приехал я в Углич на этот раз с большим мешком разных книг и книжечек. Однако торговать в своем городе на рынке или вразноску этим товаром мне показалось делом стыдным, притом же и родные мои смотрели на это дело как-то неприветливо; отец считал его шарлатанством, и потому я решил торговать по окрестным ярмаркам и базарам.
Прежде всего я отправился на ярмарку в г. Мышкин, отстоящий от Углича в тридцати верстах. Путешествие это я совершил пешком в ночь, с ношею на голове, потому что денег у меня не было ни на извозчика, ни на ночлег. Несмотря на то, что книги у меня были старые, а иные неполные, я продал в Мышкине в два дня порядочное их количество и с барышом. Вернувшись домой, я должен был отдать мачехе на расход, и таким образом из моей торговли ничего не вышло, кроме убыли товара.
Прошла еще неделя или полторы; я просидел без дела. Дома опять начались выговоры и попреки дармоедством, и я надумал отправиться с остатками своего товара в село Заозерье на Никольский базар. Идти нужно было тридцать пять верст. Погода была холодная, снежная, а денег у меня опять ни копейки. Собрался я под вечер; взвалил на голову мешок и зашел к тетке, торговавшей тогда в кабаке, попросить у нее гривенничек, на который, дорогою, на перепутье, хотел попить чайку; но тетка мне не поверила гривенника, и я должен был всю ночь тащиться с ношею до базара.
В Заозерье я торговал уже хуже, чем в Мышкине, во-первых, потому, что товару у меня было гораздо меньше; а во-вторых, потому, что в окрестностях этого села народ посерее и тогда еще было мало грамотных. Но я встретился здесь с одним московским торговцем картинами и мелочью, и тот сманил меня отправиться вместе с ним торговать далее по селам, а потом пройти в Москву за новым товаром.
Пешие мы пробрались во Владимирскую губернию, верст за сто от нашего города, и по дороге торговали в селе Троице на Нерле; но дела наши подвигались плохо; то, что продавали, то и проедали. Наконец, в Николин день, в селе Хребтове, видя, что на мой товар совсем нет покупателей, я расстался с товарищем. Он пошел к Москве, а я обратно в Заозерье и потом домой.
Ежедневные, чуть не ежечасные попреки заставили меня опять бежать из дому. Я ушел с пятью-шестью оставшимися у меня книжонками и направился куда глаза глядят. Дня три я пробыл в Угличе у полунищего старика сапожника, а на четвертый день решился идти в Кашин попытать счастья – попросить у богача Жданова помощи или должности. Всю дорогу я лелеял эту мысль, мечтал, как ему представлюсь и отрекомендуюсь, но, придя в Кашин, я несколько раз прошел мимо его изящного дома, а взойти туда не осмелился и, почти голодный, отправился в Калязин, не давая себе отчета зачем.
От Кашина до Калязина расстояния только восемнадцать верст; полому я пришел туда еще не поздно, но без гроша денег, а, между тем, хотелось и поесть, и выпить, и погреться. Я зашел в кабак, свернул папироску и задумался. Рядом со мной сидел на скамейке мужчина лет тридцати, красивый и здоровый, одетый в деревенский, крытый холстом зипун. Мы с ним разговорились, и я спросил у него, не знает ли он, где бы мне сбыть оставшиеся у меня две немецкие книжонки.
Он предложил свои услуги, взял книги и пошел с ними в аптеку. Через полчаса Садовский, так звали его, принес мне пятиалтынный. Я не знал, что с ним летать. И самому себя нужно удовлетворить, да и товарища нельзя не угостить за услугу; но Садовский разрешил мое недоумение, сказав:
– Давай выпьем по шкалику, на пятак закусим, а ночевать пойдем в деревню, там нас и ужином накормят.
С этого дня я сошелся с Садовским. Мы с ним постоянно ходили по окрестным деревням, и он представлял меня – где за странника-богомольца, а где – за всезнающего колдуна-знахаря. Верили или нет нашим россказням добрые крестьяне – я не знаю; но нам нигде не отказывали, везде кормили и поили и радушно оставляли ночевать.
Ходя по деревням, Садовский постоянно высматривал, как расположены у крестьян клети, велики ли в них окошечки, защищены ли они чем-нибудь, и нет ли в деревне собак; а потом указывал мне, что вот тут и тут можно будет поживиться, только бы ночки сделались потемнее да поненастнее.
Странствовали мы с Садовским около двух недель, а поживиться нам нигде не удавалось. Наконец в одну непогожую ночь мы порешили очистить одну клетушку.
Часу во втором ночи пришли мы в деревню, огляделись: огня не видать ни в одной избе. Садовский подошел к намеченной клетушке, подставил дыбком к маленькому окошечку стоявшие тут розвальни, а мне велел встать на стремя с угла. Затем он вынул из кармана всегда находившийся при нем и приспособленный для этой цели крюк, огарок свечки и спички. Прикрепив крюк веревкою к здоровой палке, служившей ему вместо посоха, он забрался на свои подмостки, зажег свечку и с помощью ее осмотрел все, что находится в клетушке. Затем он своим самодельным багорком приподнял у незапертых сундуков крышки и начал вытаскивать оттуда, что мог зацепить. В полчаса времени Садовский накидал на снег целую кучу добра, состоявшего из мужского и женского белья, небольших остатков холста, ниток и т. д.
– Ну, будет, – сказал он наконец. – Натаскал много, а путного, кажется, ничего нет. Теперь смотри и слушай хорошенько, а я буду увязывать.
Завязав рукава у двух женских рубах, он сделал два мешка и поклал в них все добытое из клети.
Взвалив мешки на плечи, мы осторожно выбрались из деревни и скорым шагом пошли в город. Деревня, в которой мы совершили кражу, стояла верстах в двенадцати от Калязина; но мы это расстояние прошли скоро и достигли города еще очень рано до свету.
Здесь, на Свистухе – так называется в Калязине пригород, – Садовский подошел к одному покосившемуся и полуразвалившемуся домишке. Постучав в окно, на вопрос: кто там? – Садовский сказал свою фамилию, и нас сейчас же впустили в избу.
Хозяйкою этой избы была старуха, переторговывавшая на рынке. Жила она с сыном, разухабистым детиною, и снохою, красивой, но совершенно забитой и безответной молодой женщиной.
Когда мы вошли со своими ношами в избу, то хозяева из предосторожности завесили окна, а потом зажгли огонь. Садовский вывалил из мешков нашу добычу, отобрав для себя, что было нужно переодеть, и, дав мне рубаху, остальное предложил старухе купить. Торг продолжался недолго, и мы продали все добытое нами имущество за семьдесят пять копеек и полуштоф водки; но старуха предварительно расспросила Садовского, из какой деревни взяты вещи.
– Ведь вот. – пояснил Садовский, – в деревне будут говорить, что обокрали целковых на десять, а тут и с водкой-то всего на рубль.
Когда мы распили первый полуштоф, то послали за другим, а затем рассорились из-за оставшихся денег. Садовский остался у старухи, а я ушел из этого дома, проводил дни в кабаках, а ночевать ходил в монастырь преподобного Макария.
Не помню, сколько дней я проболтался в Калязине, но помню, что в Крещенье, 6 января, я стоял на паперти собора и просил милостыню; мне не подали ни гроша, а потом полицейский надзиратель забрал меня на рынке, как человека подозрительного.
Я был рад аресту, но в полицейской арестантской, где мне пришлось просидеть двое суток, не давали ни порционных денег, ни пищи. Я просидел бы голодным, если бы один арестованный не уделил мне куска из принесенного ему домашними хлеба.
На третьи сутки меня перевели в острог, где я находился окало месяца. Как ни было там худо – нары были сплошные, подстилки не полагалось никакой, а в щах постоянно плавали тараканы, – но мне, говоря откровенно, хотелось отдалить день своего освобождения; я боялся явиться домой по этапу.
В большой камере, в которой я находился, всех арестованных было восемь человек и, исключая меня, все состояли под следствием. Так как это было время перехода судебных дел из старых учреждений в новые, то некоторые находились под следствием уже несколько лет.
Между арестованными мне памятны один харчевник из села Троицы на Нерле, содержавшийся за конокрадство, прием краденого и притон воров, и два брата портные. Последние, как они сами рассказывали, сначала попались в маленькой краже; им удалось бежать, и хотя в скором времени были пойманы, но с этого раза у них явилась какая-то мания к побегам.
В это время они уже более десяти лет странствовали по разным тюрьмам и судились – один за двенадцать, а другой за четырнадцать побегов, да и впредь надеялись уйти, несмотря на то, что за каждый побег, когда они попадались, конвойные и сторожа так жестоко их били, что им приходилось лежать в больнице.
– Что же вы бегаете? – спросил я однажды младшего брата. – Ведь вы знаете, что долго вам не нагулять, и попадетесь, так опять будут бить?
– Ах, чудак-человек! – отвечал один из них. – Конечно, если бы мы знали, так лучше бы с первого раза не бегать, а теперь мы понимаем, что нам на свободе уже не бывать, а быть в Сибири; а ведь и птичке из клетки, и той хочется на волю, так и нам хоть час погулять, и то наше, и то лестно.








