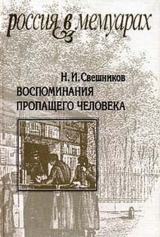
Текст книги "Воспоминания пропащего человека"
Автор книги: Николай Лесков
Соавторы: Абрам Рейтблат,Николай Свешников
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 25 страниц)
В 1865 году Граф имел ларь у Александровского – ныне Екатерининского – сквера, но тут дела его уже были не блестящи, он считался одним из самых небогатых книжников, торговавших на ларях. Затем он куда-то скрылся, говорили, что уехал в Москву, и с тех пор о нем не было никакого слуха.
По ловкости, изворотливости и способности на разные проделки вторым после Графа следует считать еще недавно сошедшего со сцены в книжном мире Гаврилу Волкова, который так же, как и Граф, был очень дельный букинист, также способный пустить пыль в глаза и посамозванствовать, но только с тою разницею, что у Графа почти все проделки были бескорыстны и совершались, как я сказал, ради искусства, Волков же самозванством и пусканием пыли в глаза непременно преследовал какую-нибудь корыстную цель.
В молодости своей он был хорошо знаком со многими писателями и вхож в дома именитых господ: кроме того, у него много было знакомства между офицерами кавалерийских полков, которых он снабжал более всего порнографиею во всех ее видах. Он был смел до отчаяния и много промышлял книгами, не дозволенными цензурой, за что в начале шестидесятых годов ему пришлось поплатиться. Однажды князь Г., которого Волков остановил на Невском проспекте, предлагая всевозможные книги, приказал принести ему «Колокол» Герцена: Волков не задумался исполнить поручение князя и на другой день отыскал требуемое, явился к нему на квартиру, которая находилась в Аничковом дворце. Здесь его сейчас же арестовали и отвели в Третье Отделение, а затем перевели в Литовскую тюрьму, откуда он вышел только по милостивому манифесту. В тюрьме он познакомился с некоторыми выдающимися дельцами темных профессий, через которых впоследствии тоже имел своего рода выгоду. По выходе из тюрьмы он знакомил этих дельцов с Вс. Крестовским, который черпал у них материал для «Петербургских трущоб». Впрочем. Волков после ареста долго не мог оправиться, но в начале семидесятых годов, через одного из тюремных товарищей, он сразу разбогател и начал заниматься крупными покупками книг, преимущественно остатков и целых изданий. При подобных покупках он всегда выдавал себя за московского или какого-нибудь провинциального книгопродавца и так умел вести дело, что автор или издатель книги охотно уступал ему свое издание для распространения, по уверению Волкова, чуть не по всей России. Смело можно сказать, что устраивать подобные покупки не находилось ему равного: он как будто заранее знал, в чем заключается конек того лица, с которым ведет дело, и потому так и действовал на него.
Раз он пришел к моему знакомому издателю Кожанчикову [239]239
Кожанчиков Дмитрий Ефимович (1820 или 1821–1877) – книгопродавец и издатель, близкий революционно-демократическим кругам. См. о нем: Материалы. С. 42.
[Закрыть]купить тысячу экземпляров одной детской книги, рекомендуя себя при этом домовладельцем из Коломенской улицы и распространителем общеобразовательных книг в провинции, причем просил Кожанчикова, чтобы он уступил ему товар половину на деньги, а другую на вексель Во время беседы с Кожанчиковым он так заинтересовал его рассказами о своем знакомстве с разными выдающимися писателями, что тот, как говорится, и уши развесил, послал для него за бутылкою водки и целый день удерживал, слушая его рассказы. На другой день повторилось то же, и Кожанчиков уже готов был уступить его предложению, однако, спохватившись, навел о нем справки у книгопродавцев и отказал в продаже. Но Волков и тут недаром вел рассказы, он взял у Кожанчикова на несколько рублей игрушек для своих внучат и, конечно, не заплатил денег. Впрочем, Кожанчиков не обижался на это; он сказал мне, что Волкова можно неделю слушать, платя ему по три рубля в день за рассказы.
Кроме своей деятельности по продаже и покупке книг, Валков с сестрою открыл в Красном, или близ Красного Села, харчевню и мелочную лавку, но тут дело было не в торговле, а в том, что, имея большое знакомство между офицерами, доставляя по-прежнему им разные книги, он вместе с тем от имени сестры ссужал их небольшими деньгами за большие проценты. Для характеристики его деятельности на этом поприще не мешает привести следующий случай.
Однажды Волков ссудил служившего в конвое его императорского величества князя N небольшою суммою под расписку.
Через месяц или полтора он, прослышав, что князь получил деньги, явится к нему с предложением каких-то книг. Князь, купив у Волкова книги, отдает вместе с тем и долг, занятый у него под расписку.
– Ах! Ваше сиятельство. – говорит Волков. – действительно, мне деньги очень нужны, но я сегодня пришел к вам только предложить вот эти книжечки, так расписку-то вашу и не захватил с собой. Впрочем, все равно, если можете, так уж позвольте мне должок-то, а я, как приду домой, так и разорву вашу расписочку.
– Хорошо. – отвечает князь. – наверно вторые деньги с меня не спросишь?
– Нет, как это можно, ваше сиятельство! Вы уж будьте покойны.
Проходит после этой получки месяца два. Волков обращается к одному из своих приятелей, букинисту Груздеву.
– Андрей, – говорит он, – хочешь заработать красненькую?
Груздев был человек без средств и притом семейный.
– Как красненькую не хотеть заработать! – отвечает он. – Да за красненькую я дня тебя что хочешь сделаю. Ведь ты меня не пошлешь же кого-нибудь душить или поджигать.
– Нет, я пошлю тебя только в Царское Село – вот по этой расписке получить деньги. Видишь ты, этот князь мой хороший знакомый, он занял у меня деньги и сказал: «Вы уж не беспокойтесь ко мне ездить за деньгами, я сам пришлю». Да вот и не присылает. Мне самому совестно ехать к нему за получкой, а деньги-то нужны, так уж я лучше тебе красненькую дам за то, что ты съездишь к нему да получишь. Я и надпись сделаю на расписке, что доверяю получить тебе.
Груздев, ничего не подозревая, поехал в Царское Село. Придя в квартиру князя, подает ему расписку.
– Вот, ваше сиятельство. – говорит Груздев. – Волков послал меня получить с вас по этой расписочке.
– Как, – вспылил князь, – ведь я ему заплатил долг!
– Я не знаю, – сказал оторопевший Груздев, – он послал меня к вам и говорил, что не получал.
Тут князь еще больше озлобился и, показывая на лежавший на столе револьвер, проговорит:
– Если бы он сам ко мне теперь явился, так я бы его, подлеца, сейчас из этого револьвера застрелил, как собаку.
«А я стою, – рассказывал покойник Груздев. – ни жив ни мертв, хотел было бежать да и то боюсь. Потом князь несколько раз прошелся по комнате и, подойдя к столу, вынул из него деньги и отдал мне».
– На, отвези ему, подлецу, – сказал он. – только скажи, чтобы он мне не попадался на глаза.
Но Волков и приятеля своего надул: он не только не отдал обещанные десять рублей, но и за проезд Груздев с трудом получит свои деньги [240]240
Этот факт может подтвердить старик Курочкин, тоже бывший букинист (прим. автора).
[Закрыть].
Подобными проделками везде и всюду Волков настолько испортил свою репутацию, что в настоящее время и знакомые, и покупатели, и торговцы от него отстраняются. Притом же и пьянство настолько его заело, что он совершенно опустился и теперь попеременно находится или в больнице или в Вяземской лавре.
Был между старыми мешочниками-книжниками и такой оригинал, которого нельзя пройти молчанием. Это памятный еще всем книгопродавцам и собирателям книг букинист Семен Андреев, известный более под именем Семена Гумбольдта. Такое прозвание он получил отчасти потому, что своею физиономиею (фигурою) действительно был похож на бюст Гумбольдта, а вместе с тем и потому, что любил пофилософствовать: он всегда в трактире сидел за чтением какой-нибудь книги и непременно критиковал и рассуждал о прочитанном.
Гумбольдт зарабатывал очень хорошие деньги и никогда не пил никаких спиртных напитков, но при всей своей безукоризненной трезвости он имел пристрастие к биллиарду и к женщинам. На биллиарде он проигрывал не только десятки, но и сотни рублей. Раз, я знаю, накануне Пасхи, у Гумбольдта не было денег ни гроша, он отправляется к одному именитому графу, которому доставлял очень много разных редкостей.
– Ваше сиятельство, – говорит Гумбольдт, – завтра Пасха, у меня нисколько нет денег, а нужно пальто и еще кое-что купить, да нужно и на праздник на расходы. Позвольте у вас попросить в долг денег, я после праздников принесу вам книги и рассчитаюсь.
– Сколько же тебе, Семен? – спрашивает граф.
– Да позвольте уж сто рублей.
Граф, будучи очень богатым и, вместе с тем, очень добрым, приказал камердинеру дать ему сто рублей.
Семен, получив эти деньги, вместо того, чтобы идти в рынок и купить себе что нужно, отправился в трактир к Симеоновскому мосту и там через два-три часа все сто рублей спустил на биллиарде. Затем снова отправится в графский дом и у швейцара выпросит еще семнадцать рублей, с которыми опять вернулся в трактир и опять проиграл из них четырнадцать рублей. Но самым излюбленным коньком Гумбольдта был театр. Он до того увлекался театром, что не пропускал ни одного выдающегося спектакля, а если играла какая-нибудь знаменитая актриса или танцовщица, и ему самому не удавалось достать билета, то он платил за него барышникам тройную цену, и если у него не было денег на билет, то продавал в убыток товар и все-таки попадал в театр. Увлечение его театром было так сильно, что, сидя иногда в компании за чаем и рассказывая про виденный им спектакль, он вдруг вскакивал со стула и начинал распевать какую-нибудь арию.
Надо сказать, что Гумбольдт действительно был странный человек. Он в продолжение восьми лет не имел ни паспорта, ни квартиры: иметь паспорт он считал лишнею формальностью, а квартиру – лишнею обузою. При хороших делах он ночевал в гостиницах, в которых его знали и часто делали доверие. Когда же дела его были плохи, он или выпрашивал у кого-либо из своих знакомых ночлег, или ночевал на улице. Все его состояние было на нем и при нем. В баню он ходил очень редко – через месяц и через два – и в продолжение этого времени никогда не менял белья. Несмотря на то, что в деревне у него была земля и порядочный дом, в котором жила его мать с сестрами, он никогда не позаботился послать им письмо, чтобы выслали паспорт, и попал туда только поневоле, был забран где-то полициею и отправлен этапом.
Конечно, при такой жизни он нередко прибегал и к разным неблаговидным поступкам как с своими покупателями, так и с торговцами, и наконец уже не пользовался ничьим доверием, но все-таки его везде терпели и принимали, потому что через него можно было достать какую угодно книгу, хотя бы она никогда не поступала в продажу.
Гумбольдт ходил с своим товаром ко всем писателям, редакторам и собирателям книг, но, кроме того, быт допускаем более, чем прочие букинисты, и в дома разных знаменитостей и лиц высокопоставленных.
Его следует считать уже последним из букинистов-мешочников (да и он в последнее время уже не носил мешков), и с ним совершенно исчез старый тип букинистов.
Чтобы покончить с букинистами, не имевшими постоянных мест для торговли, следует упомянуть еще о Суслове и Вишневском.
Первый из них, торговавший прежде с мешками и вследствие невоздержанной жизни проторговавшийся до последней книжейки, начал промышлять тем, что переписывал произведения Баркова [241]241
Барков Иван Семенович (1732–1768) – поэт, получивший широкую известность своими эротическими стихами, распространявшимися в рукописи.
[Закрыть]и с успехом продавал их в трактире в Толмазовом переулке своим собратам букинистам, которые, в свою очередь, находили покупателей на этот товар, преимущественно из молодежи купеческой складки. Затем, установившись немного, Суслов занялся скупкою всевозможной неполноты. Скупая у торговцев неполные книги и журналы по дешевой цене, он составлял полные экземпляры, отдавал их в переплет и опять продавал тем же торговцам.
Хотя эта торговля и не давала больших барышей, но все-таки после него осталось более двухсот пудов разного товара, за который книгопродавец Хлебников заплатил пятьсот рублей.
Вишневский начал свою торговлю с рук, затем стал ходить по аукционам, а впоследствии начал делать объявления в газетах о покупке книг. Так как ранее его делал объявления только Н. И. Герасимов и других подобных конкурентов еще не было, то дело его шло весьма успешно. В то время плата за объявления была недорога, почему он каждую неделю и публиковал раза четыре в «Голосе» [242]242
«Голос» – либеральная политическая и литературная газета, выходившая в Петербурге в 1863–1884 гг.
[Закрыть], что покупает книги по хорошей цене.
Являясь в дом за покупкою, он в большинстве случаев выдавал себя за любителя, старался выбирать только лучшие книги и отказывался от других под предлогом, что таковые у него уже имеются или не требуются в его библиотеку. Ловля на эту удочку вначале была вполне успешна, и он в короткое время заработал порядочные деньжонки, но его пример увлек и других, и дела его под конец шли не бойко. Все же Вишневский, как человек ничего не пьющий, работал недурно и после смерти оставил тысяч шесть наличного капитала и небольшую, но довольно ценную библиотечку.
III. Торговцы с ларейПосле пожара, уничтожившего в 1862 году Апраксин рынок, апраксинцам отвели места для торговли на Семеновском плацу. Книжники, в большинстве, также переселились туда, но некоторые пристроились торговать и в других местах. Так. Холмушин временно открыл торговлю в магазине русских изделий по Невскому проспекту, у Казанского моста в доме Ольхина, человека три или четыре – в проходах Гостиного двора, а иные мелкие торговцы начали раскладываться с своим товаром в прогалах решеток Государственного банка с Екатерининского канала и у Юсупова сада.
На Семеновском плацу для торговцев место отведено было временно, кажется на два или на три года, почему на другой же год многие из книжников и начали перебираться во вновь отстраивавшиеся корпуса Апраксина рынка, но только теперь они не группировались, как прежде, в одном месте, а открывали свои лавки кому где пришлось. Впрочем, об апраксинских торговцах я уже писал, а теперь скажу, что знаю, о букинистах, торговавших с ларей.
Первые лари были открыты у Думы, затем они начали располагаться и на мостах – на Казанском, Полицейском, Синем, Аничковом и других. Первыми основателями торговли на ларях были Лепехин и Петр Ефимов, за свою лысую голову прозванный Беранже, а за ними постепенно начали открывать лари и другие торговцы, так что в 1865 году книжных ларей по улицам и на мостах расплодилось более пятнадцати. В это время на ларях, исключая упомянутых выше, торговали следующие лица: Федор Семенов с братом Андреем Семеновым [243]243
Семенов Андрей Семенович (?-1895) – букинист.
[Закрыть](тогда еще мальчишкою, а впоследствии сделавшимся крупным книгопродавцем и владельцем двух домов в Симеоновской и Фурштатской улицах, умершим в конце прошлого, 1895 года), Иван Семенов, Сергей Васильев, Хлебников, братья Доновы [244]244
Донов Константин Константинович – букинист. О его брате см. примеч к с. 76.
[Закрыть], Н. Петров, Осип Бон, Н. Московский, о котором было уже сказано, и в то же время открыл собственную торговлю на Симеоновском мосту раньше служивший приказчиком у Сенковского [245]245
Речь идет, по-видимому, о книгопродавце Н. А. Сеньковском. См. о нем Материалы. С. 43–44.
[Закрыть]и у Юнгмейстера И. М. Клочков [246]246
Клочков Иван Матвеевич – букинист.
[Закрыть], отец известного теперь букиниста-антиквара Василия Ивановича Клочкова [247]247
Клочков Василий Иванович (1861 или 1862–1915) – владелец большого книжно-антикварного магазина в Петербурге. См. о нем: Лазаревский И. Среди коллекционеров. Пг., 1917. С. 67–70; Соловьев Н.В. И. Клочков//Рус. библиофил 1915. N? 5. С. 126–127; Шилов Ф.В. И. Клочков и Н. М. Волков//Альманах библиофила. Л., 1929.
[Закрыть].
Сначала лари были очень небольшие, наподобие стола с крышкою и с шкафами внизу, вверху же совершенно открытые; на них невозможно было почти совсем торговать в ненастное время: как только начинал кропить дождь, книги прикрывали клеенкою. Но в 1867 году градоначальник Трепов [248]248
Трепов Федор Федорович (1812–1889) – генерал-адъютант, петербургский градоначальник.
[Закрыть]приказал построить книжникам особый тип крытых ларей, который впоследствии еще усовершенствовали.
Несмотря на то, что с таких ларей торговать книгами было не очень удобно – книги портились от дождя, солнца и снега, да и сами торговцы принуждены были выносить жару и стужу, – первые уличные книжники-букинисты торговали очень хорошо. Тут, именно на этих ларях, многие нажили деньги и впоследствии сделались капиталистами.
С размножением книжных торговцев на ларях и цены на их места постепенно росли, потому что бакалейщики и другие торговцы неохотно уступали им хорошие места и при каждых торгах непременно наносили на них цену. Но книжники вели дело, если можно так выразиться, корпоративно. Они раньше торгов в городской управе делали между собою условие: кто, где и за какую цену должен торговать. Если кто из них покупал место дешевле той цены, какая между ними была за него назначена, то обязан был своим товарищам доплатить до условленной суммы: если же кому оно доставалось дороже, то переплаченные им деньги выдавали ему товарищи.
Вообще старые книжники, зачастую ссорившиеся между собою, постоянно ругавшиеся друг с другом и обносившие один другого разными прозвищами, когда дело касалось общей выгоды, тесно сплачивались и умели постоять за себя. Между ними существовал общий дух и, несмотря на частые ссоры, не было разъединенности. При частых покупках книг большими партиями они приглашали друг друга в компанию и покупали товар вместе, после чего одинаковые звания делили между собой и устанавливали цену, ниже которой ни один из товарищей не мог продать книгу, а звания, которых было по одному экземпляру, они разделяли на небольшие партии (нумера) и пускали их в вязку. Когда же случалось, что книги продавали с аукциона из магазинов или домашние библиотеки, то уличные букинисты соединялись и с апраксинскими торговцами и поручали всю покупку вести одному лицу, хотя для виду торговались и прочие; а затем с каждого, желавшего быть в паю (пайщики, внесшие залог и имеющие право на вязку, называются хозяевами, а не имеющие залога, но присутствующие на аукционе, – племянниками), брали известный залог, вручали залоговые деньги тому, кто считался благонадежнее, и после того вязали товар.
При аукционах они не отстраняли также и неимущих, за иного кто-нибудь клал залог и его принимали в вязку на правах хозяина, а прочим, которые числились племянниками, по окончании вязки отделяли небольшую часть общего барыша и выдавали смотря по достоинству каждого. Более сведущим, опытным торговцам давали по три и по пяти рублей, а малосведущим – рубль, полтора и два, соображая количество выделенной суммы и число находившихся на аукционе племянников.
Старые книжники не гнушались своим собратом, как бы он ни был неимущ, лишь бы знал дело. Они охотно давали ему работу: посылали по адресам посмотреть и приторговать книги или давали ему их для продажи. Эта общность в деле уравновешивала также и их знание: они между собою охотно делились своим знанием и за чашкою чая в трактире рассказывали один другому, какие издания редки и как следует их ценить.
У букинистов, торговавших с ларей, не было ни у кого особой специальности, они торговали всякими книгами, но все-таки у каждого был какой-нибудь любимый товар, который они часто перекупали один у другого. Так, например. Иван Семенов, носивший прозвание Земский Ярыжка, живший сначала в мальчиках и приказчиках у Холмушина, затем торговавший с мешками и в разных местах на ларях, а под конец имевший лавку в доме графа Шереметева по Литейному проспекту, – любил торговать преимущественно древними книгами, как русскими церковной и гражданской печати, так и иностранными – инкунабулами, эльзевирами и т. п. изданиями. Он лучше других знал, какое из подобных изданий реже и в чем заключаются особенности ценных изданий; лучше всех прочих из своих собратий он понимал толк в книгах древнецерковной печати. Известный библиограф Каратаев [249]249
Каратаев Иван Петрович (1817–1886) – библиограф, собиратель старопечатных славянских книг, составитель «Описания старопечатных славяно-русских книг, напечатанных кирилловскими буквами» (Спб., 1878).
[Закрыть]очень часто беседовал с Иваном Семеновым в трактире и пользовался его знанием. Между ними были вполне приятельские отношения, и Семенов вместе с Шигиным приобрел его издания по библиографии старопечатных книг.
Собиратели редких книг, гравюр, рукописей и т. п. вообще любили Ивана Семенова, потому что он не дорожился своим товаром и при первом мало-мальски выгодном случае старался продать его, а затем и заменить каким-нибудь новым приобретением. С торговцами он отличался особенною общительностью и почти в каждую крупную покупку приглашал к себе компаньонов; зато и у других редкая покупка совершалась без участия Ивана Семенова. Он очень любил вязку, хорошо знал расчет в ней и умел ее вести с таким тактом, что его повышенки при вязке, т. е. барыши, всегда были значительнее других.
Иван Семенов умер в 1884 году. После него торговлю продолжал его сын, Василий Иванович [250]250
Семенов Василий Иванович (?—1894) – петербургский букинист.
[Закрыть], который тоже в 1894 году умер, а наследники последнего торговали до прошлого, 1896-го года, но известный антиквар-книгопродавец Л. Ф. Мелин [251]251
Мелин Лев Федорович – крупный петербургский антиквар-книгопродавец. См. о нем: Шилов Ф. Г. Записки старого книжника. – Мартынов П. Н. Полвека в мире книг М., 1990. С. 118–120, 254–255.
[Закрыть]переснял помещение и выжил их из лавочки.
Сергей Федулович Хлебников, раньше известный более под прозвищем Перцова, был московский уроженец и там в молодых годах занимался уличною торговлею книгами и картинами. В пятидесятых годах он был сдан в солдаты и служил в л. – гв. гренадерском полку. Выйдя в бессрочный отпуск, он принялся за ту же торговлю и, будучи чрезвычайно деятельным, скоро расширил свои дела и уже до пожара Апраксина рынка имел там небольшую лавочку. После пожара он сначала принялся торговать в прогалах ограды Государственного банка, а затем снял ларь у Думы.
Хлебников отличался особенным пристрастием или, как говорили, жадностью к покупкам. Он не был разборчив на товар и покупал все – хорошее и худое. Зачастую он покупал такой хлам, от которого все прочие торговцы отказывались. Он так следил за покупками, что по какому-нибудь адресу, если ему назначали прийти в девять часов утра, он являлся раньше восьми. Но коньком его были иностранные крупные издания и всевозможные увражи; дорого или дешево такие книги продавались, он никогда не отпускал их от себя. Впрочем, его считали очень счастливым на торговлю, потому что, как бы дорого ему ни доставался товар, у него всегда находились покупатели.
В семидесятых годах Хлебников опять открыл торговлю в Апраксином рынке и здесь, вместе с книгами, начал торговать и нотами, которых ему удалось купить в одном нотном магазине очень большую партию на вес; а в начале 1883 года, незадолго перед смертью, он прикончил совсем торговлю на Невском проспекте, где торговал с ларя на Казанском мосту.
Хлебников, вероятно, мог бы и еще лучше вести свое дело, но он очень предавался спиртным напиткам. Смолоду он пил почти ежедневно, но вино на него мало действовало, он не терял энергии: частенько случаюсь, что он вечером бывал совершенно в ненормальном состоянии, а утром, в пять-шесть часов, принимался уже за какую-нибудь работу; но затем он стал пить запоем и в то время не выходил уже торговать.
Но все-таки, несмотря на такую слабость, он составил довольно солидный капитал и купил несколько небольших домов на Петербургской стороне.
Посте его смерти весь товар в лавке и в кладовых продавался с аукциона. Торговаться приходили все книжники, но они не согласились между собою, и все книги приобретены были гостинодворским игрушечником Соколовым [252]252
Соколов Яков Аверьянович – книгопродавец 1890-х гг.
[Закрыть], который через эту покупку теперь сделался довольно видным книгопродавцем.
Земляк и товарищ Хлебникова. Владимир Владимирович Лепехин, более всего любил торговать учебниками. Целый год он скупал учебники и приберегал их до того времени, когда начинали открываться классы. Тогда у него, по его же выражению, начиналась жатва: в августе и сентябре он почти ежедневно торговал на пятьдесят и семьдесят рублей в день. Лепехин был так стоек, что ни в какую погоду не отходил от ларя – тут и обедал, тут и чай пил, но впоследствии, получив ревматизм, он принужден был расстаться с ларем и передал его со всем товаром другому букинисту, а сам открыл лавку в Думской улице, где начал производить торговлю преимущественно новыми книгами, которые скупал, иногда один, а иногда в компании, целыми изданиями; а затем начал уже и сам издавать разные сочинения. Последние десять лет Лепехин имел кладовую в Апраксином рынке и распродавал свои издания и другие оставшиеся у него книги. Тут его покупателями были только торговцы.
Лепехин был человек очень расчетливый, но вместе с тем очень честный и справедливый. Он умер в декабре 1895 года и после смерти оставил, кроме капитала в несколько десятков тысяч и дач на Удельной станции, до пятидесяти собственных изданий с правами на них и большое количество разнообразных книг, которые купил его сосед, книгопродавец Нарышкин, за три тысячи рублей.
В шестидесятых и семидесятых годах у Думы, сначала на ларе, а потом в маленькой лавочке в серебряном ряду торговал книгами бывший букинист-мешочник Сергей Васильев, иначе называемый прочими книжниками Дяденькою и Пихлером; почему его звали Дяденькою, не могу сказать, но прозвание Пихлер он получил потому, что, большею частью, как и тот [253]253
Пихлер Алоизий – капеллан и лектор Мюнхенского университета, доктор богословия Приехал в Петербург в 1869 г. по приглашению русского правительства и был зачислен сверхштатным библиотекарем Императорской публичной библиотеки. Систематически крал книги, выносил их под пальто. В 1871 г. преступление было раскрыто. Пихлер был присужден к ссылке в Тобольскую губернию, но по ходатайству баварского правительства выслан за границу.
[Закрыть], ходил в крылатке и под ней прятал пачки с книгами. Из всех книжников Дяденька один держал себя особняком и, исключая торгов на места, не вступал с прочими ни в какие сделки.
Сначала он торговал, как и прочие букинисты, подержанными и вообще случайными книгами, но потом мало-помалу начал приучать к себе разную молодежь, которая стала носить к нему новые издания. На таком видном месте, где он торговал, заниматься таким делом было неудобно, и у него для этих операций был приспособлен один невзрачный трактир, куда его клиенты приносили книги и оставляли слуге, а последний передавал Дяденьке. Но все-таки шила в мешке утаить было невозможно, и Дяденька был привлечен к ответственности, хотя по суду его оправдали на первый раз, но общее мнение о нем было не в его пользу. Тогда он, опасаясь, чтобы его проделки впредь не открылись, с Невского проспекта перебрался торговать в Александровский рынок.
В рынке у него, по Садовой улице, была маленькая лавочка, и Дяденька открывал ее постоянно ранее всех других торговцев. Проживая близ этого места несколько лет, я имел обыкновение каждое утро в 7 часов ходить в трактир пить чай мимо его лавки и всегда видел ее открытою; Дяденька иногда что-нибудь перебирал в ней, увязывал, а иногда прикрывал стеклянные двери и, бог весть куда, уходил. Здесь также он был привлечен к суду, и хотя очень искусно вел свои дела и умел оправдываться, но все-таки один раз был осужден за нелегальную покупку на месяц под арест.
Дяденька умер года четыре тому назад. В последнее время он торговал уже по Невскому проспекту между Литейным проспектом и Надеждинской улицей.
Я упомянул о Сергее Васильеве и его неблаговидной деятельности не потому, чтобы он был единственно исключительный производитель темного товара (такою торговлею не брезговали, да, по всей вероятности, и сейчас не брезгуют и другие, более его солидные торговцы), а потому, что Сергей Васильев просто имел манию к такой торговле и к другим плутовским поступкам, наживал же от всего этого, сравнительно с прочими торговцами, пустяки; от этого, наверное, более пользовались те, кому он перепродавал товар.
После Сергея Васильева я нахожу уместным сказать несколько слов о торговле братьев Доновых.
Доновы, имевшие ларь на Полицейском мосту, преимущественно занимались торговлею газетами. Старший из них, Михаил Константинович, раньше был разносчиком «Полицейских ведомостей» [254]254
То есть «Ведомостей С.-Петербургской городской полиции».
[Закрыть]. Когда редакции получили разрешение продавать свои издания отдельными нумерами, то первый за эту торговлю принялся М. В. Попов; его примеру последовал и Донов. Купив место для ларя, Донов, вместе с газетами, начал производить и книжную торговлю. Хотя в книгах он имел мало понятия или, вернее, никакого не имел, но все-таки дела его шли недурно, потому что газеты и журналы давали очень хороший барыш.
В то время газеты из редакций отпускались на комиссию обандероленные, и непроданные экземпляры принимались обратно. Ежедневные издания редакции отпускали по 5 коп. за нумер, а еженедельные, как-то: «Искру», «Будильник» и др., по 12 коп., торговцы же первые из них продавали по 10, а последние по 20 коп. У Донова расходилось всех газет и журналов каждый день до 150 нумеров, что и доставляло ему пользы от 7 до 8 рублей.
Видя такие успешные дела, Донов в скором времени открыл еще два ларя, один тоже на Полицейском, а другой на Пантелеймоновском мостах, и порядком стал развивать книжное дело; но, не имея практического знания в этом деле, не мог его вести так, как прочие букинисты. Притом же к этому времени и газетная торговля стала приносить несравненно меньшую пользу: у него появилось много конкурентов по этой торговле. Прочие букинисты также начали торговать газетами, а разносчики с ними стали появляться уже на всех углах главных улиц и продавать их дешевле прежнего. Кроме того, места для торговли с каждым годом возвышались в цене, а сам Донов повет жизнь довольно слабую, почему в начале семидесятых годов он и принужден был совсем прекратить торговлю. Младший его брат около этого времени умер.
Впоследствии Донов сделался золоторотцем и торговал книжечками по трактирам.
Всех букинистов, торговавших на ларях, перечислять излишне, но все-таки нужно заметить, что и из прочих большинство знали хорошо книжное дело и умели его вести. Особенно удачно шли дела у Андрея Семенова, Клочкова и Н. И. Герасимова: первые два торговали на Аничковом мосту, а последний на Симеоновском. Затем следует упомянуть о теперешнем старосте артели газетчиков, П. Б. Богданове, который хотя не из книжников и мало имеет знания в книгах, но обладает особенною смекалкою и ведет книжное дело энергичнее и выгоднее многих старых торговцев.
Но здесь я остановлюсь. В этой статье я говорил только о книжниках, уже покончивших свою деятельность, а о тех, которые продолжают ее до настоящего времени, я поговорю в следующий раз [255]255
Этот свой замысел Свешников не реализовал.
[Закрыть].
В 1884 году городская управа прекратила продажу мест для торговли по Невскому проспекту и в других многолюдных улицах, вследствие чего букинисты и принуждены были искать помещение в частных домах. Теперь они расплодились в разных местах, но главный центр их торговли – Литейный и Владимирский проспекты и Симеоновская улица.







