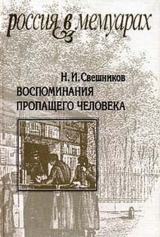
Текст книги "Воспоминания пропащего человека"
Автор книги: Николай Лесков
Соавторы: Абрам Рейтблат,Николай Свешников
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 25 страниц)
Редко случалось, чтобы у нас в квартире было тихо; особенно при получках и во время праздников происходил такой содом, что описать трудно.
Исключая своих жильцов, к Степанычу ходило много постороннего народа, то выпить, то с закладами, а потому в праздники в квартире у нас народ толпился, точно в кабаке на ярмарке, с тою только разницею, что там хотя и шумно, но нет такого безобразия и наглого цинизма.
Особенно отличались у нас выходящим из ряда безобразием дни Пасхи и Рождества Христова.
Уже накануне этих праздников не было ни одного трезвого человека, а в самые праздники попойки начинались с раннего утра. Где ни посмотришь – на столе, на нарах, везде стоят сороковки: квартиранты в самом неприглядном дезабилье ораторствуют, поют песни, пляшут. По мере того как хмель начинает кружить головы, собеседники делаются, судя по характеру, или дружелюбнее, или ожесточеннее – в одном углу целуются, а в другом – уже схватились драться, причем как те, так и другие орут во всю мочь.
Ни один праздник не проходил без большого скандала, нередко бывали довольно крупные драки, причем противники не щадили друг друга: белье и одежда летели клочьями, носы разбивались в кровь, под глазами навешивались фонари; но эти наружные украшения являлись только придатками к тому, что попадало в грудь и в бока. Бабы, большею частью, старались вцепляться в бороды. Иногда эти драки отзывались тяжелыми последствиями для здоровья участников, которых приходилось отправлять в больницу.
Но не только в праздники у нас бывали побоища, и не одни пьяные затевали драки. Сам хозяин на свою руку охулки тоже не клал, особенно когда страдали его интересы. Вот один из примеров его расправы с виноватым пред ним человеком.
Один из корзинщиков Вяземского дома заложил Степанычу за рубль и за сороковку сапоги, с условием при выкупе заплатить двадцать копеек процентов. Не имея чем выкупить, он захотел их продать и для этой цели привел с собою двух барышников, надеясь выкупить сапоги и дополучить с них на похмелье. Дело не сладилось: с барышниками он не сторговался и сапоги остались у Степаныча. В это время Степаныч и хозяйка куда-то отвернулись, а корзинщик, видя, что за ним никто не смотрит, схватил сапоги и удрал. Хватились сапогов и побежали разыскивать. Корзинщика поймали на дворе, но сапогов при нем уже не было – он успел их кому-то передать. Тогда Степаныч с женою притащили корзинщика в квартиру.
– Где сапоги?
– Я не знаю. – отвечал корзинщик. – Я не брал. Утащили, должно быть, барышники.
– Как барышники? Ты, такой-сякой, утащил! Снимай пальто! – кричал Степаныч.
Овладев пальто, Степаныч схватил корзинщика за волосы, повалил на нары и начал бить сперва кулаками, а потом сбросил его на пол и продолжал топтать ногами. Тут только я вспомнил его слова: «Я бить не буду по рылу. А я сделаю тепленьким и мякеньким; будет помнить, как начнет кашлять».
Степаныч бил несчастного воришку в грудь каблуками. Тот просил прощения, плакал, обещался заплатить, но Степаныч не унимался и бил до тех пор, пока измучился.
Место его заступила хозяйка. Хотя она и очень здоровая баба, но скоро устала и отбила себе руки. Тогда она схватила железный прут и, несмотря ни на просьбы, ни на моленья, ни на стоны несчастного, била его этим прутом, пока совсем не измучилась.
Более получаса продолжалось истязание. Хозяин и хозяйка по нескольку раз принимались бить корзинщика и до того остервенились, что страшно было на них смотреть.
Более полувека я прожил, видал много злых, безжалостных людей: видал, как бьют мазурики, видал, как бьют арестанты, но никогда не приходилось мне видеть, чтобы женщина могла до такой степени рассвирепеть.
Но на что всего прискорбнее и возмутительнее было смотреть, так это на одиннадцатилетнего сына этих достойных родителей. Все время, пока продолжалось истязание несчастного, мальчишка стоял с толстым наметельником и беспрестанно совал его то отцу, то матери в руки.
– Вот папа, вот мама, – кричал мальчишка, – вот чем его надо бить, мазурика! Вот этим его лучше проберешь, а то руками-то его бить только измучишься.
На что зачерствелые сердца были у наших жильцов, но и из них многие уходили, отвертывались, зажимали уши, чтобы не видеть и не слышать этого побоища. Никто из нас не осмелился в это время сказать ни единого слова разъяренным хозяевам, потому что большая половина квартирантов находилась в полной зависимости от них, а независимые – слабосильны и боятся за свою шкуру.
Наконец несчастного выбросили за дверь в одной рубашке. Как он добрался к себе, я не знаю.
– Ну, уж досталось же ему, – говорил Степаныч, – не пропадай мое даром. Теперь сыт будет. Пожалуй, и не миновать больницы. Вот так-то лучше, а то, что тут, веди в участок, да после путайся с ним, ходи к мировым; а нонче суд-то каков… – и он только махнул рукой.
Впрочем, подобные побоища в этом доме были не редкость, и в нашей квартире они случались не в первый раз; бывало, иной после драки уходил в больницу и уже более не возвращался.
Это последнее время моего пребывания в Вяземском доме я вел себя так же очень слабо, как и прежде: случалось так, что недели по две и более я пьянствовал и пропивал с себя все до последней нитки. Но я еще не погряз совсем, и мне крайне надоела эта беспутная жизнь. Я постоянно искал случая вырваться из трущобы и изменить свое положение. Конечно, это легко можно было сделать это зависело от меня самого; но я, при всем желании, не мог совладать с своею слабостью и взять себя в руки.
Я давно имел мысль сделаться книгоношею – торговать мелкими книгами в провинции. И мне хотелось торговать не теми книгами, которыми обыкновенно торгуют владимирские офени. Я желал разносить издания Святейшего Синода, Общества распространения религиозно-нравственного просвещения, Комитета грамотности и другие популярные, но полезные книги. Я сознавал, что от этой торговли не может быть большой выгоды, но мне хотелось попробовать провести это полезное, по моему понятию, дело в провинции.
Я многим высказывал об этом моем желании, и все его одобряли. Но у меня не было средств осуществить мою мысль, а мои знакомые опасались помочь мне в этом предприятии. Да оно и понятно: люди, знавшие всю мою жизнь, знавшие мою слабость, хотя и верили в искренность моего желания, но все-таки должны были предполагать, что я и на этом деле не устою твердо. Да я и сам за себя крепко ручаться не мог; мне только думалось, что при этом занятии я был бы вдали от тех случайностей, которые так часто заставляли меня искать утешения в чарке.
Наконец для меня случайно мелькнула надежда осуществить мое желание. Накануне праздника Пасхи меня посетили в Вяземском доме три господина: Потапенко, Сергеенко и Минский [185]185
Потапенко Игнатий Николаевич (1860–1929). известный прозаик, друг А. П. Чехова. Сергеенко Петр Алексеевич (1854–1930) журналист и беллетрист, одно время близкий к Л. Н. Толстому. Минский Николай Максимович (настоящая фамилия – Виленкин) (1855–1937) – поэт, популярный в 1880–1890-х гг.
[Закрыть]. Они меня раньше не знали, обо мне им сообщил Канаев, и интересовались они совсем не мною, а тою трущобою, в которой я жил. Но все-таки они знали о моем положении и на праздник принесли мне довольно приличный костюм, который я и носил все лето.
Из этих господ дружелюбнее других отнесся ко мне Сергеенко. Я, между прочим, высказал ему о своем желании бросить трущобу и идти в провинцию торговать книгами. Он принял это, по-видимому, к сердцу и пообещал помочь выполнить мое желание. Через неделю Сергеенко сообщил мне, что моему предприятию сочувствует и Потапенко, и даже предлагает чрез его посредство снабдить меня нужным для этого товаром из склада «Посредник». Это было совершенно верно. Потапенко, по словам Сергеенко, в день своего отъезда за границу написал письмо Эртелю [186]186
Эртель Александр Иванович (1855–1908) – видный беллетрист народнического направления.
[Закрыть]и просил его выдать мне квитанцию на получение товара из склада.
Но я не дождался этой квитанции и в конце дня уехал в Углич, попросив моего племянника получить назначенную мне квитанцию, набрать по ней народного товару и выслать мне на родину.
Но этому не суждено было осуществиться: впоследствии оказалось, что никакой квитанции на мое имя не было.
Я поспешил в Углич потому, что мне хотелось посмотреть там на торжество освящения вновь реставрированного дворца царевича Димитрия.
Я приехал туда за день до торжества и был поражен чистотою города и какою-то суетливою деятельностью наших граждан. К этому дню ожидали прибытия великого князя Сергея Александровича [187]187
Сергей Александрович, великий князь (1857–1906) – московский генерал-губернатор в 1891–1905 гг.
[Закрыть], ярославского губернатора, архиепископа [188]188
Эти посты занимали, соответственно, Алексей Яковлевич Фриде (1836–1896) и Ионафан (Иван Наумович Руднев, 1818–1906).
[Закрыть]и других почетных гостей.
Можно сказать, что с самого начала своего существования Углич никогда так не украшался и не чистился, как украсился к этому дню. Постоянно мусорный и в последние десятки лет какой-то полуразрушенный, он на этот раз был неузнаваем. Все церкви, торговые ряды, дома и заборы были починены и выкрашены; тротуары исправлены, улицы выметены и везде насыпан был песок. Работа всюду так и кипела, и положительно не хватало рук, хотя на это время разных мастеров, как-то: штукатуров, маляров и прочих, понаехало более чем вдвое против других городов. За городским рыжишником оборвали почти все кусты черники и брусники, чтобы наделать венков и гирлянд для украшения домов. Все домовладельцы запаслись флагами, более богатые – выписали их из Петербурга, а беднякам их выдала городская управа. Ученики городских училищ в первый раз еще облечены были в форму и в фуражки с вензелями. Девочки и приютские дети также были одеты в новые костюмы.
Целых три дня происходили репетиции. По лестнице, от пароходной пристани, устроенной на этот раз против дворца, расставляли детей – учили их приветствовать высоких гостей, бросать им под ноги цветы и петь гимны. На площади между собором и городскою управой выезжали экипажи, которые должны были участвовать в церемонии. Тут были коляски, кареты и пролетки, запряженные одною, двумя и тремя лошадьми. Около этих экипажей на резвом иноходце гарцевал г. Троянов. Это был очень ловкий и красивый господин из военных, в турецкую кампанию служивший под начальством Скобелева, а теперь занимавший должность акцизного чиновника и, вместе с тем, состоявший в нашем городе устроителем и распорядителем всех церемонии, спектаклей и т. п. Троянов по нумерам выкрикивал кучеров и указывал каждому, где он должен занять место во время церемонии. Затем он несколько раз быстрой рысью пропускал экипажи, а собравшуюся толпу заставлял махать шапками и как можно громче кричать «ура». Тут же на площади расставляли охрану, состоявшую из граждан Углича, волостных старшин и крестьян; последние разделялись на две категории – одни были почетные, т. е. те почтенные зажиточные мужички, которые шли в охрану бесплатно, а другие назывались рублевые, так как нанимались от земства по рублю.
Одним словом, угличане выбивались из сил, как бы роскошнее и торжественнее встретить высоких гостей и провести этот многозначительный для них день.
Я не буду описывать самого торжества потому, что о нем уже писали во многих газетах наезжавшие тогда корреспонденты, и даже вся церемония воспроизведена была в рисунках. Но все-таки следует сказать, что торжество было вполне удачно, даже величественно. Не знаю, какое впечатление вынесли посторонние люди, приехавшие на этот праздник, что же касается угличан, то они были, что называется, в восторге от своего праздника.
Теперь я перейду к тому, как я провел это лето на родине и что мне удалось узнать и увидать в провинции.
Я уже говорил, что у меня на родине не было никого близких, кроме мачехи и ее зятя-вдовца. Но последнего я до этого года совершенно не знал, потому что в то время, когда я жил в упомянутом выше «Батуме», мне было совестно заявлять ему о своей личности. На этот же раз, когда я приехал, как настоящий питеряк, в приличном костюме, я не преминул ему отрекомендоваться, и мы с ним скоро сошлись, даже побратались.
Этот мой зять – живописец: он держит несколько человек мастеровых и занимается преимущественно работами по церквам. В это время работы у него производились в уезде, там же находилась и моя мачеха, исправляя у него должность хозяйки.
На день торжества она также приезжала в Углич, а на другой день пригласила меня погостить к ним в село Никольское, чему, конечно, я был очень рад, потому что на самом деле мне в Угличе проживать было негде.
Село Никольское, или, как его иначе называют, Николы Мокрого, находится в двадцати верстах от Углича, в стороне от большой Ярославской дороги. Оно расположено не в особенно благоприятной местности – кругом его места лесистые и болотистые. Но мне, после трехлетнего пребывания в столице, где я жил преимущественно в грязных и вонючих квартирах, здесь очень понравитесь.
В первые дни я много гулял по полям и ходил на речку купаться, но затем мне вздумалось ознакомиться и с самым селом.
Село Никольское прежде принадлежало к Юхотской вотчине графа Шереметева. Оно не особенно большое, в нем считается с небольшим тридцать дворов крестьянских, и в прежнее время, несмотря на то, что у крестьян было несравненно более земли, а графский оброк не доходил и до шести рублей с души, село это, по словам стариков, только и славилось одною церковью, крестьяне же жили так себе, посредственно; не было таких богачей, какие были в других селах и деревнях этой волости.
В настоящее время село это процветает. В нем находятся канцелярия и квартира станового пристава, почтовое отделение, волостное правление и волостной суд и довольно большое двухклассное училище. В нем есть два трактира и четыре лавки. Но торговый народ преимущественно пришлый, и можно сказать, что только этот торговый народ и богатеет, остальные же крестьяне и теперь живут вообще небогато. С приливом народа хотя цивилизация и коснулась несколько этого села, но выразилось это только подражанием моде. Никольское можно теперь считать как бы уголком провинциального города. В нем уже не встретишь серого мужичка: все ходят в пиджаках и в пальто, а женщины еще более подражают городской моде.
Год тому назад в Никольском был большой пожар. Сгорело более тридцати домов. Пожар этот случился от поджога, который учинил свой же односельчанин за то, что общество за прежние его – далеко не благовидные и вредные – проделки грозило выслать его на поселение. Впрочем, когда я там жил, со времени пожара хотя и истекало пять месяцев, но дело это еще не разбиралось, и суд не установил виновности поджигателя. – он содержался еще под предварительным арестом.
Несмотря на то, что, по рассказам очевидцев, пожар был ужасный, – у многих сгорело не только все имущество и вся домашняя птица и скот, но были и человеческие жертвы: сгорели четыре человека, – все-таки пожар этот, как крестьянам, так и другим погорельцам, не принес большого убытка. Помимо того, что погорельцы получили страховые и пособие от казны по 15 рублей на дом, к ним еще со всех сторон стекались частные пожертвования как деньгами, так и имуществом.
Надо сказать, что в старые годы Юхотская Шереметевская вотчина ставилась богачами, преимущественно торговцами в Петербурге и в Москве (да и теперь еще очень многие из них имеют там большие заведения), и потому погорельцы, главным образом, и направили свои просьбы к землякам. Подаяния были щедрые. Присылали не только деньгами, но и одеждой и разным домашним скарбом. Все погорельцы повыстроили дома гораздо лучше тех, которые у них сгорели. Но, кроме того, мужички сами признавались, что на те же подаянные деньги они почти все лето гуляли.
Эти пожертвования, быть может, и еще бы увеличились, если бы мужички вели себя поскромнее – поменьше гуляли на пожертвованные деньги, а другие лица не пересаливали бы в своих просьбах.
Не имея в Никольском никаких занятий, я также часто заходил на кладбище, – перечитывал и записывал интересовавшие меня надписи на памятниках. Все эти надписи, как я мог заметить воспроизводились в пятидесятых и в начале шестидесятых годов, как будто в то время на них существовала мода, а раньше и позже этого времени некому было их писать. Для примера приведу некоторые из записанных мною эпитафии:
1) Сей камень Вечной,
над могилой положен
От Жалости Сердечной
Родных и Всех друзей
Девица Колкунова 37 лет скон. 66 г.
2) Супруга иерея Александра,
се памятник печальн
сокрыта здесь в земле
Екатерина его достойная
жена ума и сердца в ней
доброты сполна силно
угоден богу тот кто
жил так как она.
Постой заплачь дитя
се Катенька лежит
чувствительный супруг
здесь прах ее сокрыл,
с надеждою отрад в ней
на веки схоронил
и с смертию ее к нему
смерть его бежит.
Увы! прочтя сие
кто трогаться не станет
чье сердце не вздохнет
и чья слеза не капнет
Ты Катя оставя супруга и детей на 50 году на небо переселилась к создателю твоему природы всей прожив со мною 32 лета на век сокрылась в 27 день августа 1858 года.
3) Здесь лежит дражайшая детям мать
которую нам до общего воскресения не видать
ставим памятник сей не для сего украшения
и просим Бога о душе ее прощенья
почто же и мы сей участи смертной не страшимся
по времени и сами в той же гроб вселимся
сей памятник воздвигнут любящими детьми ее.
Акилина Табунный скон. в 1852 г.
(Орфография подлинников [189]189
В данной публикации сохранена не полностью.
[Закрыть].)
У меня записано и еще несколько подобных эпитафий, но полагаю, что для примера и этих довольно.
Хотя в Никольском есть и достаточно образованные люди, как, например, становой пристав, почтмейстер, два учителя, два молодых священника и два диакона, но мне с ними не пришлось хорошо познакомиться и сойтись. Да я и вообще мало с кем сходился, мало бывал и в компании, но не могу умолчать, что в этом селе привлек мое внимание простой мужик-трактирщик Ф. С. Маз-в.
Маз-в уроженец не тамошний, он тоже заезжий человек в этом селе, как и прочие торговцы, но он проживает здесь более тридцати лет и давно уже сделался общественником этого села.
Несмотря на то, что весь свой век он провел за стойкой и этим составил себе капитал, все-таки он сохранит в себе настолько доброты и честности, что заслужил уважение и почет почти всей волости и всех знающих его людей. Хотя торговля водкою и составляет его промысел, но он не только никогда и никого не втравлял в пьянство, а даже удерживал крестьян от него. Нередко случалось, что он от загулявшего мужика отбирал имевшиеся у него деньги и тут же посылал за его бабой, которой и передавал их. Кроме того, к Маз-ву прибегает почти вся беднота за одолжением, и он, почти никогда не отказывая, ссужает под обеспечение или просто на слово и не берет ни с кого никаких процентов. Человек он необразованный, но грамотный и любитель просвещения: все свободное время он проводит за книгами или за газетами, а детей своих обучает в гимназии. Это единственный кулак, которого мне пришлось встретить, сохранивший в себе совесть и добрую душу. И я о нем вывожу не собственное свое мнение, а общий голос, именно то, что слышал от всех знающих его людей.
Мой зять по своим делам часто ездил в Углич и по другим селам нашего уезда. Я почти постоянно сопровождал его в этих поездках, и они мне доставляли большое развлечение потому, что я мог видеть новые места, новых людей и хотя отчасти знакомиться с ними.
В Углич мы приезжали обыкновенно ненадолго – только за покупками материалов или по другой какой надобности, а потому о своем родном городе мне теперь писать нечего. В жизни его, по окончании торжеств, мало что изменилось: пошла такая же спячка, как и прежде, только ожидание страшной азиатской гостьи [190]190
то есть холеры.
[Закрыть]заставило угличан еще несколько почиститься. К торжеству они чистились снаружи, а теперь пришлось очищать и внутри.
Некоторым нашим гражданам, привыкшим уже к родной грязи, это казалось излишним. «Это доктора все выдумывают, – говорили они, – им делать нечего, много уж их больно, а служить-то негде, вот они и выдумали холеру. А по-нашему, ежели бог не попустит, так никогда ничего не будет, а ежели посылает господь что за грехи наши, так уж никакой санитарией не убережешься». Но немного было у нас людей с такими понятиями, – большинство признавало пользу санитарии и других убеждало ее придерживаться.
Но здесь, может быть, нелишним будет упомянуть, что у нас, в Угличе, во вновь реставрированном дворце царевича Димитрия устраивается, по примеру Ростова, музей церковных и исторических древностей, и это обстоятельство породило новый тип барышников. Я знаю человек пять и более, которые оставили свои прежние торговые занятия и принялись исключительно отыскивать антики. Эти античники скупают все, начиная с древних икон, рукописей и кончая битыми изразцами и поломанными старыми прялками. Некоторые из них не ограничиваются одною нашею местностью, но разъезжают отыскивать старинные вещи и по другим городам. И действительно, им попадаются иногда довольно редкие предметы, но вместе с тем они зачастую приобретают и такой хлам, какой в Петербурге на развалке ни во что не ценится. Впрочем, у них на все находятся покупатели – часть своих товаров они продают тут же для музея, а прочее сбывают в Ростов или в Москву.
Средства нашего музея еще очень скудны, а потому коллекция находящихся в нем предметов невелика и небогата: если и можно в нем встретить ценные и редкие вещички, то все они дарственные.
В уезде нам чаще, чем в других местах, приходилось бывать в селе Большом Ильинском.
Село это находится на большой дороге, идущей из Углича в Ростов. Оно хотя и называется большим, но на самом деле очень невелико: в нем считается только 22 двора. Но в нем есть почтовое отделение, волостное управление, двухклассное училище и богатая церковь, при которой три священника. В нем есть также несколько трактиров и других торговых заведений, а по воскресеньям бывает порядочный базар.
Село это, несмотря на малочисленность его коренных обывателей, довольно богатое как по постройкам, так и по тому, что из числа его крестьян есть не только люди состоятельные, но и капиталисты.
Впрочем, не одно это село, но и вся Ильинская волость считается богатою, и народ в ней, так же как и в Юхотчине, достаточно просвещенный. Крестьяне этой волости живут преимущественно на стороне, кто в Москве, кто в Петербурге и почти исключительно торговцы – овощенники, мелочники, мясники и эеленщики.
В Ильинском мы постоянно останавливались у трактирщика Р.К. Г-ва, о котором я уже упоминал в описании моего этапа. На этот раз мне пришлось поближе познакомиться с этим деловым и предприимчивым человеком.
Г-в уроженец не этого села, а из деревни, отстоящей от него верстах в трех. В молодости своей он жил в Петербурге в овощной лавке и скопил там небольшие деньжонки. Приехав на родину в начале шестидесятых годов, т. е. в то самое время, когда кончилась откупная система, он открыл в Ильинском питейное заведение. В то время патенты на торговлю питиями были дешевые, да и водка – также; к тому же и торговля ею велась совершенно бесконтрольно, а потому в скором времени Г-в порядком разбогател от этой торговли.
Через несколько времени он приписался в Ильинское общество и взял себе надел земли. Но не надел его прельщал, ему хотелось иметь голос в селе и сделаться в нем и во всей волости заправилою. Действительно, в скором времени его стали избирать на разные общественные должности, и, наконец, он попал в волостные старшины. В старшинах он прослужил, как сам мне рассказывал, тринадцать лет; да, может быть, служил бы и сейчас, если бы не новое положение, по которому торгующие питиями теперь не могут быть избираемы на общественные должности.
В Ильинском, около самого церковного погоста, было очень топкое место – настоящее болото. Г-в, как семейный мужик, облюбовал это место и выпросил его у общества в свою собственность в обмен того надела, который он имел. Крестьяне были рады, что он им отдает свою удобную пахотную и сенокосную землю и берет от них болото. Но Г-в хорошо знал, что делал. Он прежде всего выкопал большой пруд и спустил в него разлившуюся по всей местности воду, а эту местность стал заваливать щебнем и разным мусором с песком, и в скором времени здесь образовалась очень большая и ровная площадь Так как это место прилегает почти к самой церковной ограде, у которой в базарные дни располагались все торговцы, то Г-в на своем месте устроил питейное заведение и трактир, а затем открыл и лавку, в которой продаются всевозможные товары; в проезде же, против церковной ограды, Г-в выстроил торговые ряды в виде крепких и просторных помещений. Купцы, наезжающие из Углича в Ильинское торговать, наняли у него эти помещения, потому что они в самом деле лучше и удобнее тех деревянных навесов, которые они прежде нанимали от церкви. Тут можно поместить товару несравненно больше, а иной тяжелый товар, как, например, соль и т. п., можно оставлять до следующего базара.
Через это удобство базары в Ильинском стали улучшаться, да и самое село стало процветать. Г-в нажил солидный капитал. Ему валились деньги отовсюду – и от общественных должностей, которые он занимал, и от аренды за свои помещения, и от собственной торговли. Теперь на том месте, где было болото, у Г-ва красуется очень большой двухэтажный дом, в котором помешаются овощенная и мелочная лавка, нисколько не уступающая столичным, довольно просторный и не грязный трактир с садом, а далее понастроены флигеля, в одном из которых находится этапный дом и разные службы, а между всеми этими постройками, вокруг того пруда, в который он спустил воду из болота, разведен очень недурной сад; в упомянутом же проезде, против церковной ограды, он теперь возводит уже каменные торговые ряды.
Впрочем, несмотря на ум и предприимчивость, в Г-ве все-таки виден кулак: он при всяком удобном случае готов пользоваться обстоятельствами и, не выходя из границ законности, способен прижать всякого. Если ему и приходится делать что-либо полезное и доброе для других, то и это он старается сделать с заднею мыслью – или из тщеславия, или из-за того, чтобы впоследствии получить пользу.
Рядом с селом Ильинским, чрез небольшой ручей, находится земля крестьянина-собственника М-на.
М-н родился в нищете: мальчишкою он нанимался на лето в подпаски, зимою ходил по миру, а в молодости был что-то вроде прислужника при Ильинской церкви и, поручившись от кого-то серебрению риз на иконы, занимался и этими поделками. Мастер он, говорят, был очень плохой, но зато обладал способностью угодить и прислужить каждому человеку.
Лет пятнадцать и более назад по Ильинской волости славился как своим богатством, так и влиянием крестьянин села Воскресенского-Поречья, известный в Петербурге придворный поставщик – царек, как его называли, всех мелочников [191]191
Имевший в столице более шестидесяти мелочных лавок, кабаков и других торговых введений.(прим. автора).
[Закрыть]– Филимон Кирсанович Соколов. Где и при каких обстоятельствах удалось М-ну подвернуться на глаза этому богачу, я достоверно не знаю, но только Соколов заметил в нем способности не мастерового, а ловкого торговца и, взяв к себе в Петербург, поставит буфетчиком в одном из своих многочисленных заведений.
Но не всегда бывает способен в столице тот, кто в деревне считается деловым человеком: тут мало одной ловкости и услужливости, а нужно быть еще и специалистом – иметь опыт в деле. Так случилось и с М-ным. Он, несмотря на свою расторопность, не мог исправлять возложенного на него дела. Но все-таки он не потерял ни доверия, ни расположения своего хозяина, и последний мог ему только сказать: «Ты, брат, здесь не годишься, а поезжай-ка опять в деревню, я у себя в селе открою тебе кабак».
Опытный Соколов не ошибся. М-н в деревне действительно сделался настолько ловким торговцем, что сумел опутать и своего хозяина. Торговал он в селе довольно порядочно, но так, что хозяин для себя пользы не видел, а потому и предложил ему приобрести открытое им заведение, с условною выплатою, в собственность. М-ну только это и нужно было. Но его средства были невелики притом же ему следовало платить по условию, а между тем, во что бы ни стало, ему хотелось быть капиталистом. Для достижения своей цели М-н не был разборчив на средства и прежде всего подделался к одной пожилой вдове, у которой было тысячи три рублей, и женился на ней. Имея в своих руках женины деньги, он, зная по опыту, что в Ильинском на большой дороге дело вести будет гораздо выгоднее, чем в Воскресенском, купил себе рядом с селом пустую и неудобную землю и выстроил на ней большой дом, в котором, по примеру Г-ва, открыл трактир и лавку.
Первое время он жил с женою хорошо, был очень ласков и уважителен и, вместе с тем, сошелся также и с ее братом, у которого тоже был капиталец в тысячи две рублей. Он задумал воспользоваться и его капиталом и для этого предложил ему сделаться компаньоном в своих предприятиях, конечно, по-родственному – на слово, без всяких формальных условий. Родственник был недальновиден и, поверив М-ну, как близкому человеку, вручил ему весь имевшийся у него капитал.
Забрав у жены и от шурина деньги и укрепив все имение за собою, М-н не сразу, а постепенно начал к ним охладевать и придираться, а затем чрез несколько времени совершенно отстранил их от всякого вмешательства в свое хозяйство. Наконец он довел дело до того, что шурина совсем не стал принимать к себе, жену выжил из дома, дав ей небольшую избушку на задворках, а сам завел любовницу.
Теперь М-н ведет свои дела отлично. В трактире и в лавке он торгует недурно и, кроме того, через дорогу, против своего дома, на имеющейся у него там земле, выстроил еще большой дом, который приносит ему также хороший доход, потому что в нем находится почтовое отделение и квартиры почтмейстера и земского врача.
Как торговец, он замечательно подделистый человек, – знает, как кому уважить, как с кем обращаться, даже нищих – и тех он умеет завлекать к себе.
В начале июля мой зять отправил часть своих мастеров на работу в село Губачево и просил меня ехать с ними для присмотра. Губачево находится в сорока верстах от Углича и немного в стороне от большой Ростовской дороги. Село это довольно порядочное, в нем 60 дворов, и расположены они на четыре посада вокруг церковного погоста. Все строения хотя и не отличаются красотою, но зато просторны и прочны: здесь я не видал ни одной обветшалой или покосившейся избушки. Местность вокруг села очень красивая и здоровая, высокая, гористая и лесистая. Жители села мне тоже очень понравились: здесь еще сохранилась старинная русская патриархальность и простота. Крестьяне от старого до малого вообще почтительны, скромны и добродушны. С каким-то особенным удовольствием я всегда смотрел на детей, которые при встрече с взрослыми, хотя бы и совершенно незнакомыми, непременно снимут шапку и поклонятся. Это мне напоминало то старое время, когда я был маленьким и у нас в Угличе заставляли детей отдавать почтение старшим.
В двух или в трех верстах от Губачева, за большою дорогою, есть деревня Кожлево, и в этой деревне находится довольно богатая лавка купца-крестьянина В. М. Щер-ва. Мне не раз приходилось там бывать за разными покупками и, между прочим, познакомиться с деятельностью этого предприимчивого и сметливого человека.








