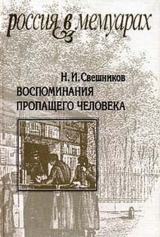
Текст книги "Воспоминания пропащего человека"
Автор книги: Николай Лесков
Соавторы: Абрам Рейтблат,Николай Свешников
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 25 страниц)
Я не стал дожидаться бесплатного проезда и через два дня уехал из Бургаса на вольном пароходе, заплатив за проезд 15 рублей золотом. Переночевав в Одессе, я на другой же день отправился в Петербург и отчасти вернул свои дорожные расходы, выиграв в стуколку у проезжавших с харьковской ярмарки торговцев 50 рублей.
В Петербург я привез около 500 рублей кредитными и золотом и, кроме того, множество белья и разных вещей. Здесь в первое время все мои знакомые и родные приняли меня с почетом и уважением. Они полагали, что я вел трезвую и честную жизнь и отрешился окончательно от прежних пороков и пьянства. Я нанял себе довольно приличную комнату и хотел открыть книжную торговлю. Сняв на Васильевском острове, в Андреевском рынке, небольшую лавочку, я подал градоначальнику прошение о разрешении мне книжной торговли [163]163
Для получения права торговать книгами в Петербурге нужно было получить разрешение градоначальника, представив промысловый билет и прошение по следующей форме (см.: Мсерианц 3. Законы о печати. Настольная справочная книга. Изд. 8. М., 1899. Приложение. С. 40):
Господину… (звание, имя. отчество и фамилия)
Желая открыть… части…. участка, на… улице, в доме книжную лавку (или магазин), имею честь покорнейше просить о выдаче мне законного дозволения на содержание этого заведения, в котором ответственным лицом состоять буду я.
(город, число, месяц, год) (Подпись)
[Закрыть], но тут, несмотря на представленные мною свидетельства от бывших моих начальников о моем хорошем поведении и честности, я получил отказ.
От этой неприятности я опять стал пьянствовать и скоро растратил все свои деньги, а затем принялся за распродажу имущества. Прежде всего я продал Академии Наук привезенные мною болгарские книги и арабские рукописи, затем уже и разные вещи – дорогие и редкие здесь – пошли за бесценок на рынок. Вследствие пьянства ко мне опять возвратилась лихорадка, и я принужден был лечь в больницу.
Выйдя из больницы, я опять не удержался и пропил все до нитки. Несколько времени я был без квартиры; ночевал по ночлежным приютам и наконец попал в Вяземский дом. Отсюда, по рекомендации среднего Канаева, я поступил писарем в общественную лавку на Семянниковском заводе, но, верно, уж в которой лагунке деготь побывает, так его и огнем не скоро выжжешь. Через месяц я ушел с места и погряз опять в Вяземском.
На этот раз я застал Вяземский дом гораздо населеннее: во дворе его хотя уже и не было прежних пяти кабаков, но зато в каждой квартире торговали водкой. Находился я в этой трущобе более года, доставая себе средства на хлеб и пьянство разными подачками от добрых людей. Наконец я остепенился и опять принялся за книжную торговлю.
На этот раз я начал свою торговлю на развалке в Александровском рынке и начал ее с копеек. Мало-помалу дело у меня стало развиваться; я начал опять сообщаться кое с кем из мелких торговцев, а подоспевший большой аукцион книжного магазина Черкесова [164]164
Черкесов Александр Александрович (1839–1908) – воспитанник Александровского лицея, отставной губернский секретарь, «идейный» книготорговец См.: Баренбаум И. Е. Штурманы грядущей бури. М., 1987. С. 199–227.
[Закрыть]сблизил меня и с остальными букинистами. Надо заметить, что все букинисты и рыночные торговцы покупали черкесовский товар сообща и потому покупали его за бесценок, а после уже, посредством вязки, партии книг переходили в одни чьи-нибудь руки. Всех участвовавших в вязке хозяев находилось около тридцати человек, да «племянников» человек десять. Хозяева от этого аукциона получали вязку неравномерно: самая маленькая вязка доходила рублей до восьмидесяти, большая – до двухсот; а племянники, то есть те безденежные, которые не принимали участия ни в покупке, ни в вязке, а только так присутствовали, получали по три и по пяти рублей, вследствие чего товар поступал к его хозяину иногда в два и три раза дороже того, за что он был куплен на аукционе.
В это время я получил от Н-вой письмо, в котором она просила навестить ее. Я отправился по адресу; старая любовь снова возгорелась во мне, и на этот раз мы скоро с нею сошлись: наняли на Песках небольшую квартирку, и я опять зажил трезвою жизнью.
Книжная торговля с годами уже изменилась. Не стало тех букинистов, которые ходили прежде по домам с перекидными мешками или торговали на столиках и оградах в разных местах города. Некоторые из них умерли, другие сняли в рынке и в улицах лавки, а остальные торговали на городских местах с ларей. За дальностью квартиры и за неудобством в зимнее время торговать на развалке, я начал публиковать в газетах объявления о покупке книг и бумаги и, покупая по этим объявлениям в домах товар, сбывал его или знакомым библиоманам, или в книжные лавки.
Торгуя таким образом, я развивал круг моего знакомства между торговцами, приобрел новых покупателей и к весне сколотит себе небольшие деньжонки и не один воз товара. Но тут опять меня одолела слабость: я опять начал пьянствовать, а вместе с тем пошли домашние раздоры; я переселился с квартиры и очутился опять одинок.
Лето 1881 года я прожил в Лештуковом переулке, нанимая маленький уголок, торгуя и пьянствуя. Пьянство и разгул настолько в меня вселились, что при недостатках, для удовлетворения своей пагубной страсти, прибегал к обманам: я брал у знакомых книгопродавцев якобы на покупку книг деньги и пропивал их.
К осени я опять остепенился, возобновил дружбу с Н-вой, восстановил свою репутацию и за зиму приобрел новых лучших покупателей. Особенно в это время много содействовал моей торговле тайный советник Н. П. Смирнов [165]165
Смирнов Николай Павлович (1824–1905) – товарищ обер-прокурора Синода, впоследствии сенатор. Библиофил, составил описание своей богатой библиотеки по правоведению и библиографии. Библиографические материалы. Опись книг, брошюр и статей библиотеки сенатора Н. П. Смирнова. Спб., 1898.
[Закрыть]. Составляя себе юридическую библиотеку, он почти еженедельно покупал у меня большое количество книг и рекомендовал много своих знакомых, хороших покупателей. Но более всех других поддерживал меня граф Д. А. Толстой [166]166
Толстой Дмитрий Алексеевич, граф (1823–1889) – министр народного просвещения в 1866–1880 гг. и внутренних дел в 1882–1889 гг., сторонник классицизма в образовании, имевший репутацию реакционера. Историк екатерининской эпохи.
[Закрыть], тогда еще не бывший министром внутренних дел. Он покупал все сочинения, относящиеся к Екатерининскому времени, и платил за них очень щедро, а вместе с тем и утонченная вежливость и словоохотливость, с которыми граф обращался, крайне мне льстили.
Весною 1882 года у меня накопилась целая комната товару, и я опять задумал открыть свою торговлю. Сначала за мои прежние подсудимости мне опять было отказано в разрешении; но, по совету моего благодетеля Н. П. Смирнова, я возобновил ходатайство и, получив при его содействии нужное разрешение, открыл у Пешеходного банковского моста, в ларе, книжную торговлю.
Приобретя этот ларь и свидетельство на право книжной торговли, я уже думал, что приобрел себе вечный кусок хлеба. До меня тут торговал человек, имевший большое семейство, и не только кормился с ним, подчас предаваясь тоже спиртным напиткам, но еще увеличивал свое состояние. Я же, открыв торговлю с небольшим количеством товара и без денег, с первого же времени повел расход не по доходам, тратился на три квартиры и манкировал торговлею, просиживая большую часть времени в портерной; вследствие чего на следующую же весну принужден был лишиться своего ларя.
Я опять стал заниматься покупкою книг по объявлениям и мог бы жить не нуждаясь, но слабость моя все усиливалась; я как будто перестал иметь над собою волю и при первой же неудаче запивал. Пропившись окончательно, я опять начинал прибегать к обманам: но на этот раз торговцы мне уже не поддавались и я приходил к кому-нибудь из знакомых мне господ, моих покупателей, предлагал им нужные или подходящие книги, брал вперед деньги на покупку и более не являлся. Так в течение одной зимы я обманул более десяти лиц, которые были лучшими моими покупателями.
Наконец я опять очутился в Вяземском доме и хотя иногда принимался за книжную торговлю и даже два раза выходил из этой трущобы, но все-таки не мог совладать со своей слабостью и снова погрязал в этом доме пьянства и разврата.
Просрочив паспорт и не имея денег переменить его, я начал шляться по ночлежным приютам, где был арестован и отправлен на родину этапом [167]167
Это «путешествие» описано Свешниковым в очерке, обработанном Н. С. Лесковым и опубликованном в журнале «Русская мысль» под названием «Спиридоны-повороты» (приведен в данной книге).
[Закрыть].
Приход на родину Бедственное положение • Ночлежный приют «Батум» • Светлый праздник в приюте • Письмо от Канаева • Мое переселение в кухню при доме мачехи • Существование подачками • Отсылка рукописи • Нищенство • Переселение в «Батум» • Его обстановка
Тяжело было у меня на сердце потому, что дома у меня никого и ничего не было. Некуда было, что называется, головы преклонить. Я знал, что мне придется ходить по миру.
Что пришлось мне вынести дорогой, я не буду описывать, потому что это уже описано и напечатано в «Русской мысли», – я впоследствии упомяну, где и как я писал о своем аресте и перенесенных в дороге испытаниях и при каких условиях удалось мне это пристроить в печать.
Свобода, после месячного ареста, после трудностей этапной дороги, меня нисколько не радовала. В голове вертелись только вопросы: что делать? чем жить?
Хотя у меня в городе и был родительский дом, но он по духовному завещанию принадлежал мачехе.
Несмотря на то, что я с мачехою до сих пор нахожусь в очень мирных отношениях, – в то время я, все-таки, не хотел явиться к ней в моем изорванном костюме и в лаптях, данных мне нашим мещанским старостой. Я не ее стыдился, а жильцов, которые у ней квартировали и чтобы не срамить родное пепелище, я решился лучше идти в «Батум» – так называют у нас ночлежный приют.
Когда я освободился из нашей мещанской управы, у меня от порционных денег оставалось 15 копеек. Я сознавал, что все мои несчастия происходят от водки, но мне было так грустно-тяжело, что я с каким-то отчаянием, не рассчитывая, что сегодня и завтра мне не на что будет купить кусок хлеба, пропил свой последний пятиалтынный, как будто надеялся в этом найти забвение или, по крайней мере, некоторую бодрость. Но, несмотря на то, что я более двух месяцев не пил вина, оно не произвело на меня никакого действия. Я остался в том же тяжелом унынии, в каком и был. Побродив недолго по берегу Волги, я пошел в «Батум». Я пришел туда еще очень рано. Там находился только один старик. Мы разговорились с ним, и оказалось, что он знал все наше семейство и я также знал и много слышал о нем еще в детстве.
Старик этот был когда-то хороший торговец-краснорядец [168]168
Краснорядец – торговец, торгующий в красном ряду, то есть красным товаром (тканями, мануфактурой).
[Закрыть], торговал суровскими, или, как у нас называют, красными товарами. В молодости своей он был тоже известен всему городу своим дебоширством и безобразничаньем. Женившись, он нисколько не исправился и продолжал такую же жизнь. Долго билась с ним жена, но наконец она умерла. Детей его (у него были две дочери) взял на воспитание его брат; а он начал скитаться. За его буйный характер никто его не хотел держать на квартире, даже родная мать и та не пускала, и потому он принужден был поселиться в «Батуме». Он теперь собирал милостыню и пропивал все, что доставал. Но это тип довольно обыкновенный: таких людей, для которых не существует ни стыда, ни раскаяния, встретить можно не только десятками, но даже сотнями и в столицах, и в провинции.
Первый и второй день я просидел буквально голодный. На третий день, в страстную пятницу, некоторые из «батумцев» приглашали меня или с ними обирать милостыню, говоря, что на праздник будет хороший сбор: но я отказался и предпочел лучше помочь сторожихе вымыть полы и нары нашего приюта, за что меня и покормили: кроме того, сторожиха сослужила мне еще службу: она снесла от меня записку мачехе.
«Батум», т. е. ночлежный дом в нашем городе, устроен не очень давно, именно с тех пор, как началась усиленная высылка из столиц людей неблагонадежных и порочных. Он помещается в полуразвалившемся каменном здании, в котором в старое время находился кожевенный завод. Теперь этот завод и вся местность, принадлежавшая ему, за неявкою наследников и за неплатеж поземельных сборов сделались достоянием города.
«Батум» считается у нас домом отверженных. Его занимают только высланные из столиц, находящиеся под надзором полиции и те, которые по своему поведению не принимаются уже ни в семью, ни куда-либо на квартиру, и только изредка случается, что в этот приют заходят какие-нибудь путники.
Зимою в нем проживает человек по тридцати и более, но летом число его обитателей сокращается, потому что одни уходят на работу в Рыбинск, а другие расходятся по деревням пасти скотину; есть и такие, которые предпочитают ночевать около кирпичных горнов и в других, более привальных и менее доступных надзору полиции, местах. Но о «Батуме» и его обитателях я еще буду упоминать, а теперь хочу кое-что сказать о своем положении.
На праздник Пасхи в нашем городе некоторые лица из купечества имеют обыкновение рассылать подаяния в острог, в больницу, в богадельню и т. п… места. Нас, «батумцев», тоже не забыли: к нам были присланы подаяния из городской управы и по два яйца на каждого ночлежника, от купца Сурина – полфунта чаю и несколько фунтов сахару; от староверки фабрикантши Вижиловой – гречневая крупа, капуста, хлеб и ситный, а от купца Дудкина – солонина. В большом котле, устроенном в сторожке приюта, сварены были на первый день щи, а на второй – каша; прочее же самими ночлежниками, в присутствии сторожа, разделено было на пайки и роздано по рукам.
Мои товарищи не имели большой крайности в этих подаяниях – они на праздник почти все ходили собирать милостыню, которая на самом деле была довольно обильна, а потому у них были и деньги, и вино, и все съедобное; но все-таки никто не отказывался от своей доли, и каждый старался при дележе захватить пасхи побольше. Для меня же эти подаяния были чрезвычайно дороги потому, что не будь их, то мне в этот великий праздник пришлось бы буквально голодать.
На третий день праздника меня посетила мачеха. Она принесла мне кое-что поесть и немного чаю и сахару и приглашала к себе; но я опять-таки отказался, считая совершенно неприличным показываться в своем костюме в городе.
Впрочем, дня через четыре я принужден был сходить в свой дом, так как ожидал письмо от Канаева, которого просил писать на имя мачехи. Письмо действительно было получено В нем Канаев извещал меня, что посылает мне с попутчиком посылку, которую доставили мне через день. Она состояла из довольно приличного костюма, двух пар белья и около сотни мелких книг и брошюр. Канаев советовал мне заняться на родине торговлею книгами, а в свободное время дописывать начатые мною еще в Петербурге воспоминания.
Имея мало-мальски приличный костюм и рубля на три товару, я не захотел более оставаться в «Батуме» и принял предложение мачехи, которая тогда уезжала в город Иваново-Вознесенск, поселиться на все лето в находящейся у нас в доме отдельной кухне.
Кухня была совершенно развалившаяся. Большие щели светили сквозь прогнившие стены на двор, пол дырявый, окно с выбитыми стеклами, а сквозь крышу и потолок во время дождя вода лилась ручьем.
Но тогда только что начиналось лето, а потому я и надеялся, что мне тут будет все-таки лучше, чем в «Батуме». Главное же, что меня прельщало, это то, что тут я оставался в уединении и мог кое-что писать.
Присланные мне Канаевым книги были вполне подходящие и полезные для торговли в провинции. Их легко можно было распродавать в торговые дни на базаре и по трактирам, которых в нашем городе, за отсутствием других питейных заведений, более тридцати; но я никак не мог себя к этому принудить. Мне было совестно в своем городе заниматься таким мелким делом, а потому, через несколько дней, я часть из них распродал разносчикам, а остальные отдал за бесценок в лавку.
Времени свободного у меня оказывалось очень много, и я задумал описать свои мытарства со дня моего ареста до освобождения.
Денег, вырученных за книги, при самом экономном расчете моем могло хватить мне не более как на две недели. Но я все-таки сначала не унывал. Я надеялся на Канаева, которому описал свое положение и сообщил о своем намерении. Между тем время проходило, а ответа не было, и я, ради пропитания, принужден был, штука по штуке, продавать присланные мне вещи.
Не видя в перспективе ничего, кроме нищеты и совершенной безвыходности, я начал падать духом и опять выпивать.
Впрочем, это продолжалось недолго, и через неделю я дошел уже до того, что мне нечего было продавать, и я остался буквально без куска хлеба. К голодовке присоединилась еще беда: надежды мои на теплое лето совсем не осуществились. Лето, как нарочно, стояло такое, какого никто не запомнил: почти постоянные дожди и холодные ветры, со свистом и воем врывавшиеся в мою конуру и пронизывавшие меня, что называется, насквозь.
Мне приходилось очень трудно. Не имея впереди никакой надежды, я решился не выходить никуда из своего логовища, хотя бы мне пришлось умереть в нем голодною смертью. Я пролежал двое суток, не имея ничего во рту, кроме воды. На третьи сутки, когда я пошел к колодцу напиться, меня увидела жившая у нас во дворе подрядчица.
– Что с тобой? – спросила она. – Ты никак совсем больной? Не хочешь ли чайку?
Тут я не вытерпел и признался, что двое суток ничего не ел, и попросил у нее кусок хлеба. Через пять минут она подала мне в окно большую краюху хлеба и чайник с чаем.
И вот с тех пор начались мне, как собаке в конуру, почти ежедневные подачки. Так продолжалось недели три. Я в это время опять принялся за свое сочинение. Но, вероятно, пословица говорит справедливо, что не устанет рука принимаючи, а устанет даваючи, и потому подачки постепенно начали делаться скуднее. Да и в самом деле, кому и какая была обязанность кормить совершенно чужого, здорового мужика?
Чтобы как-нибудь достать себе на хлеб, я стал ходить в лес за грибами; но на мое несчастье в тот год и грибы совсем не родились. Я приносил их не более как копеек на семь или на восемь в день.
Наконец в последних числах июля я получил от Канаева посылку и письмо. Посылка состояла из книг в ней было около ста экземпляров о крещении Руси и столько же разных метких народных брошюр.
На этот раз я решится сам заняться распродажею этих книжек; но торговля моя шла очень туго. Ходя по трактирам и в торговые дни на базар, я едва выручал по двадцати и тридцати копеек в день, и, конечно, вырученных денег мне хватало только на содержание. Наконец книги были распроданы, и я остался опять ни с чем.
В августе месяце я дописал свою рукопись и решился послать ее Канаеву, но мне положительно негде было взять денег на пересылку. Тогда я вспомнил, что верстах в семнадцати от города находилась деревня, где проживал тот мальчуган, который привез мне первую посылку Тогда он мне говорит, что в конце августа намерен был опять возвратиться в Петербург. Вот я и собрался отнести ему мою рукопись.
Памятно мне это путешествие!..
В то время погода сделалась еще холоднее. Шел мелкий дождь, сопровождаемый сильным ветром, и по всей дороге стояла сплошная грязь и лужи воды; а на мне было только нижнее белье, совершенно рваное пальто и фуражка без тульи. Но несмотря на грязь, на стужу, на рваную одежду, я босой шел с своею рукописью в упомянутую деревню, питая надежду, благодаря этой рукописи, выбраться из того тяжелого положения, в котором находился.
Благодаря уважению, которое питало к Канаеву семейство этих крестьян, меня там приняли радушно – напоили деревенским житным кофе, накормили обедом и обещали на следующей же неделе переслать мою рукопись в Петербург.
Прошли еще две недели; холод усилился: ветер еще назойливее завывал и врывался в мою конуру; с потолка текло, и на полу частенько стояли лужи. Чтобы согреться, я в течение дня почти постоянно шагал из угла в угол. Но долгие темные и холодные ночи добивали меня вконец. Я даже не могу описать, что испытывал в эти ночи, забившись в каком-нибудь сухом углу и постоянно поворачиваясь, чтобы согреть под моими лохмотьями окоченевшие члены.
Кроме стужи, мне также приходилось терпеть и голод. Я опять перебивался, иной день перекусив что-либо, а то и совсем без пищи. Но наконец, однажды, проголодав более суток, я не выдержал и в праздник Рождества богородицы, рано утром, взяв корзинку, пошел по деревням обирать милостыню. И вот тут мне вспомнились стихи Никитина [169]169
Свешников цитирует стихотворение классика русской поэзии Ивана Саввича Никитина (1824–1861) «Нищий». За приводимой строкой следует:
Не откажут тебе в подаянье,Не умрешь ты без крова зимой, —Жаль разумное божье созданье,Человека в грязи и с сумой!
[Закрыть]:
Надевает ли сумку неводя
Не охота ли взяться за труд,
Тяжела и горька твоя доля.
Бесприютный, оборванный люд, и пр
Придя в первую деревню и получив первую милостыню, я не стал уже ходить по другим домам, а, зайдя за овин, съел эту милостыню, чтобы утолить мучивший меня голод. Поев, я долго раздумывал – идти ли мне дальше сбирать или вернуться домой. Ведь куда как робко и тяжело сначала приниматься за это ремесло!.. Наконец я решился обойти еще одну деревню, за второй – обошел третью и четвертую и таким образом насбирал хлеба фунтов восемь.
Домой я вернулся тогда, когда совсем стемнело. Я очень был рад, что у меня оставалось хлеба еще дня на три. Теперь я думал только о том, как бы запастись теплом. На другой день, взяв веревку, я отправился в рыжишник (сосновый лес), отстоящий от нашего города в полуверсте, и, набрав там большую вязанку хворосту, принес ее домой и затопил печь. Следующую ночь я блаженствовал: я был сыт и спать мне было тепло.
Так перебивался я около месяца, через день ходя за хворостом и дня через два или три обирать милостыню.
Добрые крестьяне, несмотря на то, что сами терпят много нужды, редко отказывают в милостыне просящему Христа ради. Как ни был стеснителен для меня этот способ пропитания, но я все-таки раз от разу делался смелее и, стуча в окна палочкой, резче и жалобнее просил.
В октябре стужа меня совсем одолела, и я опять принужден бал переселяться в «Батум».
Теперь следует сказать несколько слов о помещении, в котором находился приют. Помещение это состоит из одной большой комнаты с тремя окнами, выходящими на площадь, и тремя же во двор; со сводами, поддерживаемыми посередине четырехугольным столбом. По задней стене его устроены сплошные нары, на которых каждый из постоянных обитателей имеет свое место; около столба находится большая лежанка; в ней ночлежники варят свои незатейливые кушанья; направо от двери отгорожена каморка для сторожа, нанимаемого городскою управою; а под окнами, по стенам, поставлены длинные скамейки и два стала. Помещение вообще очень грязно и изобилует множеством всевозможных паразитов.
На этот раз, считая себя жильцом этого приюта на всю зиму, я постарался поближе познакомиться и с его обитателями.
Большинство из них были еще очень молодые, здоровые люди, но уже пропащие, не надеющиеся и не мыслящие исправиться. Все они как будто бы повально были заражены слабостью к водке. Некоторые из них, как я уже упоминал, в летнее время уходят на работу в Рыбинск, нанимаются на суда, в пастухи или работают поденно в крючниках. Иной раз с этих работ они возвращаются в «Батум» с маленькими деньжонками, но на первый же или второй день все пропивают со своими товарищами и остаются раздетыми и разутыми. Но есть между ними и такие, которые и ничего не работают, а если и попадут на какую-нибудь работу, то непременно через час или сами бросают работу, или их прогоняют; эти и лето и зиму ходят по миру.
В то время как я находился в «Батуме», из числа его обитателей особенно заинтересовали меня четыре человека.
Первый из них – Василий Владимирович Рек, родной племянник ярославского вице-губернатора [170]170
Рек Павел Константинович (?-1898) – ярославский губернатор в 1878–1894 гг.
[Закрыть], был человек хорошо образованный. Он воспитывался в Москве, в одном из высших учебных заведений. Окончив курс, Рек женился на актрисе и затем вскоре уехал в Самару, где получил довольно порядочное место. С первого же времени, по его рассказам, он жил с женой несчастливо. Актриса заводила связи, а он начал кутить, почему года через два они и разошлись.
Разойдясь с женою. Рек бросил службу и возвратился в Москву. Здесь он получил после родителей тысяч двенадцать рублей наследства, и менее чем через год из этих денег у него ничего не осталось; а еще через год он дошел до нищеты. В это время он узнал о смерти своей жены, которая умерла тоже в большой бедности.
Года четыре он прожил в Москве, без всяких занятий, скитаясь по разным притонам, и наконец принужден был отправиться в Ярославль к своему дяде.
Дядя сперва принял его хорошо. Он не только помог ему всем необходимым, но выхлопотал очень приличную должность. Но в Реке уже сильно вкоренились привычки к разнузданности: он манкировал службою, по нескольку дней не являлся в должность, а иногда, случалось, приходил совершенно пьяный и производил скандалы.
Из уважения к его дяде Река долго терпели; но наконец его поведение перешло уже всякие границы, и ему принуждены были отказать от должности.
Тогда Рек начал ходить к дяде, выпрашивая у него денег. Дядя и на этот раз не отказывался ему помогать, но требования Река постепенно делались уже через меру нахальны, и дядя не велел его принимать. Тогда Рек, напившись пьяный, явился в канцелярию губернатора и там, во время присутствия, обругал, как только сумел, своего дядю и даже толкнул его в толстый живот ногою. Вот за эту-то проделку его и выслали к нам в Углич под надзор полиции. В Угличе Реку, как человеку образованному и имеющему такое влиятельное родство, сначала тоже сочувствовали. Ему несколько раз давали пособия и определяли к месту. Но, видно, уже не в коня и корм. Вся эта помощь бала действительна только до первой рюмки; а как только он брался за рюмку, то уж бросал и занятие и в один день пропивал все, что было у него и что было на нем.
Тогда Рек принужден был существовать тем, что писал по трактирам письма и прошения; а когда не было этой работы, то обирал по лавкам милостыню и все, что доставал, в тот же день пропивал. Зимой и летом он ходил в каком-нибудь рваном сюртучишке или просто в деревенском холщовом зипунишке и, благодаря этому, несколько раз лежал в больнице и постоянно кашлял; у него явно развивалась чахотка.
О будущем Рек мало заботился: во-первых, он сознавал, что ему осталось недолго жить – недуг его был очень силен; а во-вторых, он говорил, что привычка к водке настолько в нем развилась, что вино сделалось как будто принадлежностью его натуры.
Между «батумцами» Рек вполне освоился, и те с ним нисколько не церемонились. Ему даже не давали места на нарах, и он валялся где попало на полу; когда же он поднимал почему-нибудь спор и упоминал о своем происхождении, то его без церемоний колотили.
Другой субъект, интересовавший меня, был сын дворового человека известного некогда ярославского губернского предводителя дворянства Н. П. Скрипицына [171]171
Скрипицын Николай Павлович (1831–1899) – ярославский губернский предводитель дворянства в 1863–1878 гг.
[Закрыть], и можно сказать, что если бы природа дала ему немного поболее роста и дородства, то он был бы вылитый портрет своего господина.
Дмитрий Федосеев, так его звали, родился в поместье г. Скрипицына – селе Алексееве; но когда Скрипицын, получив звание камергера, переехал в Петербург, то и семейство Федосеева тоже последовало за ним в столицу. Тут его определили в ремесленное училище цесаревича Николая, а по окончании курса, по протекции того же Скрипицына, он поступил на какой-то завод за Невской заставой техником.
В начале восьмидесятых годов на том заводе, где служил Дмитрий, развилась какая-то противозаконная пропаганда, к которой и он был отчасти прикосновен. В скором времени все это раскрылось, и его, как участника, административным порядком лишили столицы на пять лет и выслали в Углич под надзор полиции.
Здесь, не имея определенных занятий, Дмитрий в первое время хотя и получал от матери небольшие суммы на содержание, но все-таки не мог устоять и со скуки начал пьянствовать. К чести его нужно сказать, что когда он почувствовал, что эта слабость в нем уже укоренилась. – он отказался от всякой помощи и принялся за черную работу. Все лето он постоянно ходил в крючниках, а по зимам занимался колкою и уборкою дров, набивал погреба и проч. Но нередко случалось, что и этой работы не было, тогда Дмитрий принужден был так же, как и другие, ходить по лавочкам и обирать милостыню. Когда кончился срок его высылки, к нему приезжала мать, привезла приличную одежду и дала еще пятьдесят рублей с тем, чтобы он оставил эту жизнь и отправлялся на место, которое выхлопотал ему тот же Скрипицын на одной из железных дорог. Место было хорошее: ему назначили семьдесят пять рублей в месяц жалованья. Но недолго Дмитрий там прожил, вкоренившееся пьянство одолело его, и он скоро вернулся опять в Углич и принялся за крючную работу. Теперь Дмитрий – еще очень молодой человек (ему не более двадцати семи лет); он так же, как и Рек, вполне освоился с тою жизнью, не чувствует возможности восстановиться и не заботится об улучшении своей участи.
Третье лицо, занимавшее меня, был сын священника, Фаворовский. Он воспитывался в духовном училище и затем перешел в семинарию. Наука ли ему прискучила, или по другому какому побуждению, но только Фаворовский с третьего курса вышел из семинарии и поступил в военную службу.
В то время наши войска, под командою Скобелева, совершали славные победы над текинцами [172]172
Имеется в виду взятие в 1881 г. после длительной осады крепости Геок-тепе, которую обороняли туркмены-текке (текинцы).
[Закрыть]. Фаворовскому тоже захотелось там подвизаться, и потому он был послан в Закаспийскую область; но скоро он соскучился и здесь и опять захотел вернуться в Россию. Он уволился из военной службы и, получив документы, отправился пешком на родину. Средства у него были очень скудные и потому, пройдя несколько сот верст, ему не на что стало продолжать путь. Тогда он, уничтожив свои документы и сказавшись беспаспортным, препровожден был на родину этапом.
Родителей у него не было, но у него были дядя и два брата священниками, которые в первое время отнеслись к нему очень сочувственно. Они вновь выхлопотали ему документы и постарались подыскать подходящую к его способностям должность. Но Фаворовский почему-то вбил себе в голову, что не стоит и не следует работать, и считал всякий труд презренным, даже если бы это был легкий труд, например письменный и т. п. Бросив должность, он первое время кое-как перебивался около дяди и своих братьев, но и тут, имея в голове одно – что ему не следует работать, он положительно отказывался от всякого дела и, через это перессорившись со своими родными, пошел скитаться. Сначала он поступал в разные монастыри послушником, но так как и там заставляли что-либо делать, то он никогда не мог ужиться и начал бродяжничать. Беспечный и беспамятный, он опять утерял где-то свои документы и решил обходиться без них, считая их лишнею формальностью. Скитаясь по разным губерниям без вида, Фаворовский несколько раз попадал под арест и переправлялся этапом, наконец дошел до того, что ему не в чем стало совсем ходить, и вот он поселился в «Батуме» и проживал там уже около года, сбирая в городе и по ближайшим деревням милостыню. Несмотря на все свои безалаберные странности и какую-то ненормальную испорченность, Фаворовский был очень честный и добродушный парень, готовый поделиться с другом и недругом последнею милостынею и неспособный, что называется, и мухи обидеть. Всякая несправедливость, всякая пакость, кем бы она и против кого бы ни была сделана, – вызывала в нем сильное негодование, за что, конечно, между «батумцами» он служил не только посмешищем, но подчас дело доходило до того, что его же за это и били.
Четвертый, который более других привлекал мое внимание, был еще мальчик – солдатский сын.
Петрушка, так его звали, родился в Петербурге и, еще в раннем детстве лишившись родителей, остался на попечении тетки, которая сначала таскала его на руках по миру, а потом, когда он немного подрос, посылала уже одного обирать милостыню. Пущенный на произвол теткою, которой нужно было только, чтобы он приносил ей деньги, ничему не обученный. Петрушка лет восьми еще познакомился с некоторыми темными личностями и от них скоро выучился лазить по чужим карманам и другим кражам.







