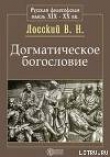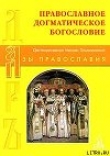Текст книги "Очерк православного догматического богословия. Часть I"
Автор книги: Николай Протоиерей (Малиновский)
Жанры:
Религия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 40 страниц)
Бог обладает всесовершеннейшей волей. Спаситель научал. в молитве предавать себя воле Божией: Отче наш, – да будет воля Твоя, яко на небеси, и на земли (Мф 6, 10), равно и Сам, молясь ο мимоитии от Него чаши, говорил: обаче не Моя воля, но Твоя да будет (Лк 22, 42).
Воля Божия в откровении изображается по существу своему высочайше свободной, по нравственному своему направлению – всесвятой, по силе и могуществу – всемогущей, по отношению к тварям свободно разумным – требующей от них святости, и потому наказывающей зло и награждающей добро, или всеправедной.
1. Высочайшая свобода воли Божией. – По своему существу воля Божия есть воля высочайше свободная. Свобода воли Божией состоит в том, что она в своих решениях и определениях совершенно независима ни от каких сторонних (внешних) побуждений или влияний, но основание своей жизни и всех своих действий заключает единственно в самой себе. Такая свобода может быть свойственна только существу самобытному, каков Бог. В человеке хотя также есть свобода, но она никогда не бывает и не может быть такой полной. С одной стороны, в действиях своих человек находится в зависимости от влияния внешних условий, а с другой, – самая свобода его в своих определениях не может совсем освободиться от колебания и борьбы. Бог же независим ни от чего постороннего, и следовательно, Его воля определяется только лишь сама собой, т. е. она вполне и совершенно свободна. Равно в свободе воли Божией не может быть борьбы, колебания в выборе между какими-нибудь различными побуждениями Его природы, потому что природа божественная проста и едина.
Такою откровение и изображает волю Божию. Ап. Павел ο Боге Отце, напр., говорит, что Он нарек (предопределил) нас во усыновление Иисус Христос по благоволению хотения Своего (Еф 1, 5), что Он открыл нам тайну воли Своея по благоволению Своему (ст. 9). Ясно, что здесь ра{стр. 92}зумеется воля, существующая в Боге от вечности, а в этой воле советы и решения могут возникать лишь непосредственно из глубины ее существа и независимо ни от чего стороннего и внешнего, что могло бы иметь на нее какое-либо влияние (Рим 11, 34). Та же мысль выражена у Псалмопевца так: Бог наш – на небеси и на земли, вся, елика восхоте, сотвори (Пс 113, 11).
Высочайше свободными, а не вынуждаемыми чем-либо, откровение представляет и все действия Божии по устроении мира. Он вся действует по совету воли Своея (Еф 1, 11) в делах промышления как ο мире вещественном, так и ο мире нравственном: и по воли Своей творит в силе небесней и в селении земнем (Дан 4, 32; ср. Иов 23, 13). Ο раздаянии благодатных даров людям апостол говорит: вся же сия действует един и тойжде Дух, разделяя властию, коемуждо якоже хощет (1 Кор 12, 11).
2. Святость воли Божией. – По своему нравственному состоянию воля Божия есть воля всесвятая. Святость воли Божией состоит в том, что она в своих стремлениях определяется и руководится представлениями и помыслами об одном высочайшем добре, и эти ее стремления всегда совпадают с самым их осуществлением, а не остаются одними благими желаниями. Поэтому Бог чист от греха и не может согрешать, любя и в тварях добро и ненавидя зло.
В откровении Сам Бог изображается говорящим ο Себе: святи будите, яко Аз свят есмь (Лев. 19, 2; 1 Пет 1, 16), а ангелы – славословящими Господа песней: свят, свят, свят Господь Саваоф: исполнь вся земля славы Его (Ис 6, 3; сн. Апок 15, 4). По свидетельству новозаветного откровения: Бог свет есть, и тьмы в Нем несть ни единыя (Ин 1, 5). Он даже не искушается злом (Иак 1, 13). Посему и в тварях Он ненавидит зло и любит добро: мерзость Господеви путие развращени: приятни же Ему еси непорочнии в путех своих (Притч 11, 20). Видимо святость Божия открылась на земле в лице воплотившегося единородного Сына Божия.
{стр. 93}
Такое состояние свободы Божией, что она может хотеть и делать только добро и не может делать зла, есть проявление чистейшей свободы. Это потому, что не какая либо внешняя сила или судьба, и не какой либо, вне Бога, закон вынуждают Бога быть святым, но Он Сам, единственно по совету воли Своей, желает и делает добро; хотение и делание добра есть требование Его всесовершенной природы. Для человеческой воли такое состояние свободы есть идеал, к которому человек постепенно и по частям лишь может приближаться при содействии благодати Божией.
Бог не виновник зла. – Как существо всесвятое, Бог не может не только творить, но и желать бытия зла. В действительности же существует зло и в мире физическом, и особенно в мире нравственном. Согласимо ли это с святостью всемогущего Бога? В ответ на это недоумение отцы церкви объясняли следующее: злом в собственном и строгом смысле должно считать грех, нарушение свободой человеческой воли Божией; то же, что мы называем физическим злом (неурожаи, пожары, бури, землетрясения и другие бедствия, наблюдаемые на земле), не есть само в себе зло; таковым оно является только для грешных людей; хотя оно действительно от Бога, но посылается для исправления людей и возбуждения их к добру, а потому есть добро. Грехи же, следствием которых бывает физическое зло, все происходят от злоупотребления свободы разумных тварей, которую Бог создал доброю и, даровавши им, уже не отнимает, попуская и ее злоупотребления, так как ею собственно условливается и добро нравственное. С этой точки зрения легко объяснимы, а отцами церкви и действительно были объясняемы, все те места Писания, которые на первый взгляд могут показывать в Боге как будто что-то несообразное с Его святостью [15
[Закрыть]].
1. Так, встречаются в Писании выражения, которыми Бог представляется как будто виновником ожесточения во зле, напр., ожесточения сердца фараонова (Исх 4, 21; 10, 1 и др.), или сердца израильтян (Втор 29, 4; Исх 6, 9). Так как, по свидетельству того же слова Божия, ожесточение фараона {стр. 94} зависело от него самого, а израильтяне сами не следовали закону, то выражения; Бог ожесточил сердце фараона или израильтян означают только то, что Бог попустил ожесточение свободы человеческой, а не то, что Сам Он произвел это ожесточение. Таков же смысл и встречающихся подобных выражений в Новом Завете, напр.: затвори Бог всех в противление (Рим 11, 32), даде им Бог духа нечувствия, очи не видети и уши не слышати (Рим 11, 8).
2. Иногда Бог представляется в Писании как будто располагающим к тем или другим худым поступкам, напр., говорится: ο склонении Богом Давида к тщеславному исчислению народа (2 Цар 24, 1), ο воле Божией на прельщение Ахава духом лжи (3 Цар 22, 20–23), на сожитие пр. Осии с женою непотребною (Ос 1, 2; 3, 1). Но первое в другом месте приписывается злому духу (1 Пар 21, 1). Об Ахаве представлено видение, а не какая либо действительная история; ослепление его, вследствие уклонения от света Божия во тьму суеверий, изображается как казнь правды Божией. To, что говорится об Осии, представляет собой символическое изображение преступной страсти израильского народа к богам языческим.
4. В некоторых местах Св. Писания приписывается Богу искушение людей, напр., Авраама, и, таким образом, Бог представляется как бы виновником греха. Но в подобных случаях нужно иметь в виду, какого рода искушение приписывается Богу. Искушение есть приведение какого-либо существа в такое состояние, в котором бы сокровенные его свойства открылись в действии. Искушение возможно двоякое: 1) искушение во зле, или возбуждение к действованию злых склонностей, кроющихся в человеке, и 2) искушение в добре, или направление, даваемое действующему в нем началу добра в открытой борьбе против зла или против препятствий в добре, для достижения победы и славы. Первое не от Бога (Иак 1, 13), но есть следствие оставления Богом (2 Пар 32, 31): оно происходит от плоти нашей, от мира, от других людей, и от диавола. Второго рода искушения от Бога, и, в меру духовных сил, посылаются во благо человеку. Такого искушения Давид просил себе (Пс 25, 2). Сам И. Христос искушаем был по всяческим (Евр 4, 15). Этого же рода было и искушение Авраама в Исааке.
{стр. 95}
3. Всемогущество воли Божией. – Всемогущество воли Божией состоит в том, что Бог приводит в исполнение все угодное Ему без всякого затруднения и препятствия, так что ни какая сторонняя сила не может удерживать или стеснять Его действования.
Св. Писание весьма часто говорит ο всемогуществе Божием. Оно называет Бога Господом сил (Пс 23, 10), Богом сил, Которому по силе нет равного (– 88, 9), единым сильным (1 Тим 6, 15), Вседержителем (Παντοκράτωρ – Иер 32, 18–19; 2 Кор 6, 18 и др.), у Которого не изнеможет всяк глагол (Лк 1, 37). Невозможно же для Него ничтоже (Иов 42, 2; Мф 19, 26). Он может от камения воздвигнути чада Аврааму (Мф 3, 9). Приготовляя Авраама к имеющему быть повелению и обетованию, Бог говорит ο Себе: Я Бог всемогущий (El Schaddai – Быт 17, 1). Bo вне всемогущество воли Божией сначала открылось в творческом произведении всего того, что Богу угодно было создать: вся, елика восхоте Господь, сотвори (Пс 113, 11), и сотворил все единым словом: Той рече, и быша, Той повеле, и создашася (Пс 32, 9). Затем оно постоянно открывается в делах никогда не прерывающегося владычественного промышления Божия ο тварях, а особенно в чрезвычайных действиях, совершаемых для особенных целей, каковы чудеса: благословен Господь Бог израилев, творяй чудеса един (Пс 71, 18; 76, 14 и др.). В частности, в области нравственного порядка, всемогуществом Божиим, без нарушения свободы людей, будет достигнуто окончательное и полное торжество добра над злом, так что Владыка духовно-нравственного царства положит вся враги под ногама Своима (1 Кор 15, 25).
Примечание. Против идеи всемогущества Божия делались в древнее время, высказываются иногда и ныне некоторые возражения и недоумения. Говорят: так как Бог не может грешить, допускать лжи, умереть, сделать смертного бессмертным, прошедшего – настоящим, чтобы 2х2 было вместе и 4 и 10 и т. п., то Он не всемогущ. Ответом на подобные рассуждения может служить следующее. Всемогущество Божие заключается не в том, чтобы делать все, что {стр. 96} бы нам ни вздумалось, а в том, что Бог может приводить в исполнение все угодное Его воле: если же Его воля не хочет многого такого, что противно Его совершеннейшей природе и Его всесовершеннейшему разуму, то это показывает не слабость ее и бессилие, а напротив, – ее силу и могущество. Вообще же по поводу этих и подобных возражений должно заметить, что всемогущество Божие не физического, а нравственного характера. Требовать же от Бога деятельности, на которую Он вызывается приведенными возражениями, значило бы требовать, чтобы Он потерял Свое всемогущество и перестал быть тем высочайше разумным существом, каким есть.
4. Правда Божия. – Воля божественная, будучи сама в себе свята, требует и от разумных творений также святости, a потому дает им закон нравственный, ведущий исполняющих его к святости, и, как всемогущая, за исполнение его награждает, за нарушение – наказывает. Это свойство воли божественной есть высочайшая правда или справедливость. Правда воли Божией, таким образом, проявляется в двух действиях: в правде, дающей закон святости (правда законодательная), и в правде, воздающей нравственным существам – каждому по заслугам (правда мздовоздаятельная или правосудие). На оба эти действия воли Божией указывает апостол, когда говорит ο Боге, что Он един есть Законоположник и Судия, могий спасти и погубити (Иак 4, 12).
Воля Божия – всесвятая – требует и от людей святости. Через Моисея Бог говорил: будите святи, яко Аз свят есмь (Лев 19, 2); Спаситель мира также учил: будите вы совершени, якоже Отец ваш небесный совершен есть (Мф 5, 48; сн. 1 Пет 1, 15). Требуя святости от разумно-свободных существ, Бог дал людям закон нравственный, следуя которому они действительно могли бы уподобляться Богу. Закон этот двоякий – внутренний, естественный, начертанный в самой природе человека (Рим 2, 14–15), и закон внешний, положительный или откровенный, разделяющий на ветхозаветный и новозаветный.
Бог есть и праведный Судия, воздающий за исполнение или нарушение данного Им закона. Мне отмщение, и Аз воз{стр. 97}дам, глаголет Господь (Втор 32, 35; Рим 12, 19; Евр 10, 30). He льститеся: Бог поругаем не бывает. Еже бо аще сеет человек, тожде и пожнет: яко сеяй в плоть свою, от плоти пожнет истление; а сеяй в дух, от духа пожнет живот вечный (Гал 6, 7–8). Им на вечные времена установлен такой закон, что правда и добро уже естественным образом влекут за собой относительное блаженство, а зло и порок – мучения и зло.
Но с появлением греха и вообще вследствие злоупотреблений свободы разумных существ одного этого суда правды Божией сделалось недостаточным. Открылась необходимость со стороны всесвятого Бога в особых действиях Его промысла (употреблении положительных наград и наказаний) для ограничения зла и торжества добра. Откровение свидетельствует, что Бог действительно проявлял и проявляет Свое правосудие и в особых действиях Своего промысла. Так, как только согрешили ангелы, Бог их не пощаде, но пленицами мрака связав, предаде на суд мучимых блюсти (2 Пет 2, 4; Иуд 6 ст.), – согрешили прародители, и также подверглись праведному осуждению Божию (Быт 3 гл.). Дальнейшая история человечества подтверждает правосудие Божие указаниями на многочисленные действия его, представляя примеры наказания за нечестие и награждения за исполнение святой воли Его как целых народов и всего человечества, так и отдельных лиц, каковы, напр., всемирный потоп, судьба Содома и Гоморры, смешение языков и рассеяние племен и пр. Особенно ясно и поразительно видны действия правосудия Божия в истории богоизбранного народа израильского от начала ее и до наших дней.
Правосуден Бог и в отношении к отдельным лицам: очи Господни (обращены) на праведныя, и уши Его в молитву их; лице же Господне на творящие злая, еже поmpeбumu их от земли (1 Пет 3, 12). Кийждо, еже аще сотворит благое, сие приимет от Господа, аще раб, аще свободь (Еф 6, 8; сн. Пс 5, 12–13; 23, 4–5 и др.). Дворы праведных Им благословляются (Притч 3, 33), и напротив, проклятие Господне на доме нечести{стр. 98}вого (Притч 3, 33; сн. 15, 25). Ha нечестивых пребывает гнев Божий (Ин 3, 36; Рим 1, 18; 12, 19; Еф 5, 6; Пс 77, 31 и др.). По отношению к беззаконникам, по образному выражению Писания, Бог наш огнь поядаяй есть (Евр 12, 29; Втор 4, 24).
Как на особенные, чрезвычайные проявления правосудия Божия, откровение указывает на тайну искупления и будущий всемирный суд. В деле искупления Бог не ведевшаго греха (И. Христа) по нас грех сотвори (сделал для нас жертвою за грех; 2 Кор 5, 21), в явление правды Своея, за отпущение прежде бывших грехов (Рим 3, 25), а день всемирного суда Божия будет днем гнева и откровения праведнаго суда Божия, в который Бог воздаст коемуждо по делом его (Рим 2, 6). Тогда приимет кийждо, яже с телом содела, или блага, или зла (2 Кор 5, 10).
Соглашение правосудия Божия с тем явлением, что праведники часто бедствуют, а грешники благоденствуют. Против правосудия Божия с давних времен указывается на торжество нравственного зла в лице благоденствующих грешников, при унижении добродетели в лице страждущих и гонимых праведников. И ныне, под ударами кажущихся незаслуженными бедствий, нередки случаи ропота на Бога и даже отпадения от веры в Него к неверию. Но при свете богооткровенного учения и уроков, даваемых опытами жизни, выставляемое возражение против правосудия Божия потеряет свою силу, если при суждении об указанном явлении иметь в виду следующее. 1) На земле нет полного воздаяния; поэтому и праведники могут часто страдать и нечестивые благоденствовать. 2) Бедствия, которым подвергаются праведники, и видимое благоденствие грешников часто зависят от людей, от их несправедливости и пристрастия, вообще от действия их свободной воли. Но Бог как вообще не стесняет свободы своих тварей, так не желает ее стеснять и в этом случае. 3) Добрые люди, при тягостях внешнего положения своего, пользуются драгоценнейшими внутренними благами: миром духовным, радостями и утешениями от Бога (Рим 14, 17), а грешники. при внешнем благополучии, имеют источник мучений для себя в самых своих страстях и беззакониях (Прем 11, 17), {стр. 99} оказывающих гибельное влияние на их душу и тело. 4) Когда Бог попускает страдания праведников и даже ниспосылает их на людей благочестивых, Он поступает по правде, ибо не бывает на земле праведника, который бы в чем-либо не согрешил (1 Ин 1, 8; Притч 20, 9); делает же это Он с благою целью, чтобы чрез бедствия очистить их от всякой греховной скверны (Прем 3, 6; 1 Пет 1, 6–7). утвердить в добре (Рим 5, 3–5; 2 Кор 4, 16), и, наказав временно здесь, возвысить их будущую славу (Прем 3, 4–5; 2 Кор 8, 17); с другой стороны, Он попускает и благоденствие грешников по правде, ибо и грешники имеют иногда в себе немало доброго; в то же время они побуждаются к покаянию тем, что Бог, изливая на них благость, не наказывает за грех (Рим 2. 4; 2 Пет 3, 9). Главное же, – 5) правосудие Божие по отношению к людям не должно ограничивать пределами их настоящей жизни, которая для них есть только время подвигов и воспитания для вечности: есть жизнь другая, в которой правда Божия воздаст всем по заслугам, когда праведники будут вечно блаженствовать, а грешников постигнет вечное наказание.
На бытие в Боге способности, соответствующей в нашей духовной природе способности чувствований (или нашему сердцу с его отправлениями, т. е. чувствованиями), откровение указывает во многих случаях. Так, ο Боге говорится, что Он находит людей по сердцу Своему (Деян 13, 22), что Он в одних случаях радуется от всего сердца Своего (Иер 32, 41), a в других Его сердце исполняется жалости (Ос 11, 8), что Он любит правду и ненавидит беззаконие (Пс 44, 8; Притч 11, 20; Евр 1, 9).
Существенными свойствами нашего чувствующего духа являются, с одной стороны, влечение и любовь к собственному благу и чувство радования или блаженства от обладания этим благом, а с другой – влечение к благу других или любовь к другим. To и другое откровением усвояется и Богу, конечно, в высочайшей степени. К существенным свойствам Божиим со стороны Его чувствования, следовательно, относятся: 1) всеблажен{стр. 100}ство Божие и 2) бесконечная благость или любовь к тварям.
1. Всеблаженство Божие. – Это свойство в Боге есть необходимое следствие всех других Его свойств и совершенств. В Боге вся полнота бытия и жизни, бытия самобытного, и жизни, представляющей совершеннейшее единство. Это-то, собственно, и составляет верховное благо. Отсюда, Бог в Самом Себе имеет все нужное для полного блаженства; любовь к благу в Нем, поэтому, неизменно совпадает с самым его обладанием, а вследствие этого Ему от вечности должно быть свойственно неизменное всеблаженство. Понятно, что такая полнота блаженства не может быть свойственна человеку; человек хотя и имеет непреодолимое влечение к истинному благу, но не в нем самом, а вне его существуют условия, необходимые для удовлетворения этой потребности; преодолеть препятствия к достижению блага он часто бывает не в состоянии; отсюда ощущение блага или блаженства в большей или меньшей степени неизбежно ослабляется и затемняется у него чувствами неприятными, проистекающими от ощущения лишения блага или его неполноты.
Св. Писание усвояет это свойство Богу, когда называет Его блаженным (1 Тим 1, 11; 6, 15), указывает, что полнота радостей пред лицем Его, блаженство в деснице Его во век (Пс 15, 11), что Он не требует ничего (Деян 17, 26), т. е. обладает блаженством независимо ни от кого и ни от чего, что и праведники будут находить блаженство в лицезрении Божием: блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят (Мф 5, 8).
2. Бесконечная благость или любовь Божия к тварям. – Это свойство или совершенство Божие состоит в том, что Бог дарует тварям Своим столько благ и совершенств, сколько нужно для их блаженства и сколько каждая из них может принять по своей природе и состоянию.
Благость, по учению откровения, составляет как бы самую сущность Божию. «Если бы у нас, – говорит Григорий Богослов, – кто спросил: что мы чествуем и чему поклоняемся? – ответ готов: мы чтим любовь. Ибо, по изречению Св. Духа (1 Ин {стр. 10} 14, 8, 16), Бог наш любы есть» (Cл. 23). Эта-то неизреченная любовь или благость побудила Бога создать мир с разумно нравственными существами, способными любить Его и находить в Нем для себя блаженство (Еф 1, 5, 9; Ин 14, 23; Мф 25, 34). Все промыслительные действия Бога в мире суть проявлении Его благости. Вси путие Господни милость (Пс 24, 10). Благ Господь всяческим, и щедроты Его на всех делех Его (Пс 144, 9). Как бы ни была мала и ничтожна тварь, благость Божия не только не гнушается ею, но с любовью заботится ο ее жизни и нуждах. He две ли птицы (воробья) ценятся единым ассарием, – говорит Господь, – и ни едина от них падает на земли, без Отца вашего (Мф 10, 29; сн. Прем 11, 25–27).
В особенности Cвою благость Бог явил и являет в отношении к человеку. В Ветхом Завете Бог, обращаясь к Израилю, говорит: еда забудет жена отроча свое, еже не помиловати исчадия чрева своего? Аще же и забудет сих жена, но Аз не забуду тебе (Ис 49, 15). а в Новом Завете Спаситель говорит: отца не зовите себе на земли: един бо есть Отец ваш, Иже на небесех (Мф 23, 9). Он отечески внемлет всем нашим молитвам (Мф 7, 9–11), печется ο всех наших нуждах, не исключая и худых из нас, яко солнце Свое сияет на злыя и благия, и дождит на праведныя и неправедныя (Мф 5, 45; сн. Деян 17, 25), и вообще ниспосылает всяко даяние благо и всяк дар совершен (Иак 1, 17). Самым же высшим проявлением и свидетельством бесконечной благости Божией к нам слово Божие представляет совершенное единородным Сыном Божиим дело нашего искупления: тако возлюби Бог мир, яко и Сына Своего единороднаго дал есть, да всяк веруяй в Онь, не погибнет, но имать живот вечный (Ин 3, 16).
Так необъятно велика и неизреченна благость Божия по отношению к существам сотворенным! Это не то, что возможная в существах ограниченных любовь к другим. В любви человеческой, как бы она ни была бескорыстна, скрывается потребность через увеличение блага других увеличить собственное благо; {стр. 102} благость же Божия изливает дары тварям не с тем, чтобы увеличить собственное благо, ибо Бог всеблажен, а с тем, чтобы сделать их участниками блаженства. И простирается благость Божия не на какую-нибудь ограниченную часть мира, что составляет свойство любви существ ограниченных, но на весь мир, со всеми в нем находящимися существами. Милость человеча, – говорит сын Сирахов, – на искренняго своего, милость же Господня на всяку плоть (18, 12).
Совместимость в Боге с благостью правосудия. Бесконечная благость Божия, изливающая безмерное множество благ на разумно-свободные существа, кажется некоторым непримиримою с правосудием Божиим, строго наказывающим за грех. Иные из древних еретиков (гностики, особенно Маркион, манихеи, позднее – павликиане и богомилы), находя невозможным существование в едином Боге свойств любви и правосудия, даже допускали существование двух богов: бога верховного – благого, являющего себя любящим и милующим отцем (новозаветного), и бога подчиненного ему – злого, открывающегося грозным и карающим судьей (ветхозаветного). Но и в современном христианском обществе многими выражается видимое сочувствие к представлению Бога лишь Богом любви и готовность исключить из понятия ο Нем свойство правосудия. Такие представления ο Боге нельзя не признать односторонними. Конечно, Бог любы есть, но любовь Его есть любовь справедливая, как и правда Его есть правда, одушевленная любовью: любовь без правды не была бы истинной любовью (явилась бы простою чувствительностью и благодушием), равно и правда без любви не была бы истинною правдою (превратилась бы в холодность или бездушие, близка была бы к жестокости). Откровение не разделяет правду и любовь в Боге, а изображает Бога и любящим отцом и правосудным судьей, усвояя оба эти свойства Богу и каждое порознь (см. выше) и вместе, называя Его прощающим и наказывающим (Пс 98, 8; сн. 24, 8–10; 84, 11; 114, 5; 144, 7, 17; Сир 16, 13; Иер 3, 11–12 и др.), сохраняющим милость в тысячи родов, прощающим вину и преступление и грех, но не оставляющим без наказания, наказывающим вину отцов {стр. 103} в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода (Исх 34, 6–7; сн. Чис 14, 18–19).
Согласно с учением откровения и древние учители разъясняли, что истинный Бог должен быть мыслим вместе и благим и правосудным. Благость или любовь Божия к людям, рассуждали они, имеет целью их блаженство, но в основании своем она есть любовь к раскрывающемуся в людях нравственному добру, при обладании которым только и возможно их блаженство. Правда же Божия, когда она воздает блаженством за добро, является тою же любовью к людям. Но и тогда, когда она «в настоящее время долготерпения Божия» лишает грешника тех или других благ и прямо наказывает за зло, является благою, ибо главная цель земных наказаний Божиих та, чтобы, независимо от их вразумительного для всех других примера, самого грешника побудить к тому, чтобы он не грешил более и совершенно исправился. Егоже бо любит Господь, наказует, наказывает как любящий отец, для блага наказываемого (Притч 3, 11–12; сн. Евр 12, 5–8). Отсюда и самые наказания Божии отцы церкви сравнивали с медицинскими пособиями врачей, иногда тяжкими (прижигания, отсечения частей тела), но исходящими во врачах из чувства соболезнования больному и желания помочь ему. Правосудие этого вида (настоящее) является, таким образом, имеющим целью наше же собственное благо (есть δικαιοσύνη σωτήριος), а потому оно, как говорил Тертуллиан, «есть род благости», служит «оградою и светильником для благости», или, по определению отечественного святителя (митр. Филарета), есть «облачение и выражение любви». Но и правосудие Божие, имеющее проявиться в день гнева и откровения праведного суда Божия (правосудие в собственном смысле – δικαιοσύνη δικαστη), когда оно воздаст вечным блаженством, то, конечно, явится любовью же, но когда и лишит блаженства упорных и ожесточенных грешников, то не по недостатку в Боге благости или любви, a по неспособности самих нераскаянных грешников принять дары Его любви, потому, что они сами с гордостью отвергнут их. И в этом нет ничего несовместимого с Божией благостью; по отношению к бы{стр. 104}тию условному благость Божия и обнаруживается как условная или обусловленная верою и любовью людей (Ин 14, 21–23; сн. 15, 10; Пс 102, 11, 13 и 18).