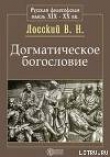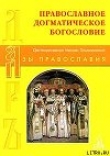Текст книги "Очерк православного догматического богословия. Часть I"
Автор книги: Николай Протоиерей (Малиновский)
Жанры:
Религия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 40 страниц)
Господа И. Христа должно признавать и исповедывать Богом в собственном и строжайшем смысле, единородным Сыном {стр. 393} Божиим, единосущным Богу Отцу, а не усыновленным, подобно сынам Божиим по благодати.
I. Божественное величие и достоинство Искупителя довольно ясно предуказано еще в ветхозаветных изображениях и наименованиях Мессии (Сын Мой, т. е. Божий, Бог – Elohim, Adonai, Jehovah, El gibbor, т. е. Бог крепкий), в яснейшем же свете изображается в Новом Завете, и прежде всего в учении Самого И. Христа. Неосновательно утверждение рационализма, будто Сам И. Христос не учил ο Себе, как Сыне Божием по естеству, равном Богу Отцу, не требовал Себе и божеского почитания, а если и называл Себя иногда Сыном Божиим, то только в смысле нравственного единства с Отцом, а не по существу. Правда, когда И. Христос говорил ο Своем собственном лице, то обыкновенно называл Себя не Богом, а только Сыном Отца или Сыном Божиим (напр.. Ин 9, 35; 10, 36; 11, 4; 3, 16). Ho в устах И. Христа в приложении к Себе это наименование было равносильно названию Себя истинным Богом. Это ясно уже из того, что Он нередко называл Себя не просто Сыном Божиим, а Сыном Божиим единородным, и всегда отличал Себя и других в их сыновних отношениях к Богу: Он никогда не говорит ο Боге «наш Отец» (исключение – при научении людей молитве), а Мой Отец и ваш Отец.
И. Христос и прямо учил, что Он есть Сын Божий в особенном и исключительном смысле. Так, Он говорил. что Сын имеет такую же самосущую жизнь, как и Отец: якоже Отец имать живот в Себе, тако даде и Сынови живот имети в Себе (Ин 5, 26). Он равен Богу Отцу: Аз и Отец едино есма (Ин 10, 30) и видевый Его виде Отца (Ин 14, 9). Он владеет таким же, как и Отец, могуществом и властью: якоже Отец воскрешает мертвыя и живит, тако и Сын, ихже хощет, живит (Ин 5, 21). Он один знает небесного Отца и может открыть имя Его людям: никтоже знает Сына, токмо Отец, ни Отца кто знает, токмо Сын, и емуже аще волит Сын открыти (Мф 11, 27; Лк 10, 22). Такие слова невозможны в устах И. Христа, как простого человека, «Сына Божия» в {стр. 394} общем значении: простой человек не может сказать ο себе, что знает Бога более, чем кто-либо другой. Бытие Его с Отцом и в Отце – бытие вечное, и не в смысле предсуществования в мысли и предведении Отца, но бытия личного, ипостасного: аминь, аминь глаголю вам, прежде даже Авраам не бысть (γενέσθαι – явился), Аз есмь (Ин 8, 58: сн. 1, 1–3). В молитве к Отцу Он взывал: и ныне прослави Мя, Ты, Отче, у Тебе Самого славою, юже имех у Тебе прежде мир не бысть (17, 5; сн. 17, 21).
Были случаи, когда И. Христос особенно решительно и ясно свидетельствовал ο Cвоем божестве. Так было, напр., близ Кесарии Филипповой, когда ап. Петр от лица всех апостолов исповедал Его Христом, Сыном Бога живаго (ό Υιός τού Θεού τού Ζώντος). Приняв это исповедание, И. Христос тем засвидетельствовал, что Он есть истинный Сын Божий, равный Отцу. Доказывая Свое право исцелять в субботу (в беседе по поводу исцеления расслабленного – Ин 5 гл.), Он говорил иудеям: Отец Мой доселе делает, и Аз делаю. Этими словами Он усвоял Себе и божественное сыновство и равенство во власти с Отцом. Так и были поняты Его слова иудеями. Наконец, решительное свидетельство ο Себе И. Христос дал перед Своей кончиной. На последнем суде первосвященник спросил Его: заклинаю Тебя Богом живым, да речеши нам, аще Ты еси Xpucmoc, Cын Божий (Мф 26, 63). Христос ответил: ты рекл еси (64 ст.), т. е. твои уста исповедали, что Я Сын Божий (Аз есмь – по Мк 14, 62).
Утверждая Свое равенство с Богом Отцом, И. Христос учил, что Ему принадлежит одинаковое поклонение с Ним. Веруйте в Бога, и в Мя веруйте (Ин 14, 1), а вера составляет один из видов богопочтения (Ин 6, 29). Когда И. Христос требовал веры, то требовал не просто доверия к словам Его, а именно признания или исповедания Его единородным Сыном Божиим и истинным Богом, да всяк веруяй в Онь не погибнет (Ин 3, 16–18; 6, 28–29; 1 Ин 3, 23; 4, 15), да вси чтут Сына, якоже чтут Отца; а иже не чтит Сына, не чтит Отца, пославшаго Его (Ин 5, 23).
{стр. 395}
Апостолы, научая исповедывать божество Сына Божия, как второго лица Св. Троицы (сн. § 30), об И. Христе свидетельствовали, что Он есть истинный Сын Божий (Ин 20, 31), Сын Божий собственный (ίδιον – Рим 8, 32), Бог. Так, ап. Иоанн учит, что Бог бе Слово (Θεός ην ό Λόγος, где Θεός – без члена – сказуемое), что Слово плоть бысть и есть единородный Сын Божий (Ин 1, 14). В своем послании ап. Иоанн говорит об И. Христе: вемы, яко Сын Божий прииде, и дал есть нам свет и разум, да познаем Бога истиннаго, и да будем во истиннем Сыне Его Иисусе Христе. Сей (ούτος, т. е. И. Христос) есть истинный Бог и живот вечный (1 Ин 5, 20). Ап. Павел учит: велия благочестия тайна: Бог явися во плоти (1 Тим 3, 16). Одно из преимуществ иудеев, по словам апостола языков, то, что от них Христос по плоти, сый над всеми Бог, благословен во веки (Рим 9, 5). О них же апостол говорит: аще быша разумели, не быша Господа славы распяли (1 Кор 2, 8). В И. Христе живет (κατοικεί – постоянно обитает) всякое исполнение Божества (πάρ τό πλήρωμα τής Θεότητος, – вся полнота божественного естества, а не просто божественность, или божественное начало) телесне (σωματικώς – и в самом теле), т. е., подобно тому как душа обитает в нашем теле, так божество обитает, в И. Христе, существенно соединяясь не только с духовной, но и с телесной Его природой (Кол 2, 9). Тот же апостол говорит об И. Христе: иже во образе Божии сый, не восхищением непщева быти равен Богу, по Себе умалил, зрак раба приим (2, 5–7).
Наконец, апостолы учат, что И. Христу должно воздавать божеское поклонение. Обязанность богопочтения к Нему в их писаниях изображается как общеизвестная, а где прямо говорится в их посланиях ο поклонении И. Христу, там приводится определение Бога ο поклонении ангелов Господу Иисусу, напр., в посл. к евреям: егда же паки вводит Первороднаго во вселенную, глаголет: и да поклонятся Ему вси ангели Божии (Евр 1, 6), или указывается, что Ему подобает воздавать {стр. 396} божеское поклонение не только по божескому достоинству Его, как единородного от Отца, но и потому, что Он смирил Себе, послушлив быв даже до смерти, смерти же крестныя, почему и Бог Его превознесе и дарова Ему имя, еже паче всякого имене, да ο имени Иисусове всяко колено поклонится небесных и земных и преисподних (Фил 2, 8–11; сн. Евр 2, 9). И сами апостолы призывали имя Господа Иисуса, как истинного Бога (Деян 1, 24; 7, 59–60, 22, 16; Рим 10, 13; 1 Кор 1, 2; 2 Кор 12, 8, и др.).
II. Церковь исповедывала во все времена и исповедует Господа и Спасителя И. Христа Сыном Божиим единородным и истинным Богом. Вера церкви во Христа-Бога сокращенно изложена, сохраняется и предлагается всем ее членам в символе Никео-Цареградском. Такова же была вера церкви в божество И. Христа и до Никейского собора. Она ясно выражена в кратких исповеданиях веры при крещении (символах поместных церквей), кратких славословиях, бывших в большом употреблении в древней церкви, в священнодействиях (особенно крещения и евхаристии), в празднествах и священных временах, обличении и отлучении от церкви на соборах еретиков, отвергавших божество Искупителя, – вообще во всей жизни древней церкви. Исповедание этой веры начертано на скрижалях истории кровью бесчисленных мучеников за имя Христово. Мучеников воодушевляла мысль, что они страждут за Бога, Который Сам пострадал за них, страждут подобно Богу, за них пострадавшему и обещавшему Своим подражателям «победные венцы». Даже враги христианства, иудеи и язычники, – и те знали, что христиане почитают Христа, «как Бога», воспевают Ему песни, «как Богу», признают Его «вторым Богом», т. е. исповедуют Его воплотившимся Богом.
III. На вопрос ο том, почему для совершения дела нашего спасения воплотился именно Сын Божий, а не Отец и не Дух Святый, – откровение не дает вполне прямого ответа, но некоторые руководственные данные к уразумению этой тайны Божества в нем находятся. Оно дает видеть, что Сыну Божию принадлежит деятельность посредствующая в истории откровения:
{стр. 397}
Он изображается в Писании, как Слово Отца, через Которое все начало быть (Ин 1, 3; ср. 10; Притч 8, 22 и сл.). В дальнейшей истории мира, через Него изливается в мир жизнь, исходящая от Отца; Он является источником божественного света для человечества, источником истинного познания Бога и общения с Ним (Ин 1, 4). Обетования и прообразы Ветхого Завета, закон и пророки – все это были действия спасения, предустроявшегося Сыном Божиим через Духа пророческого. От Него же исходили лучи света, светившие и во тьме язычества (Ин 1, 5). Проходя таким образом через всю историю мира, эта деятельность Сына Божия, как Спасителя, должна была завершиться по исполнении полноты времени таким действием, в котором идея спасения находила бы полное свое осуществление, т. е. делом, чрез которое человечество возводилось бы в первоначальное свое состояние полного богообщения. Таким завершительным делом и было воплощение Сына Божия для совершения Им дела искупления. Из древних учителей церкви наиболее подробно в этом смысле выяснял причины воплощения именно Сына Божия св. Афанасий В. в слове «О воплощении Бога Слова и ο пришествии Его к нам во плоти».
Воплощение Бога Слова находится в соответствии и с ипостасным свойством Его, как Сына: «Отец есть Отец, а не Сын, – говорил И. Дамаскин.; – Сын есть Сын, а не Отец; Дух Святый есть Дух, а не Отец, также не Сын. Ибо свойство – неподвижно… Поэтому Сын Божий делается Сыном человека для того, чтобы свойство осталось неподвижным. Ибо, будучи Сыном Божиим, Он сделался Сыном человека, воплотившись от Св. Девы и не лишившись сыновнего свойства» (Точн. изл. пр. в. IV, 4).
I. Будучи Богом истинным, И. Христос есть вместе совершенный человек, единосущный и во всем нам подобный, кроме греха. Символ веры научает исповедывать И. Христа Богом воплотившимся (οαρκωκθέντα) и вочеловечшимся (ένανθρωπή-{стр. 398}σαντα), т. е. воспринявшим целостную человеческую природу со всей полнотой ее составных частей и сил. Таким, т. е. не Богом только, но и человеком, изображается И. Христос и в евангелиях и во всем Писании Нового Завета. Так, рождение Его последовало по прошествии обычного времени чревоношения (Лк 2, 6). По исполнении восьми дней от рождения Он был обрезан (Лк 2, 21), a по прошествии дней очищения матернего принесен в храм для посвящения Господу (Лк 2, 22). Ο дальнейшей жизни Его евангелист замечает: отроча же растяше и крепляшеся духом… преспеваше премудростию и возрастом и благодатию у Бога и человек (Лк 2, 40, 52). Вообще все видели в Нем подобного прочим Сына человеческого, – и никогда Он не встречал надобности удостоверять кого-либо в истине Своего человечества.
В частности, откровение усвояет Ему человеческое тело, – не ангельское, не призрачное, не подобное только человеческому, а во всем всецело человеческое. Ев. Иоанн свидетельствует ο Сыне Божием: Слово плоть бысть, и вселися в ны (1, 14). Он же пишет: всяк дух, иже не исповедует Иисуса Христа во плоти пришедша, от Бога несть; и сей есть антихристов (1 Ин 4, 3; сн. 2 Ин 7 ст.). По мысли ап. Павла: понеже убо дети приобщишася плоти и крови, и Той приискренне приобщися техже (σαρκός και αϊματος) He от ангел бо когда приемлет, но от семене Авраамова приемлет (Евр 2, 16; сн. 2 Кор 4, 11; Рим 1, 3; 9, 5). Тело И. Христа представляется в Св. Писании имеющим обычные свои составные части: голову (Мф 27, 29–30), руки и ноги (Ин 12, 3), персты (8, 6), голени (19, 33), равно и свои естественные свойства. Так, оно было подвержено утомлению (Ин 4, 6), требовало успокоения и сна (Мк 4, 38; Лк 8, 23), имело нужду в пище и питии (Мф 4, 2; Лк 4, 2 и др.), было способным к болезненным ощущениям и страданию (Лк 22, 41–44; Ин 19, 34–35 и др.), по смерти предано погребению (Мк 15, 46; Мф 27, 50–61 и др.). Таким образом Писание выше всякого сомнения поставляет действительность воплощения (ένσάρκωσις) Сына Божия и {стр. 399} показывает, что воплощение Сына Божия нельзя понимать так же, как понимаются бывшие в Ветхом Завете богоявления (теофании), или явления ангелов в человеческом образе, ибо видимая форма этих явлений была призрачной.
Усвояется И. Христу и истинно человеческая душа (ψυχή и πνεύμα). Так, перед наступлением крестных страданий Господь говорил Своим ученикам: прискорбна есть душа Моя (ή ψυχή Μού) до смерти (Мф 26, 38), а в минуту смерти воззвал к Отцу Своему: Отче, в руце Твои передаю дух Мой (το πνεύμα Μού – Лк 23, 46). Душа И. Христа представляется с принадлежащими человеческой душе силами и свойственными их проявлениями. Так, замечание евангелиста, что Иисус преспеваше премудростью, дает понятие ο том, что во Христе человеческий ум и в ближайшем единении с божеством постепенно исполнялся премудростью и ведением. Подобным образом усвояется И. Христу человеческая воля. Сам Он в молитве к Отцу изъявлял желание человеческой воли: Отче Мой, аще возможно есть, да мимоидет от Мене чаша сия: обаче не якоже Аз хощу, но якоже Ты (Мф 26, 39; Лк 22; 42; сн. Евр 5, 7). Говорится об И. Христе, что Он возмущался духом (Ин 11, 33; 12, 27; 13, 21), скорбел и тужил при мысли ο страданиях и смерти (Мф 26, 37–38; Лк 22, 42–45), печаловался ο народе, который, слушая Его несколько дней, не вкушал пищи (Мк 8, 2), радовался, когда видел явление славы Божией в человеках (Лк 10, 21; Ин 11, 15), сожалел об Иуде, чаде погибели (Ин 13, 21), изъявлял особенную любовь к детям и негодование на возбранявших им приближаться к Нему (Мк 10, 13–16) и пр.
II. Церковь неизменно отвергала и отвергает учения, которыми И. Христос признается не единосущным нам по человечеству, – по телу или по душе. Древние же отцы церкви в своих разъяснениях этого догмата показывали, что и самою целью воплощения Сына Божия требовалось принятие Им полного и совершенного человечества. Свое служение, как Ходатая или Посредника (Μεσίτης – 1 Тим 2, 5) между Богом и {стр. 400} людьми, учили они, Он мог совершить не иначе, как соделавшись истинным человеком. «Посредник, – говорит Златоуст, – должен быть в сродстве с тем и другим, чтобы быть ему посредником. Если он будет иметь только сродство с одним, а с другими нет, то не может быть посредником… Будучи только человеком, Он не был бы посредником; ибо посредник должен быть в ближайшем отношении к Богу. Будучи только Богом, также Он не был бы посредником; ибо не могли бы приблизиться к Нему те, за которых Он посредствует». (На 1 Тим Бес. VII, 2). Исходя из этого понятия ο Христе, как Посреднике, Который в Своем лице должен был восстановить и уврачевать всю человеческую природу, древние учители утверждали, что и Сам Он должен был воспринять ее во всей полноте. «Что не воспринято, то не уврачевано; но что соединилось с Богом, то и спасается», – говорил Григорий В. в обличение лжеучения Аполлинария. «Ему (Искупителю) нужны были как плоть ради осужденной плоти и душа ради души, так и ум ради ума, который в Адаме не только пал, но, как говорят врачи ο болезнях, первый был поражен» (К Кледонию, 1 посл.).
Отсюда можно видеть, почему для христианина исповедание полного и совершенного человечества И. Христа так же необходимо, как и исповедание Его божества. Если Его человечество призрачно, «то, – как говорил И. Дамаскин, – и таинство домостроительства было ложью и обманом»; если Сын Божий «по-видимому только, а не по истине сделался человеком, то и мы спасены призрачно, а не поистине» (Точн. изл. пр. в. III, 6).
Будучи совершенным и одного с нами естества человеком, И. Христос однако отличается по Своему человечеству от всех людей некоторыми существенными преимуществами: 1) Он родился не так, как рождаются все люди, а сверхъестественным образом; 2) Он есть человек безгрешный.
Происхождение Искупителя мира не могло совершится порядком естественного рождения. Путем обычного рождения человека {стр. 401} от человека необходимо происходят люди, зараженные грехом. Но природе Искупителя грех должен быть чужд с самого начала. Искупитель, рожденный от греховной похоти, есть понятие само по себе противоречивое. Зараженная грехом человеческая природа не могла быть и воспринята в ипостасное единение Богом-Словом. Поэтому рождение Его должно было иметь характер чудесный, в силу которого порывалась связь с грехом, передаваемым по закону естественного рождения. Так и было в действительности: Он родился «от Духа Свята и Maрии Девы».
I. Предуказания на необыкновенное происхождение Мессии находятся в Ветхом Завете. Еще прародителям было сказано: Семя жены (а не мужа) сокрушит главу змия. Пр. Исаия предвозвещал: се Дева (ha-alma, ή παρθένος) во чреве зачнет, и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил (7, 14). В евангельских описаниях (у ев. Луки и Матфея) обстоятельств рождения И. Христа прямо изображается, что рождение Его совершилось силою и наитием Св. Духа на Пресвятую Деву.
Архангел Гавриил, благовествуя ο рождении Иисуса Деве, обрученной мужу (Лк 1, 26–38), говорит Ей: обрела бо еси благодать у Бога. И се зачнеши во чреве, и родиши Сына, и наречеши имя Ему Иисус (30–31 ст.). Мария смутилась от слов его, и рече ко ангелу: како будет сие, идеже мужа не знаю (‘άνδρα ού γιγνώσκω)? Ού γιγνώσκω – не знаю выражает состояние не только в настоящем, но и в прошедшем и будущем. He знаю ‘άνδρα (а не τόν άνδρα или τόν ‘άνδρα μου), т. е. не только мужа Иосифа, а вообще всякого мужа не знаю (γιγνώσκω – в значении Быт 19, 8; Суд 11, 3; Чис 31, 17 – не позна мужа), не знаю теперь, не узнаю его и никогда (очевидно, как и свидетельствует предание, по обету девства). В ответ на это ангел открыл Ей величайшую тайну: Дух Святый найдет на Тя, и сила Вышнего осенит Тя; темже и рождаемое свято наречется Сын Божий (35 ст.). Образ ангельской речи имеет близкое сходство с описанием действия Духа Божия при начале творения, когда носился Он животворно над первозданным ве{стр. 402}ществом мира. Этим действием, по словам архангела, заменится участие мужа при рождении Сына Вышнего – Иисуса; следовательно, Он есть такой Сын, Который родится от жены без мужа, наитием Духа Святаго, силою Вышнего, почему и будет Сын Вышнего (по человечеству Своему).
Та же тайна утверждается в благовестии Иосифу ο рождении Господа Иисуса (Мф 1, 18–25). Евангелист повествует: обрученней бо бывши Матери Его Марии Иосифови, прежде даже не снитися има (πρίν ή συνελθείν αυτούς – прежде, чем они стали жить вместе, т. е. в одном доме), обретеся имущи во чреве от Духа Свята (18 ст.). «Буря помышлений сумнительных», по выражению церковной песни, восстала в душе праведного старца Иосифа, не знавшего тайны, когда он заметил положительные признаки чревоношения обрученной ему Девы. И когда он, не хотя Ея обличити, восхоте тай пустити Ю, ангел Господень во сне явися ему, и сказал: не убойся прияти Мариам, жены твоея: рождшеебося в Ней (το έν Αύτη γεννηθέν – т. е. то, что получало в Ней зачатие, – плод, находящийся в Ней) от Духа есть Свята. Родит же Сына, и наречеши имя Ему Иисус: Той бо спасет люди Своя от грех их. В объяснение такого необыкновенного рождения евангелист замечает: сие же все бысть, да сбудется реченное от Господа пророком, глаголющим: се, Дева во чреве приимет… Иосиф, послушный повелению ангела, прият жену свою, и не знаяше Ея, дондеже роди Сына своего первенца, и нарече имя Ему Иисус.
Что Иосиф не имел участия в рождении Иисуса, это евангелисты показывают и в своих родословиях И. Христа. Так, ев. Матфей ο рождении И. Христа выражается иначе, чем ο рождении Его предков по человечеству. О последних он говорит. Авраам роди (έγέννησε) Исаака, Исаак же роди Иакова, Иаков же роди Иуду и т. д., ο рождении же И. Христа не говорит: «Иаков же роди Иосифа, Иосиф же, муж Марии, роди Иисуса, глаголемого Христа», как следовало бы ожидать по предыдущему, а говорит: Иаков же роди Иосифа, мужа Ма{стр. 403}рии, из Нея же родися (έγεννήθη) Иисус, глаголемый Христос (Мф 1, 16). Этой переменой в конце родословия обычного, употребляемого им способа перечисления передков Иисуса, евангелист ясно показывает, что лишь одна Мария стоит в непосредственном отношении ко Христу, как Матерь Его, и что Иосиф, муж Ее, не имел участия в Его рождении. Замечательна подобного же рода особенность и в родословии, приводимом в ев. Луки: и был (Иисус), яко мним (ώς ενομίζετο – как думали, полагали) сын Иосифов, а окончено родословие Иисуса словами: Адамов, Божий (τού Θεού).
II. Сверхъестественность рождения И. Христа отвергают разного рода рационалисты и пантеисты как древнего, так и нового времени. Общим основанием к такому отрицанию является для них чудесность этого события и непостижимость его для разума. Основание, конечно, не достаточное. Для ума человеческого составляет тайну и зарождение каждой человеческой жизни. Законы природы вообще, и в частности законы относительно распространения человеческого рода через рождение, установлены живым и личным Богом, и Он имеет власть изменять их согласно целям Своего благодатного царства. Думать иначе значило бы признавать естественный порядок выше Бога и отрицать Его всемогущество. Не желая видеть в И. Христе ничего более, как только сына Иосифова, рационалисты думают находить в самом Писании доказательства естественного происхождения И. Христа. Указывают, что в евангелиях И. Христос везде представляется сыном Иосифа и Марии: таким знали Его соотечественники и весь еврейский народ (Ин 6, 42; 7, 27; Мф 12, 17); братья Его не веровали в Него (Ин 7, 5), что невозможно было бы, если бы они признавали Его рождение чудесным. Сама Дева называет Иосифа отцом Его (Лк 2, 48). Ни Сам И. Христос, ни Матерь Его, ни ученики ни разу не делали попыток доказать Его божественность указанием на сверхъестественное рождение и опровергнуть общее мнение. Сама Дева Мария умолчала перед Иосифом ο чудесном Его зачатии. Но все эти возражения против сверхъестественности рождения И. Христа нельзя признать основательными. Неверующие современники {стр. 404} И. Христа могли называть и называли Его сыном Иосифа потому, что юридически Он действительно был «сын» Иосифа, как и сам Иосиф юридически мог быть назван «мужем» Марии (Мф 1, 16, 19). Иосиф был обручен Марии, а обручение, по закону иудейскому (Втор 22, 23–24), считалось равносильным браку. Иисус и жил в доме Иосифа и пользовался его отеческими попечениями. При неизвестности тайны Его рождения, они иначе и не могли называть Его, как сыном Иосифа. Равно и сама Мария, когда говорила: «отец Твой (Иосиф) и я», то так говорила потому, что это был единственно возможный способ, как она могла говорить с своим Сыном об Иосифе в присутствии других и в годы отрочества И. Христа. Разглашать об этом событии не было возможности и необходимости ни Матери Иисуса, ни Ему Самому, ни Его ученикам, ибо иудеи еще не созрели для понимания этого чуда, а неверие могло сделать предметом злоречия самую тайну рождения. Поэтому И. Христос, а также и Его ученики, в доказательство божественности Христа ссылались на более очевидное, – на Его чудеса. В этой же прикровенности событий и причина умолчания ο тайне зачатия со стороны Марии перед Иосифом (Злат. На Мф Бес. IV, 4). По той же причине могли не знать ο тайне рождения Иисуса и Его братья (не дети Девы Марии). Вообще же должно помнить, что обыкновенные способы человеческого понимания не приложимы к таким необыкновенным событиям, как чудо рождения Спасителя, описанное евангелистами. Ни Писание, ни Предание не сообщают нам столько данных, чтобы поднять завесу, которая скрывает от нас эту тайну.