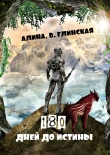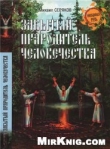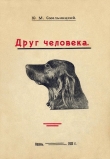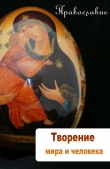Текст книги "Очерк православного догматического богословия. Часть I"
Автор книги: Николай Протоиерей (Малиновский)
Жанры:
Религия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 40 страниц)
Невинное и блаженное состояние прародителей не было состоянием неизменным и не досталось в удел их потомкам. Бытописатель не указывает, как долго жили прародители в раю, но говорит, что они нарушили завет с Богом и пали. Возможность падения первых людей заключалась в том, что они стояли еще на пути испытания, и свобода их не была еще совершенно утверждена опытом и навыком в добре. Впрочем ясно, что при тех совершенствах, какими обладали они, и при постоянном их общении с Богом, это была только возможность падения, так что падение их было бы непонятно, если бы бытописание не открывало первоначального источника и причины его вне человека.
О грехопадении прародителей бытописатель повествует так: змий же бе мудрейший всех зверей, сущих на земли, ихже сотвори Господь Бог. И рече змий жене: что яко Рече Бог: да не ясте от всякаго древа райского? И {стр. 312} рече жена змию: от всякаго древа райского ясти будем от плода же древа, еже есть посреде рая, рече Бог, да не ясте от него, ниже прикоснетеся ему, да не умрете. И рече змий жене: не смертию умрете. Ведяше бо Бог яко в оньже аще день снесте от него, отверзутся очи ваши, и будете яко бози, ведяще доброе и лукавое. И виде жена, яко добро древо в снедь и яко угодно очима видети, и красно есть еже разумети: и вземше от плода его, яде; и даде мужу своему с собой, и ядоста (III, 1–6).
Таким образом, грех проник в человеческую природу под влиянием змея-искусителя; который прельстил Еву к преступлению заповеди. Под змеем-искусителем в собственном смысле нужно разуметь не обыкновенного змея, но особое существо – духовное, разумное и при этом злое, которое только пользовалось змеем-животным, как орудием искушения. Таким существом был отпадший от Бога ангел, т. е. диавол. В других местах Писания искушение прародителей ко греху и приписывается прямо диаволу. Так, Спаситель называет диавола человекоубийцею искони, и именно потому, что он виновник греха и смерти в человеческом роде, а всех грешников – сынами диавола (Ин 8, 44), Ап. Иоанн также называет того великого дракона или древнего змия, который искушал человека, диаволом и сатаною, обольщающим вселенную (Апок 12, 9; 20, 2–3). Ап. Павел, говоря, что змий Еву прельсти лукавством своим, под хитростью змия разумел хитрость сатаны, говорившего посредством этого животного (2 Кор 11, 3). В кн.. Премудрости говорится: завистью диаволею смерть в мир вниде (2, 24).
Но, хотя грехопадение прародителей совершилось под влиянием диавола, внутренняя и главная причина происхождения греха заключалась в самих прародителях, в их свободе. Диавол явился в рай не как притеснитель человека, но как обольститель, который мог действовать хитростью, советом, внушением, именно теми орудиями, которые хотя могут действовать на свободу, но не могут ее принудить, С другой стороны, – и {стр. 313} сами люди обладали всеми средствами, чтобы отразить все его коварные внушения. а потому, если они склонились на сторону искусителя, самим делом явили непослушание Богу, – тo не по необходимости и принуждению, a по решению собственной свободы. Итак, грех в первых людях произошел от их свободы под влиянием искушения их со стороны диавола. Таковы же источники греховных действий и всех потомков Адамовых. Следовательно, нельзя считать Бога виновником греха, ни самый грех – явлением необходимым в человеческом роде.
В библейском повествовании ο падении человека дается понятие и ο самой сущности греха, совершенного прародителями. Видимая сторона греха состояла в нарушении положительной заповеди Божией чрез вкушение плода с запрещенного древа. Но эта заповедь дана была первым людям непосредственно Самим Богом и являлась, таким образом, выражением Его воли. Отсюда, с внешней (формальной) стороны грех первых людей, как и всякий грех (грех есть беззаконие – 1 Ин 3, 4), был преступлением нравственного закона и преслушанием воли Божией (Рим 5, 15–20). Но по внутреннему своему существу этот грех заключался в горделивом разъединении твари со своим Творцом, был проявлением непомерного самолюбия, выразившегося в желании достигнуть равенства с Богом и быть в полной независимости от Него. Следовательно, это тот же грех, который был причиной ниспадения самого искусителя и многих из горних духов с высоты ангельского величия в бездну гибели и унижения. Характер обнаружения такого превратного нравственного настроения в человеке имел лишь ту особенность, свойственную собственно человеку, как существу духовно-телесному, что к чисто духовному желанию – «быть, яко бог», присоединилось желание преступного чувственного удовольствия.
У бытописателя относительно подробно говорится только ο грехопадении жены, а ο падении мужа лишь замечено, что жена даде мужу своему, т. е. запрещенный плод, и он ел. Об особенном искушении его и побуждениях ко греху умалчивается, – указано лишь, что он согрешил потому, что послу{стр. 314}шал гласа жены своея, т. е. более, нежели Господа. Поэтому можно думать, что он пал вследствие убеждений жены и пристрастия к ней, разделив, конечно, и все греховные ее помыслы и чувства.
Указанными свойствами греха объясняется и его чрезвычайная преступность или тяжесть, – столь великая, что для восстановления человека и уничтожения всех следствий грехопадения потребовалось такое средство, как воплощение и смерть Сына Божия. Блаж. Августин называет грех Адама «неизъяснимым отступничеством» (ineffabilis apostasia), и говорит, что громадность этого греха даже не может объять наша мысль. «Здесь были, – говорит он, – и гордость, потому что человек восхотел находиться во власти более своей, нежели Божией; и поругание святыни, потому что не поверил Богу; и человекоубийство, потому что подвергнул себя смерти, и любодеяние духовное, потому что непорочность человеческой души нарушена убеждением змия; и татьба, потому что воспользовался запрещенным древом; и любостяжение, потому что возжелал большего, нежели скольким должен был довольствоваться» (Enchirid с. 45). A Тертуллиан в нарушении заповеди прародителями видел нарушение всего десятословия (Пр. иудеев, 2 гл.).
Впрочем, грех прародителей не столь тяжел, как грех самого соблазнителя, падшего духа; не люди были первыми виновниками зла в мире не они в первый раз измыслили его, а согрешили по наущению отца лжи и всякого греха.
Исторический характер сказания Моисея ο грехопадении.
Сказание это должно быть понимаемо буквально. По разным соображениям многие не находят возможным такое понимание. Еще в древности некоторые (Филон, Климент Ал., Ориген) понимали его, как аллегорию, иносказание. В новейшее время отвергают его исторический характер рационалисты. Но нельзя предположить, чтобы Бог в откровении столь существенно важной истины, как происхождение зла в мире, чрез аллегорию и символы вводил людей в разные недоумения и колебания, переходящие нередко в заблуждения. Сам бытописатель научает видеть в своем повествовании подлинную историю происхождения зла и греха {стр. 315} в мире. В связи с рассказом ο грехопадении в тех же главах его несомненно исторической книги находятся географические, этнографические и чисто исторические указания, не допускающие аллегорического понимания. Все ветхозаветное законодательство, весь жертвенный культ и вообще все учение ο спасении стоит в связи с рассказом кн. Бытия ο грехопадении, как историческом событии. Свящ. писатели и Ветхого и Нового Завета ссылаются на этот рассказ, принимая его за подлинную историю грехопадения (напр. Ос 6, 7; Прем 2, 23–24; Сир 25, 27; Рим 5, 12–21; 2 Кор 11, 3; 1 Тим 2, 14 и др.). Равно и отцы и учители церкви обыкновенно понимали и объясняли рассказ ο грехопадении в собственном, буквальном смысле, как истинную историю (напр. Злат. На Быт 16 бес; Август. Ο кн. Бытия XI, 27–35; Ефрем Сир. На Быт 3 гл. и др.). Наконец, подтверждением исторического характера его могут служить существующие у многих языческих народов сказания ο начале зла в мире, сходные с библейским. Это сходство состоит не в общей или основной только мысли, но и в подробностях. В них упоминается ο жене, как первой виновнице несчастий человека, ο божественной заповеди, ο каком-то особенном растении, от вкушения которого произошло зло на земле, ο злом существе, в образе змея или другого какого-либо чудовища, искушавшего жену и т. п. Очевидно, сходство преданий ο грехопадении, как и ο райской жизни, может быть объяснено только тем, что в основе их лежит воспоминание ο действительных событиях, совершившихся на заре человеческой истории и описанных в Библии.
Разъяснение недоумений по поводу Моисеева сказания ο грехопадении прародителей. – Библейское сказание ο грехопадении, особенно ввиду необъятной глубины зла, происшедшего вследствие греха прародителей, не свободно от некоторых возражений и недоумений.
1. Предлагают вопрос: если грех произошел от свободы человека, то зачем Бог дал человеку свободу, в которой заключалась возможность греха? Ответ на это недоумение можно дать следующий. Даруя человеку свободу, Бог возвысил его над всеми неразумными тварями. Следовательно, роптать на Бога за дар свободы, значит роптать на то, что Он слишком благ к человеку, что не уравнял его с животными. Что же касается дарования человеку свободы с возможностью греха, то без такой воз{стр. 316}можности свобода не отличалась бы от необходимости. Тогда и добродетель не была бы заслугою и он пользовался бы блаженством не по праву. При этом нужно иметь в виду, что возможность греха в свободе человека, по мере укрепления последней в добре, постепенно ослабевала бы и, наконец, перешла бы в невозможность греха, как свобода утвердившихся в добре ангелов и святых людей в загробной жизни.
2. Зачем, говорят далее, Бог дал человеку заповедь, когда предвидел нарушение ее? Такая заповедь необходима была для упражнения и укрепления воли его в добре. В даровании заповеди видна любовь Божия к человеку, дабы он, развиваясь сообразно с своей природой и назначением, мог снискать еще высшее блаженство, чем какое даровано ему по сотворении. И при этом заповедь эта для того, кто владел целым раем и всей землей была заповедью легкой. В невинном состоянии человека и запрещение не имело того раздражающего и возбуждающего характера, как желание в состоянии человека падшего (Рим 7, 7). Но и в падшем состоянии не закон виновен в том, что люди его нарушают, подобно тому, как в худом употреблении лекарства виновен не врач, а больной.
3. Зачем, возражают, допущен Богом в рай искуситель, и притом столь хитрый и сильный во зле, когда Бог предвидел обольщение им прародителей? Бог не возбранил диаволу искушать человека потому же, почему не возбранил и человеку сорвать смертоносный плод с древа познания. Для этого надлежало бы лишить их свободы, но нераскаянна дарования Божия. Диавол не обладает и всесильной властью над человеком. Он явился в рай не как притеснитель, а как искуситель. Человек при помощи богодарованных ему сил, светлых и непомраченных грехом, осеняемый благодатью Божиею, мог оказать искушению противодействие и победить его. При том же Адам согрешил, последовав внушению не диавола, а жены своей.
4. Высказывают еще такое недоумение: так как Бог от вечности предвидел, что человек не устоит в добре, падет вместе с собой низринет в погибель и бедствия всю тварь, то зачем же Он создал его? Недоумение древнее, волновавшее умы ветхозаветных праведников (3 Езд 7, 46–54). Но, предвидев падение человека, Он от вечности же предопределил и искупление (Ап 13, 8). «Бог {стр. 317} знал, говорит св. И. Златоуст, что Адам падет, но видел, что от него произойдут – Авель, Енос, Енох, Ной, Илия, произойдут пророки, дивные апостолы – украшение естества, и богоносные облака мучеников, источающие благочестие». Он дал падшему человечеству средства возвратиться в прежнее блаженное состояние; если же не все ими пользуются и иные погибают, то это их собственная вина и, если бы ради этих Бог лишил, радости блаженного бытия миллионы разумных существ, то не значило ли бы это, что Он из-за зла отказал в бытии и добру. «Тогда зло победило бы благость Божию» (Дамаскин Точн. изл. в. IV, 21).
Грех, совершенный прародителями в раю, сопровождался разнообразными гибельными последствиями для человечества, т. е. как для самих прародителей, так и для всего происшедшего от согрешивших потомства. Церковью еще в древности (в V в.) было отвергнуто, как ложное, учение, будто нарушение прародителями райской заповеди не имело никаких особых последствий ни для самих прародителей, на для их потомства (мнение пелагиан, в новейшее время повторяемое социнианами и рационалистами). Следствия грехопадения, по учению православной церкви (см. Посл. вост. патр. 6 и 14 чл. Прав. исп. 12–24; Катих. 3 чл.), простираются на душу человека, на его тело и внешнее благосостояние. Даже самая видимая природа подверглась проклятию за грех человека. Следствия эти однако не суть только естественное произведение греха, но некоторые из них служат положительными наказаниями со стороны правды Божией за грех.
I. Человек в нарушении заповеди Божией обнаружил горделивое стремление к независимости от Бога, внутренне возжелал сам быть богом. Первым следствием такого отчуждения человека от Бога было то, что душа лишилась благодати Божией укреплявшей естественные силы невинного человека в направлении к добру. Через это человек сам себя обрекал на духовную смерть, согласно определению Божию: в оньже аще день снесте от него, смертию умрете. Смерть души {стр. 318} есть не прекращение личного бытия человека, ибо душа бессмертна, но разъединение ее с Богом, в Котором жизнь всего живущего и животворный свет человеческого духа (Ин 1, 4; Деян 17, 28; Пс 35, 10). Вследствие такого разъединения душа хотя сохраняет бытие, но жизнь ее принимает ложное, противное ее природе, направление, ибо истинная жизнь духа без благодати Божией так же невозможна, как невозможна жизнь телесная без пищи и воздуха. Поэтому, насколько человек удаляется от Бога, устремляясь по пути зла, настолько приобщается духовной смерти (Иак 1, 15; 1 Ин 3, 14; 5, 16–17; Рим 1, 32 и др.). Отсюда бывают различные степени духовной смерти, как и духовной жизни. Конечно, первые люди еще не ощущали всех ужасов духовной смерти, ибо раскаялись в своем грехе и получили обетование ο Спасителе. Но в потомках Адама зло и удаление от Бога имели раскрыться до решительного отступления от Бога и ожесточения во зле. Таковых ожидает в будущей жизни, после всеобщего воскресения и суда, вечная смерть, вторая смерть (Ап 2, 11; 20, 6, 14). Тогда ясно раскроются перед сознанием человека во всем грозном величии слова Божии: смертию умрете.
Другим следствием греха по отношению к душе человека было положительное повреждение духовной природы человека, – появление в душе, по апостолу, другого закона, противовоюющего закону ума (νόμος της αμαρτίας), или нового пришлого начала, которое можно назвать началом зла или греховных действий. Ап. Павел в таких чертах изображает обитание и действие в падшей природе человека этого начала: вем, яко не живет во мне, сиречь в плоти моей, доброе; еже бо хотети прилежит ми, а еже содеяти доброе, не обретаю. He еже бо хощу доброе, творю, но еже не хощу злое, сие содеваю. Аще ли еже не хощу аз, сие творю, уже не аз сие творю, но живый во мне грех (ή έν έυοί οίκούσα αμαρτία). Обретаю yбo закон, хотящу ми творити доброе, яко мне злое прилежит. Соуслаждаюся бо закону Божию по внутреннему человеку; вижду же ин закон во удех моих, противувоюющ закону ума моего, и пле{стр. 319}няющ мя законом греховным (τω νόμω της αμαρτίας), сущим во удех моих (Рим 7, 18–23). Это деятельное греховное начало, как в прародителях, так и в их потомках, проникло всю их природу. Греховному повреждению подверглись все силы души: ум, воля и сердце.
Повреждение ума выразилось в том, что ум помрачился, потерял ту ясность и проницательность, которые свойственны были человеку до грехопадения. Это открылось тотчас по грехопадении. Когда согрешившие услышали глас Бога, ходящего в раю, то думали скрыться от лица Господа посреде древа райского (Быт 3, 8), забыв, что от Вездесущего и Всеведущего нет ничего сокровенного. В направлении мышления тотчас же обнаружилось т. н. на церковном языке плотское мудрование (Рим 8, 7), или просто софизм. Адам слагал вину за свой грех на данную ему Богом жену и, некоторым образом, на Самого Бога, а жена подобным образом слагала вину на змия (Быт 3, 12–13). В потомках Адама повреждение ума обнаружилось и обнаруживается еще яснее (Прем 9, 16), особенно по отношению к познанию Бога и мира духовного (язычество). Самые истины откровения являются неудобоприемлемыми и непонятными для омраченного разума. Душевен человек, – говорит апостол, – не приемлет, яже Духа Божия: юродство бо ему есть, и не может разумети, зане духовне востязуется (1 Кор 2, 14). Поврежденный грехом разум готов оправдывать зло и грех во всех его проявлениях.
Грех внес расстройство и в область воли, – человеческой нравственной свободы. Природное ее стремление к добру, правота и невинность, сменились противоположными качествами: «воля преклонилась более ко злу, нежели к добру» (Прав. исп. 23). Так, тотчас же по грехопадении, давая отчет перед Богом в своем грехе, прародители вместо раскаяния приносят лукавое самооправдание и обнаруживают даже некоторое враждебное настроение по отношению к Творцу. Эта наклонность воли более ко злу, чем к добру, преобладает и в потомках Адама, так что человек не в силах бороться с этой прирожденной греховностью: не еже бо хощу доброе, творю; но еже не {стр. 320} хощу злое, сие содеваю. И такое явление имеет характер более или менее постоянной нормы: обретаю убо закон, хотящу ми творити доброе, яко мне злое прилежит. Грех царствует над падшим человеком, подчиняет волю его своей власти (Рим 5, 21; 6, 12), так что падший человек – раб греха (δούλος της αμαρτίας – 6, 17, 20).
Повреждение человеческой природы вследствие греха отразилось, наконец, и на сердце как самих прародителей, так и их потомков. До падения сердце прародителей отличалось чистотою и непорочностью, не знало влечений греховных. Но как только они согрешили, в сердце возникли нечистые желания и греховные влечения. Тотчас по вкушении ими запрещенного плода отверзошася очи обема, и разумеша, яко нази беша, и они сделали себе опоясание из листьев (Быт 3, 7). От сердца, извращенного грехом, исходят, по словам Спасителя, помышления злая, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, татьбы, лжесвидетельства, хулы (Мф 15, 19).
Так грех внес глубокое повреждение во все духовное существо человека, все силы духа потерпели повреждение. Вследствие этого в отправлении духовных сил нарушились полное согласие и целесообразность; открылась внутренняя борьба человека с собой. Плоть бо похотствует на дух, – говорит апостол ο состоянии сил в естественном человеке, – дух же на плоть; сия же друг другу противятся, да не яже хощете, сия творите (Гал 5, 17). Самое тело вышло из совершенного повиновения душе, получило неестественное преобладание над душою и увлекает постоянно человека ко греху.
Кратко совокупность произведенных грехом изменений в духовной природе человека можно обозначить повреждением образа Божия в человеке. Но нельзя допускать уничтожения или совершенной потери человеком вследствие греха образа Божия. Существо человеческое после падения не превратилось все в грех, в скверну, но удержало свою сущность [40
[Закрыть]]. Следы образа {стр. 321} Божия, хотя затмившегося («некия, так сказать, сотрения божественной печати», – по выражению митр. Филарета), сохранились и в падшем человеке, как это видно, напр., из заповеди Божией, запрещающей пролитие крови человеческой: проливаяй кровь человечу, в ея место его пролиется, яко во образ Божий сотворих человека (Быт 9, 6).
Мысль об остатках добра в природе падшего человека раскрывается в Писании и в чертах более подробных. Так, тот же ап. Павел, указывающий на бытие и действие в падшем человеке живого греховного начала, в то же время учит, что и падший человек соуслаждается закону Божию, ненавидит зло, хочет добра и любит добро (Рим 7, 15, 22). Ο язычниках он свидетельствует, что они закона (откровенного) не имуще, естеством законная творят (Рим 1, 19), повинуясь закону естественному и внушению совести. В частности, разум человека хотя потерпел глубокое помрачение. но в нем не исчезло самое стремление к истине и способность к ее познанию, почему апостол называет безответными язычников, не познавших того, что можно знать ο Боге. Воля человека хотя сделалась более удобопреклонной ко злу, чем к добру, но не уничтожилась, так что и падший человек в известной степени «по природе может избирать и делать добро, убегать и отвращаться зла» (Посл. 14 чл.; сн. Прав. исп. 27). Бытие в падшем человеке не только свободы грешить, но и свободы на добро ясно утверждает Писание: еже хотети доброе, прилежит ми, – учит апостол. В Писании не предлагалось бы убеждений делать добро, заповедей, равно обетований и угроз, если бы свобода извратилась до неспособности избирать и делать добро. Что грех Адамов не уничтожил свободы, в том же удостоверяет и собственное сознание каждого человека. Сознание свободы сопровождает нравственный поступок человека {стр. 322} от начала до конца. Раскаяние, являющееся после совершения греховного дела, также свидетельствует ο свободе воли, – в царстве необходимости оно невозможно. Не совершенно извратилось и сердце человека в падшем состоянии, не исчезли в нем соуслаждение закону Божию, стремления высшие, духовные, – к Богу и единению с Ним (отсюда всеобщность религии), любовь к добру и движения совести, то осуждающие человека за грех (Рим 2, 14–15), то хвалящие закон (7, 16).
Итак, как ни глубоко грех повредил природу человека, но «в ней сохранились некоторые остатки добра. Посему-то и в таинстве искупления не новая сотворена природа человеческая, а та же oбнoвлeнa, возрождена, восстанoвлeнa.
II. Вследствие тесной связи души с телом, грех произвел расстройство и в телесной природе, человека. Он внес в тело человека семена всякого рода болезней, усталости в трудах, расслабления и страданий (Посл. вост. патр. чл. 6). После падения жене, как первой виновнице греха, Бог определил такое наказание: умножая умножу печали твоя и воздыхания твоя; в 6олезнех родиши чада (Быт 3, 16). В лице Евы произнесено наказание всему роду человеческому. И действительно, чадородие всегда и везде соединено не только с сильнейшими страданиями, но и с опасностями для жизни рождающей, – а часто сопровождается и самой смертью.
Но не чадородие только, а и вообще болезни, поражающие род человеческий, определены человеку в наказание за грех. Се здрав еси: ктому не согрешай, да не горше ти что будет (Ин 5, 14), – говорил И. Христос исцеленному Им расслабленному, показывая тем зависимость болезней от греха.
Завершением всякого рода болезней, которым стало подвержено вследствие греха тело человека, является телесная смерть. Смерть тела есть разлучение души от тела: тело разрушается, подвергается тлению, а дух восходит в новую область бытия (Екл 12, 7). Такое разлучение души от тела не есть закон природы, установленный пepвoнaчaльно волей Творца. Союз души с телом по первоначальному устроению Божию должен был быть вечным, как это подтверждается и христианским учением {стр. 323} о всеобщем воскресении мертвых (1 Кор 15, 35–64). Бог смерти не сотвори (Прем 1, 13), Он созда человека в неистление (3, 23). Как созданный для жизни бессмертной, человек мог остаться бессмертным и по телу, если бы не согрешил. Правда, тело его создано перстным, и, следовательно, по природе тленным или смертным (Быт 3, 23; 1 Кор 15, 48–49, 53–54), т. е. с возможностью смерти, но без необходимости смерти. Не обладая бессмертием по самой своей природе или, как учил различать блаж. Августин, невозможностью смерти (non posse mori), оно однако обладало, при возможности смерти (posse mori), и возможностию не умирать (posse non mori), – бессмертием условным. Но эта возможность не умирать, с утверждением его свободы в добре (при переходе ее, как учил тот же св. отец, из состояния posse non peccare в состояние non posse peccare), перешла бы в невозможность смерти. Для этого в раю насаждено было древо жизни, вкушение плодов которого давало смертному по природе человеческому телу возможность не умирать. Ho по падении прародителей Бог удалил их от древа жизни, служившего орудием и средством сообщения благодати, дававшей смертному по природе телу силу вечной жизни. Вследствие этого возможность смерти перешла в необходимость смерти. Смерть тела, следовательно, явилась и наказанием греха. Ο таком происхождении смерти свидетельствует и божественное предупреждение: в оньже аще день снесте от него, смертию умрете, и приговор суда Божия: земля еси и в землю отъидеши.
Смерть составляет удел и всего рода человеческого. В потомках Адама смерть является уже следствием греха прародителей и наказанием за наследуемую ими от Адама греховность, умножаемую личными грехами. Ап. Павел учит: единем человеком грех (η αμαρτία) в мир вниде, и грехом смерть, и тако смерть во вся человеки вниде, в нем же еси согрешиша (Рим 5, 12). По мысли апостола, в начале истории человека не было греха, а потому не было и смерти. В мир грех вошел как нечто новое, еще не существовавшее, {стр. 324} вошел через одного человека, т. е. через Адама (Рим 5, 14–19; 1 Кор 15, 22), а через грех (δια τής αμαρτίας) одного вступила в мир и смерть, и тако (όντως), т. е. не иным путем, а именно тем, что люди получили αμαρτία, смерть во вся человеки (следовательно, не исключая и младенцев) вниде, в нем же вси согрешиша (εφ ώ πάντες ‘ήμαρτον), – потому что все согрешили с Адамом или в Адаме, как представителе всего человеческого рода, и согрешили именно тогда, когда согрешил он, а потому все, не исключая младенцев, и умирают. Таков прямой смысл учения апостола ο происхождении смерти, подтверждаемый и другими его изречениями. Смерть неразрывно соединена с грехом: оброцы (τα ό ψώνια – плата, возмездие) греха (της αμαρτίας) смерть (Рим 6, 23); смерть всеобща потому, что все согрешили именно в Адаме: прегрешением единаго (τώ τού ‘ενός παραπτώματι) мнози умроша (Рим 5, 15). И как бы в предупреждение такого извращения его учения (у пелагиан и некоторых из протестантских богословов), что все грешат по примеру Адама и потому умирают вследствие собственных грехов, апостол говорит: до закона грех бе в мире: грех же не вменяшеся не сущу закону, т. е. до закона нет сознания греха. Но царствова смерть от Адама даже до Моисея и над несогрешившими по подобию преступления Адамова (Рим 5, 13–14). Следовательно, смерть могла быть в этом случае наказанием не за личные грехи, а за грех Адама, в котором бессознательно участвовали все люди.
Так было понимаемо учение откровения ο происхождении смерти и христианской церковью. В V в., по поводу лжеучения пелагиан, утверждавших, что люди умирали бы, если бы Адам и не согрешил, на поместном карфагенском соборе (418 г.), правила которого приняты Вселенской Церковью, определено: «аще кто речет, яко Адам, первозданный человек, сотворен смертным, так что, хотя бы согрешил, хотя бы и не согрешил, умер бы телом, то есть вышел бы из тела, не в наказание за грех, но по необходимости естества, да будет анафема» (123 пр.).
Осужденное церковью древне-пелагианское воззрение на смерть {стр. 325} в новейшее время имеет защитников среди натуралистов. По мнению многих из них смерть есть естественно необходимое явление, первоначально установленный всеобщий закон природы, которому человек подчинен по тем же причинам, как и животные. Но против такого взгляда решительно свидетельствует болезненность смерти и тот непреодолимый страх и ужас, который проникает все существо человеческое при ее приближении. При мысли ο естественности смерти для человека навсегда останется неразрешимой загадкой, для чего же в таком случае Творцом установлено соединение на краткое время души с телом, прерывающееся смертью вопреки присущей человеку жажде жизни?
III. Грехопадение отразилось пагубными следствиями по отношению к внешнему благосостоянию как самих прародителей, так и их потомков. Грех расстроил их внешнее благосостояние. Так, вслед за грехопадением прародителей Бог изгнал их из рая сладости в место обитания, общее со всеми животными, чтобы человек возделывал землю, поселив их в виду рая и пристави херувима и пламенное оружие οбραщаемое, хранити путь древа жизни (Быт 3, 22–24). С потерей рая они теряли два главные условия внешнего благополучия: изобилие во всем, что потребно для телесной жизни, и предохранительное средство от всяких недугов, от старости и от самой смерти телесной. Вместе с этим много умалилась и ослабела, хотя и не уничтожилась, власть человека над всей природой. Основанием царственной власти человека над природой был образ Божий. С омрачением образа Божия в человеке грехом необходимо должна была умалиться и власть над природой. Стихии и силы природы, покорные человеку невинному и для него безвредные, после его падения не могли не действовать более или менее разрушительно на его тело. Потому-то в раю Адам и жена его не имели нужды ни в какой одежде, но по падении сотвори Господь Бог Адаму и жене его ризы кожаны, и облече их (Быт 3, 21). Так открылось в природе начало болезненных и разрушительных влияний на жизнь и благосостояние человека. Точно также животные, прежде бывшие покорными человеку, как своему царю (подобно тому, как, {стр. 326} напр., дикие звери являлись покорными облагодатствованным отшельникам), при виде его, ниспавшего в рабство греху, уже перестали чувствовать инстинктивно его превосходство, силу и власть, а при готовности умерщвлять их и похищать у них собственное их – кожу и шерсть для одеяния своего, – стали или убегать от него, как от более сильного, или нападать на него, как на относительно слабого, и вообще вредить ему.
Сверх этого, Богу угодно было для достижения Своих премудрых целей и в наказание человека за грех расширить особым действием Своего всемогущества область явлений, которые имеют вредное, болезненное или разрушительное влияние на существа живые и чувствующие, или явлений т. н. физического зла. По грехопадении Бог сказал Адаму: проклята земля, в делех твоих, в печалех снеси тую вся дни живота твоего: терния и волчцы возрастит тебе, и снеси траву сельную. В поте лица твоего снеси хлеб твой, дондеже возвратиишся в землю, от неяже взят еси (Быт 3, 17–19). Вследствие проклятия земля лишилась некоторых благ, дарованных ей благословением Творца при ее сотворении: Бог умалил в ней силу плодородия и в известной Ему мере поставил ее в условия, менее для нее благоприятные, чем в каких находилась земля благословенная, как показывают слова проклятия. Но действие проклятия простирается гораздо далее, чем на одно плодородие земли. Апостол свидетельствует: чаяние твари (тварь с надеждою ожидает) откровения сынов Божиих чает: суете бо тварь повинуся не волею, но за повинувшаго ю, на уповании, яко и сама тварь свободится от работы истления в свободу славы чад Божиих. Вемы бо, яко вся тварь (с нами) совоздыхает и соболезнует даже доныне (Рим 8, 19–22). Но рабство тлению не ограничивается только произращением терния и волчцев. Оно открывается в особенности в таких явлениях, как губительные действия стихий на живые и чувствующие существа, моровые поветрия, разрушительные землетрясения и наводнения, насильственная смерть, – вообще все частные уклонения от законов и целей физического устройства мира. Рабство это так {стр. 327} тяжело и изнурительно для тварей, что при конце мира вся тварь является пророческому созерцанию обветшавшей и распадающейся от ветхости, подобно обветшавшей одежде: вся яко риза обетшают, и яко одежду свиеши я, и изменятся (Пс 101, 27; сн. Ис 51, 6). A ап. Петр открывает, что настоящий мир подвергнется преобразованию или очищению посредством огня, и явится в обновленном виде: нова небесе и новы земли по обетованию Его чаем (2 Пет 3, 10–13). Следовательно, проклятие так сильно и далеко проникло в тварь, что для нее необходимо огненное очищение, и так глубоко сокрыты в подвергшейся проклятию твари ее первобытная красота и совершенство, которых она лишилась, что, по снятии с нее проклятия, она явится как будто совершенно иною или новою. Но с точностью определить свойства и степень изменения природы по силе и действию проклятия невозможно, так как не видели благословенной земли в ее первобытной славе и красоте.