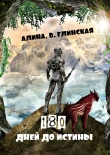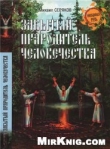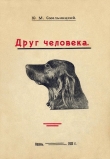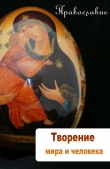Текст книги "Очерк православного догматического богословия. Часть I"
Автор книги: Николай Протоиерей (Малиновский)
Жанры:
Религия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 40 страниц)
§ 4. Особенности западных исповеданий в учении об источниках откровения
I. Римско-католическая церковь, согласно с православною, исповедует, что единственным источником христианского учения служит божественное откровение, заключенное в Св. Писании Ветхого и Нового Завета и в Св. Предании. Но как по отношению к Св. Писанию, так и по отношению к Св. Преданию ее учение и практика представляют существенные особенности.
1) По отношению к Св. Писанию она, прежде всего, не делает такого строгого, как православная церковь, различия между каноническими и неканоническими книгами Ветхого Завета, усвояя тем и другим одинаковую богодухновенность и значение. Взгляд, уравнивающий авторитет тех и других книг, начал устанавливаться в Западной Церкви еще в IV–V веках (выражен, напр., у блаж. Августина в De doctr. christ. II, 8, 13), но узаконен Тридентским собором. Этот собор провозгласил даже «анафему» на христиан, несогласных признать «священными и каноническими» всех ветхозаветных книг, «в целом их содержании и во всех их частях», как «оне читаются и принимаются» в Римской Церкви и «содержатся в древней латинской Вульгате». К таким книгам собор в своем исчислении их отнес не только общепризнанные канонические книги, с усвоением канонического достоинства и неканоническим их «частям», {стр. 19} но и неканонические, именно: Товит, Юдифь, Премудрость Соломона, Екклезиастик (Премудрость сына Сирахова), первую и вторую книги Маккавейские, так что число канонических книг в Ветхом Завете римскою церковью определяется в 45 (Conc. trident. Sess. IV) [7
[Закрыть]]. Тридентское определение ο составе ветхозаветного канона подтверждено и Собором Ватиканским 1871 г. Здесь изречена анафема на всякого, «кто не признает богодухновенности книг, утвержденных Тридентским собором» (Sess. III, cap. II, can. 4).
Ho уравнение по достоинству и авторитету с каноническими неканонических книг и частей в канонических книгах ничем не может быть оправдано. Ветхозаветной Церкви вверена быша словеса Божия (Рим 3, 2), возвещавшиеся через ветхозаветных посланников Божиих. Поэтому исключительно ей принадлежало право определять, какие из ветхозаветных писаний суть подлинно богодухновенные священные писания, какие нет, т. е. определять объем и состав ветхозаветного канона. И ею, при заключении своего канона, т. е. окончательном собрании священных канонических книг, к которому невозможно было уже дальнейшее «прибавление и убавление», канон определен в двадцать две книги (И. Флав. Прот. Аппиона, I, 8). Совершено заключение канона Ездрой, Неемией и Великой синагогой. По времени оно совпало с прекращением пророческого служения в иудейском народе, а с прекращением его закончилось и появление священных книг. Все книги, являвшиеся после прекращения пророчества – в последние четыре столетия до Р. Х., уже не вошли в канон, и написаны они были не на еврейском, как канонические, а на греческом языке. По замечанию иудейского историка И. Флавия «эти писания уже не пользуются таким уважением, как прежде упомянутые (т. е. канонические), потому что прекратилось преемство пророков» (Пр. Аппиона, I, 7–8). В указанном составе канон доселе ненарушимо содержат иудеи; в этом же составе он унаследо{стр. 20}ван и церковью новозаветной от Церкви Ветхозаветной. И новозаветная церковь, не только поместная, какова римская, но и вселенская, не в праве делать изменений в решениях и постановлениях Ветхозаветной Церкви, руководимой Духом Божиим, а, следовательно, и усвоять богодухновенное и каноническое достоинство таким книгам, которым последняя не усвояла такого достоинства. Всего вероятнее, что и самое представление ο неканонических книгах, как равных по авторитету и достоинству с каноническими, развилось из того, что в древних переводах книг Св. Писания Ветхого Завета – греческом (переводе LXX) и латинском (италийском), которые находились в постоянном употреблении и обращении у древних христиан, неканонические книги внесены в самый кодекс книг Св. Писания и помещены наряду с каноническими книгами, в качестве прибавления. Вследствие этого древние учителя, приводя в своих творениях выдержки из неканонических книг, нередко выражались: «говорит Писание», «говорит Св. Писание». Отсюда-то, вероятно, и возникло в Римской Церкви представление, что между каноническими и неканоническими книгами различия делать не следует, что те и другие имеют одинаковое достоинство и значение. Неудивительно, поэтому, что далеко не все и из римских богословов разделяют официальное учение своей церкви. Среди них вошли в употребление книги, принятые в еврейском каноне, называть «прото(перво-)каноническими», а не принятые в еврейском каноне, но существовавшие в Вульгате и авторизованные – «девтеро(второ-)каноническими». Сама по себе эта терминология, конечно, не изменяет существа церковного римского учения, но некоторые и из авторитетных ее богословов, знакомые с историей канона, пользуются ей для проведения православно-восточного взгляда на канон (напр. Беллярмин).
Уравняв по достоинству все книги, находящиеся в Вульгате, Тридентский собор (в 4 засед.) провозгласил каноничность и самого текста Вульгаты, т. е. перевода Библии на мертвый латинский язык, отдав предпочтение этому тексту перед всеми другими и угрожая анафемой всем, кто будет сомневаться в достоинстве Вульгаты; Вульгату должно употреблять {стр. 21} при богослужении, в публичных чтениях, диспутах, проповедях, комментариях на Св. Писание и пр. Но очевидно, что если первоначальный и подлинный текст слова Божия был написан на еврейском и греческом языках, то при сличении разных текстов слова Божия нужно предпочитать не Вульгату, а тот подлинный текст, с которого сделаны как перевод Вульгаты, так и все остальные существующие переводы. Это тем необходимее, что Вульгата, несмотря на делавшиеся в ней не раз исправления текста, по сознанию ученых представителей самой же Западной Церкви, имеет много существенных недостатков со стороны ясности, точности и верности перевода. Наконец, характерную особенность Римской Церкви относительно Св. Писания составляет запрещение мирянам читать Библию. Правда, запрещение это прямо не выражено ни в соборных ее определениях, ни в символических книгах, но в действительности оно существовало и существует в Римской Церкви. Папами в разное время был устанавливаем ряд ограничений, направленных к положительному запрещению читать Библию, то в виде запрещения переводов Библии на живые народные языки (постановление Тулузского собора XIII в., повторенное многими из пап) и осуждения уже сделанных и изданных без церковного благословения (напр. папой Пием VII в 1816 г.), то в виде осуждения всех обществ, которые ставят задачей своей распространение Библии между простым народом (папа Пий IX признал такие общества прямо язвой новейшего времени), то внесения Св. Писания в Index книг, запрещенных для чтения мирян и поставления чтения мирянами Библии в зависимость от ручательства их пастырей в том, что они могут читать ее без вреда для своих душ (распоряжение папы Пия IV в 1564 г.). Сокровенная причина подобных ограничений и запрещений, противных прямому наставлению Спасителя: исследуйте Писания (Ин 5, 29) и наставлениям апостолов (напр., 1 Пет 3, 15; Кол 1, 9; Рим 12, 2; 2 Тим 3, 13–17), та, что читающие слово Божие нашли бы в нем ясные изобличения заблуждений латинства и свойственного ему духа властительства.
{стр. 22}
2) Что касается Св. Предания, то Римская Церковь признает авторитет Предания, понимаемого как в тесном, так и в широком смысле. Поэтому все свои верования находит необходимым обосновывать как на Св. Писании, так и на Св. Предании. В действительности, однако, так как многочисленные вероисповедные ее особенности не могут находить для себя оправдания в Предании кафолической церкви, напротив – обличаются им, то она допустила намеренное искажение и порчу текста многих памятников Предания, даже измышление таких памятников (напр., лже-исидоровы декреталии, акты небывалого Синуэзского собора, дарственная грамота Константина В. и др.), главное же – за Предание Вселенской Церкви она принимает местное предание, предание латинской церкви, учение ее поместных соборов, из которых многие возведены ей на степень вселенских, мнения западных церковных писателей и богословов, в особенности же определения римских пап, признаваемых обладающими даром непогрешимости ex cathedra.
II. Протестантство, имея в виду римо-католические злоупотребления Св. Преданием, вовсе отвергло его авторитет. Единственно законным и вполне достаточным источником вероучения, из которого должны быть почерпаемы все христианские истины, протестантскими исповеданиями признается Св. Писание (т. н. формальный принцип протестантства). Что же касается Св. Предания, то ему усвояется только вспомогательное историческое значение при объяснении Св. Писания: оно показывает, как в известное время церковь понимала истины Св. Писания [8
[Закрыть]]. Читать и {стр. 23} толковать Св. Писание может всякий верующий по своему разумению, не имея надобности во внешнем руководстве и авторитете. Руководительным началом при изъяснении Св. Писания должно служить для него само же Св. Писание. При объяснении отдельных его мест нужно обращаться к сопоставлению их с параллельными местами и неясные места объяснять ясными. Но «истинным Толкователем» Писания для всякого верующего является Дух Святый. Поэтому Лютер в своих катихизисах постоянно внушает обращаться с молитвою к Богу при объяснении Писания, особенно темных его мест. «Без Духа Божия никто не понимает ни одной иоты Писания», говорит он. «Св. Писание должно быть изъясняемо не им только самим (читающим), но и Св. Духом, Которым написаны священные книги и Который как бы живет в них». «Где Дух Св. не изъясняет Писания, там оно остается непонятным».
Но такое отношение протестантских исповеданий к Св. Преданию составляет крайность, отразившуюся весьма вредными последствиями на их верованиях и всей их церковно-религиозной жизни. Так, отрицание авторитета Предания, понимаемого в смысле источника христианского учения, могло бы иметь для себя оправдание, если бы все содержание откровения Божия его провозвестниками было заключено в Писании, чего на самом деле. Последовательное применение к делу отрицания авторитета Предания в этом смысле легко может приводить к отрицанию многих истин откровения, которые со всею полнотою и ясностью не выражены в Писании (напр., ο седмеричном числе таинств, ο крещении младенцев, ο приснодевстве Божией Матери, ο почитании и призывании в молитвах святых и ангелов, ο почитании св. мощей и икон, ο поминовении усопших, ο постах, ο крестном знамении и пр.), что отчасти и видим в протестантстве. Отрицать авторитет Предания, понимаемого в смысле свидетельства Вселенской Церкви, нельзя прежде всего потому, что тогда учение ο каноне священных книг лишается точки опоры. Канон ветхозаветных книг унаследован Новозаветною Церковью от Ветхозаветной на основании Предания. Установление канона новозаветных книг совершено церковью также на основе исторического {стр. 24} (согласном свидетельстве церквей ο происхождении того или иного писания от апостола или непосредственного его ученика) и догматического (чистоте раскрываемого в том или ином писании учения, согласного с учением, неизменно хранимым в церкви) Предания церкви. Отвергать же необходимость Предания для руководства к правильному разумению Писания значит узаконивать произвол в толковании Писания (полный субъективизм и индивидуализм). От этого произвола не могут передохранить ни следование правилу: «слово Божие нужно объяснять словом же Божиим», ни уверение, что «внутреннее озарение от Духа Св. просвещает читающего слово Божие», руководит к правильному его пониманию. Объяснение слова Божия словом же Божиим не может передохранить от произвола при понимании и толковании его по следующим причинам. Св. Писание есть именно писание, «книга чтомая», а не какое-либо существо живое, имеющее слух и уста. Оно не может слышать наших вопросов, как нам понимать то или другое место в нем, не может и отвечать нам, разрешать наши недоумения. Значит, разрешать эти недоумения при объяснении Св. Писания на основании самого же Св. Писания будет предоставлено вполне личному разумению читающего слово Божие, и от него будет зависеть избрать для этого те или другие места, назвать их яснейшими и потом перетолковать их, как будет угодно. Ясно, что при следовании только одному этому правилу возможны и неизбежны всякие злоупотребления. To же должно сказать и относительно замены руководства Предания благодатным озарением от Духа Святаго. Конечно, кто точнее может показать истинный смысл Св. Писания, как не Дух Святый, истинный виновник Св. Писания? Но в приложении это начало крайне неудобно и ненадежно: внутреннее озарение или помазание от Святаго, которого, действительно, удостаиваются истинно верующие (1 Ин 2, 27), есть действие таинственнейшее и сокровеннейшее для всех людей сторонних, a потому всякий, по произволу, может выдавать (что и видим в сектантстве) собственные измышления за внушение от Св. Духа. Иное дело, если бы удостоившийся озарения от Св. Духа подтверждал свои слова чем-либо осязательным, напр., чудесами, {стр. 25} чего однако на самом деле не бывает. Следуя этому началу легко дойти до совершенного отвержения Св. Писания, ибо если сам Дух Св. учит нас истине, – на что нам тогда внешнее пособие – Библия? К этому и пришли некоторые из сектантов (напр., анабаптисты и сведенборгиане).
В протестантском мире скоро и обнаружилось, что отрицание авторитета Предания при изъяснении Св. Писания действительно ведет к необузданному произволу понимания и толкования слова Божия. Вскорости же после своего появления протестантство разделилось на лютеранство и реформаторство, а затем – на множество сект, с одной стороны, мистического, а с другой – рационалистического характера. Первые (анабаптисты, квакеры и др.), выдавая себя за людей, непосредственно озаряемых Духом Св., провозглашали свои собственные измышления за откровения Божии, а вторые подвергли самой смелой критике слово Божие, исключив из своих верований все то, что в слове Божием казалось им противоречащим разуму (напр. социнианство). Для прекращения таких нестроений в своей церковной жизни, реформаторы составили свои исповедания веры и символические книги, обязав своих последователей руководствоваться ими при изъяснении Св. Писания, но это являлось уже самопротиворечием и самообличением протестантства, ибо символические книги суть не что иное, как предание, только не древнее-апостольское, а новое – протестантское. Этим они показали, что церковь с одним Св. Писанием, без охраняющего его изъяснение Св. Предания, не может быть прочна и непоколебима.
§ 5. Неизменяемость и неусовершаемость христианского вероучения со стороны содержания и числа догматов. Возможная его усовершаемость
I. Православная церковь признает, что в учении Господа И. Христа и Его апостолов однажды навсегда дана вся потребная человеку в его земном бытии истина (Иуд 1, 3), и что не только не было, но и не должно ожидать со стороны Бога непосредственного откровения людям после И. Христа новых каких-либо догматических истин, сверх уже данных. Сколько их открыто {стр. 26} Богом через пророков и воплотившимся Сыном Божиим. столько и должно оставаться на все времена, пока будет существовать христианство. С другой стороны, все открытые догматы веры, как божественные по своему происхождению, представляют собой истину абсолютную, следовательно, навеки неизменную, а потому не подлежат ни поправкам, ни дополнениям, ни усовершенствованиям. Как никто не имеет права ни умножать, ни сокращать их в числе, так никому не дано права и изменять их по содержанию.
В откровении даются твердые основания для такого воззрения. Св. Писание показывает, что с пришествием И. Христа и установлением Нового Завета завершилась история откровения, имевшая место в ветхозаветные времена, как приготовительные к принятию Искупителя. В Его учении дана людям вся потребная в земной жизни истина. Вся, яже слышах от Отца Моего, – говорил Он, – сказах вам (Ин 15, 15). Этого Христос не сказал бы ο Себе, если бы действительно не сообщил полного и совершенного откровения. Возвещенный Христом закон веры и нравственности, как закон совершеннейший и вечный (Евр 13, 20), не может уже подлежать дальнейшему развитию и изменению. Христос, – говорит апостол, – вчера и днесь, тойже и во веки (Евр 13, 8). Св. апостолам также дано было разумети тайны царства небеснаго (Мф 13, 11). Облеченные силой свыше, они сообщили людям всю волю Божию (Деян 20, 27), почему и могли говорить: аще мы, или ангел с небесе благовестит вам паче, еже благовестихом вам, анафема да будет (Гал 1, 8). Указываемая Спасителем цель ниспослания Духа Святаго на апостолов – для воспоминания ими преподанного Христом учения, а не для новых откровений, также прямо исключает мысль ο дополнении возвещенного Им откровения новыми истинами (Ин 14, 26; 16, 7–15).
II. Признавая неизменяемость и неусовершаемость христианского вероучения со стороны своего содержания, православная церковь этим однако не отвергает возможности и некоторого рода его усовершаемости и развития. Эту усовершаемость и развитие {стр. 27} она полагает в точнейшем определении и объяснении или раскрытии одних и тех же неизменных в существе своем догматов, но но не в умножении числа догматов, не в изменении самого содержания христианского вероучения. Усовершаемость и развитие христианского вероучения, следовательно, может иметь не объективное, а только субъективное, – по отношению к человеческому сознанию, к усвоению и пониманию догматов людьми [9
[Закрыть]]. Что христианское вероучение в этом смысле действительно может усовершаться, это неизбежно, если догматы веры должны усвояться человеческим сознанием. Такое раскрытие догматы и действительно имели в церкви. Приняв от И. Христа и апостолов учение веры, церковь не ограничивалась одним только неподвижным и мертвым его хранением, буквально повторяя лишь переданное на хранение учение; напротив, она старалась переводить истины веры на язык понятный и общедоступный для каждого верующего, а когда было нужно, старалась выработать более точные и определенные формулы, сообразно с обстоятельствами времени, выяснить их внутреннюю сущность, уяснить взаимную связь, оградить от примеси чуждых истине мнений и пр. Так, при раскрытии догматов в борьбе с еретиками были выработаны термины богословские с определенным значением для более точного обозначения догматов, не встречающиеся в Писании, напр.: Троица (Τριάς), единица (μόνας, ένας), лице, ипостась ('υπόστασις), существо (ούσία), единосущный ('ομοούσιος), Богочеловек (Θεάνθρωπος, Θεόμβροτος), вочеловечение (ενανθρώπος), воплощение (ενσωμάτωσις, ενσαρκος παρουσία, επιφάνεια), Богородица (Θεοτόκος), Богоматерь (Θεομήτωρ), Приснодева (Άειπάρθενος), позднее – пресуществление (transsubstantiatio, μετούσιωσις) и мн. др. Подобным же образом, в борьбе с еретиками по поводу допускаемых ими искажений догматов, точнее было определяемо и уясняемо самое содержание догматов, особенно на Вселенских Соборах, {стр. 28} напр., в IV в. – против Ария и Македония были раскрыты догматы ο единосущии лиц Св. Троицы и божестве Сына Божия и Св. Духа, в V в. – по поводу ересей Нестория и монофизитов – догмат ο двух естествах в И. Христе, в VII в. – по поводу ереси монофелитов – учение ο двух волях во Христе, по поводу других ересей – догматы ο первородном грехе, ο благодати и пр. Но раскрывая таким образом догматы, церковь и на Вселенских Соборах отнюдь не привносила в откровенное учение чего-либо нового. Нельзя признать истинным мнение (защитников теории догматического развития или прогресса церкви), что догматическими определениями Вселенских Соборов будто бы устанавливались и возводились на степень общеобязательных истины, которые до того времени или не были известны церкви, или были только неустановившимися и потому не общеобязательными мнениями, так что всякое вероопределение собора составляло и новый догмат. На самом деле только то соборы объявляли догматом, что и раньше было общим верованием церкви и, следовательно, имели дело с истиной готовой. «Это вера апостольская! это вера отеческая! это вера вселенская!» – так восклицали отцы соборов, изрекая свои вероопределения. В своем содержании в соборных определениях догматы оставались тем же, чем они были и до определений Вселенских Соборов; приобретало большую точность и полноту только их словесное выражение. Это же вызывалось не тем, будто определяемые богооткровенные истины до того времени находились еще в состоянии неразвитом, зачаточном, или что они не сознавались, а еретическими заблуждения. В самом содержании вероучения таким образом не происходило никакого развития или обогащения его новыми истинами. Отсюда, – в древней церкви богооткровенные истины считались догматами, имеющими общеобязательную силу, как после, так и до определения их Вселенскими Соборами; равным образом ересь считалась ересью и до осуждения ее церковью. Что это так, особенно видно из анафематствования церковью еретиков, умерших раньше соборных определений тех или других догматов, которые искажались ими, ибо, по слову Спасителя, неверуяй уже осужден {стр. 29} есть (Ин 3, 18; ср. Тит. 3, 11), напр., осуждение на V-м Вселенском Соборе (553 г.) Феодора мопсуетского (ум. 429 г.) за то, что «не хранил и не проповедал правых догматов веры», прямее, – за то учение, за которое подвергся анафеме на III-м Вселенском Соборе (431 г.) ученик Федора Несторий. Такое раскрытие неизменных в своем существе догматов в православной церкви продолжалось и во все последующие времена, после эпохи Вселенских Соборов, продолжается и доселе, по случаю вновь возникавших и возникающих заблуждений, напр., против заблуждений римских и потом протестантских, а также и против разного рода противохристианских учений, и не прекратится дотоле, пока не прекратятся заблуждения против догматов, и вообще – потребность, применительно к обстоятельствам времени, определять и объяснять свои догматы в охранение православия.
Примечание. Понятно из сказанного, как должно смотреть на существующую в р.-католическом богословии (усвоенную и протестантством) теорию т. н. догматического развития церкви, которою признается возможность и качественного изменения догматов и количественного их нарастания в церкви. Невозможно допустить, будто церковь, которой затем и передан образ здравых словес (2 Тим 1, 13), чтобы быть ей столпом и утверждением истины, которая (истина) вечна и неизменна, могла проповедывать учение веры, которою спасается христианин, одним векам и поколениям с такою полнотою, а другим с иною, так что одни поколения спасалась одною верою, а другие – иною. Истинная церковь данное И. Христом однажды и навсегда учение проповедывала во все века и во всем мире одинаково. И в самой р.-католической церкви теория догматического развития явилась сравнительно в недавнее время (в половине XIX в.), хотя на практике применяется Западной Церковью с давних пор. Придумана такая теория исключительно для оправдания догматических нововведений Римской Церкви, неизвестных древнеВселенской Церкви, каковы, напр., догматы ο Filoque, o главенстве и непогрешимости папы ех cathedra, ο непорочном зачатии Божией Матери и многие другие.
{стр. 30}