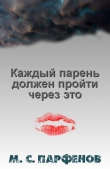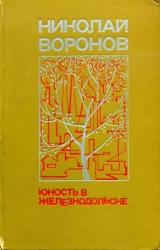
Текст книги "Юность в Железнодольске"
Автор книги: Николай Воронов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Люди часто пророчили: «Не сносить Сережке головы». Слыша это, мать сокрушалась, а бабушка Лукерья Петровна подтверждала: «Истинно – не сносить!»
Бабушка приезжала в Ершовку, но отец отправил ее обратно, в Троицк, где жил ее сын Александр с женой, сыном и дочкой, потому что она зубатилась с ним при каждом случае.
Когда она уехала, нам показалось, что вседневная духота в доме, накаленном голым солнцем, стала сносней. На время прекратились распри между матерью и отцом. Я прыгал, как ягненок, радуясь свободе и безопасности. Бабушка держала меня во дворе, охваченном каменным забором. Неподалеку была река, тальники, песчаные косы. Ищи среди галечника на перекате яшмовые шарики, режь лозу, плети морды, строй запруды и загоняй крапчатых пескариков, стекляннобоких сигушек, светлоперых лобанцов. И там же скалы, степь, ящерицы. А сбежать со двора трудно: следит, наколотит, не куда-нибудь бьет – по темени. После равновесие теряешь. Подойдешь к колодцу, наклоняешь бадью с водой к губам – и вдруг поведет тебя в сторону и ты очутишься на земле. И тут опять явится бабушка, закудахчет: «Да дитенок, да что с тобой подеелось?» Сама-то знает, что случилось, и знает, что ты об этом знаешь, но будет кудахтать все глаже, заискивая, рассыпаясь в похвалах, что ты, дескать, хоть и упал и тебя ушибло бадьей, а не заплакал.
Она ненавидит моего отца, ни в чем не дает ему спуску и, однако, боится, как бы я не пожаловался, что она долбила меня по голове: он уже грозил выгнать ее к чертям собачьим, если она не бросит своей дурацкой палаческой привычки.
Мать никогда не трогала меня пальцем, она гордилась, что никогда не бьет меня, – и вот отхлестала веревкой. Почему? Почему обещала вызвать бабушку, без которой, сама же говорила, нам живется лучше и спокойней?
Пока мы у Додоновых, ей совестно вызывать бабушку: мы их и так стеснили. Правда, они не против: пожалуйста, пусть приезжает в любое время. «Где шестеро ютажутся, там и седьмому место выкроим». Но мать не соглашалась.
Я сержусь на мать за то, что она упорно хлопочет о комнате. Ей помогает Нюркин отец Авдей Брусникин. Его выбрали старшим барака, он самый грамотный человек и машинист турбины. Кроме того, матери помогает с т у ч а т ь с я в КБО («не постучишься – не откроют») кастелянша общежития Кланька Подашникова. Кланька, как и моя мать, совсем молода. Она смешная, наряжается парнем – фуражка, косоворотка, брюки-клеш, – играет в духовом оркестре на огромной трубе под названием геликон.
Освободилась двадцать четвертая комната в нашем бараке, но начальник КБО никого туда не поселяет и нам в ордере отказывает. Мать зовет Авдея и Кланьку «посидеть за бутылочкой». Я довольнехонек: мать не может достать комнату. Кручусь дома, обеспокоенный тем, чтобы они своими советами не научили ее, как «вышибить жилплощадь». Авдей твердит: «Надо действовать на законном основании, не то за жабры схватят. Действуй и жди». Мать твердит свое: «Все жданки съели, Авдей Георгия». Кланька обнадеживает ее: «Чего-нибудь придумаем». Петро с Феклой помалкивают.
Авдей уходит: ему работать в ночную смену, он еще не спал. Все, какие-то значительные, скрытные, поджатые при Авдее, сразу разминают плечи, и становится ясно, что теперь они скажут, о чем молчали. Продув мундштук геликона, Кланька предлагает:
– Попробуй сунуть.
– Верно! – в один голос кричат Додоновы.
– Сколько? – спрашивает мать. – Кому?
– Комендантше Панне Андревне.
Кланька спешит на сыгровку: от клуба железнодорожников, возле которого в теплую погоду оркестр проводит репетиции, скатываются к нам вниз по пригорку удары барабана. Вскоре уже слышны оттуда азартные звуки румбы. Изредка коротко, как-то подземно, ухает среди них Кланькин геликон.
Поутру, когда Додоновы потихоньку уходят, мать, сторожко оборачиваясь на Катю и Лену-Елю, стоит над сундуком, долго развязывает какой-то узел. Он тощает, тощает. Наконец развязан батистовый платок, и у матери на ладони треугольная коробочка из-под пудры. Мать запускает в пудру пальцы, достает с донца кругляшок, дует на него, обтирает батистом, и я вижу золотой червонец, которым она любуется.
Через день мы перетаскиваем вещи в двадцать четвертую комнату. А еще через день приезжает отец.
Костя учил меня лазить по столбам на проволочной петле. Я увидел отца в тот момент, когда крепко обхватил столб, а ногу с петлей подтягивал вверх по столбу. Отец шел понурив голову. Холодноватая сентябрьская поземка шуршала по его хромовым сапогам и слегка задевала галифе с лосинами и кожаный френч.
Я соскользнул вниз. Отец напугался: так неожиданно и сильно я налетел на него. Я был обрадован и думал, что и он обрадуется. Но он даже не поднял меня над собой и даже сделал выговор, что я чуть его не сшиб. Хмурясь, он расспрашивал, правда ли, что за мной нет никакого надзора, что я хожу попрошайничать на базар, что мне чудом удалось выскочить из-под внезапно тронувшихся думпкаров.
Я смекнул: кто-то из барака, может, тот же Авдей Брусникин, послал ему письмо в Колупаевку, где находилась машинно-тракторная станция. Я испугался, как бы он не забрал меня.
– Враки.
Враки? Он подозревает, что я лгу, чувствует это, верней – видит. Так же, как другой раз видел насквозь, каким духом дышит человек – большевистским или кулацким, – а не умел доказать.
Я упорствую. В нем что-то меняется, он становится мягким, просит отвести на базар.
У китайца Ивана Ивановича отец покупает пучок длинных витых конфет в радужных хвостатых обертках. Прямо в дверях коммерческого хлебного магазина он врезается плечом в человеческое кишение, чтобы пробиться к середине прилавка, где торгует, вертясь на высокой деревянной подставке, моя мать.
Я мчусь на карусель. Взбегаю под шатер. Миша приветливо мычит. Шагаю, двигая сосновый брус. Жую вязкую, отдающую патокой конфету. Миша тоже жует конфету. Мы смотрим друг на друга, улыбаемся. Все живей и веселей набираем разгон.
Уже в ясно-нежном свете вечера мать, отец и я бредем на участок. Бредем не нижней дорогой, которая проходит меж двухэтажными рублеными домами с потеками смоляной накипи на стенах, меж бараков (начальные из них столовая-ресторан «Девятка» и детские ясли), а верхней – изволоком Первой Сосновой горы. Выше изволока землянки, «Шанхай». Там сейчас гвалт, суетня, работа. Ватага мальчишек ловит седого козла. Козел перебирается с землянки на землянку, прыгая по балаганам, поленницам, голубятням. У синенькой землянки стригут овец. Вороха шерсти – дымом на полотне стены. Где-то, предчувствуя нож, всхрапывает свинья, наверное, ее обступают мужики: сшибут кувалдой, навалятся, зарежут. На саманной крыше девушки в малиновых платьях провеивают подсолнечные семечки на лоскут толя. Кое-где возле сараев женщины доят коров. Начинают закрывать ставни, и «Шанхай», только что весело отражавший оконцами пылание заката, чернеет, скрадывается под глухо-коричневый цвет склона.
В барачной части Тринадцатого участка больше движения, беззаботности, шума. Детвора играет в прятки, в чижика, в котел. Парни гоняют красно-синий резиновый мяч. Подножки. Ругань. Грозные замахи. Девки, еще смирные, скучные, топчутся у торцовых завалинок, обшитых широкими досками. Они потихоньку болтают, побренькивают на балалайках, настраивают гитары. Старухи и молодайки, укутав потеплее грудных младенцев, посиживают на крылечках.
На закате в бараках, как и в землянках, тоже хватает хозяйских хлопот. Теленок, тесня хозяйку, вертит мордой в пустом ведре; дядька, вставляя в переломку патрон, направляется спать в хлев, чтобы не увели корову; татарка в платке, распущенном до пояса, вычесывает из козы пух длиннозубым яблоневым гребнем; снимают с веревок белье; замки навешивают на стайки; затаскиваются в комнаты подстилки, одеяла, всякое стеганое тряпье, на котором спят и которое выбрасывали на просушку.
Отец и мать молчат. Наверно, потому, что, когда идешь высоко и много видишь, не хочется говорить. Они смотрят в разные стороны: мать – на макушку горы, ребристую от скал, отец – на завод, где желтеют вдоль стены тополя, где розово зеркалятся стеклянные крыши проката, где становятся заметны над трубами мартенов пляски огня.
Отец приосанился:
– Хватит играть в молчанку!
Мама не поворачивает к нему лица: наверно, ей безразлично, что он скажет. Несмотря на это, он начинает свое увещевание. Подурачились. Пора бросить. Вместе будем переворачивать старую деревню и ставить новую. Жить с ним, конечно, не сладко. Да ведь народ бедствует. Даже здесь, в городе, нехватки в продуктах и товарах. Неужели ему перво-наперво справлять личные удовольствия? А об народе во вторую очередь думать? Конечно, у него был перегиб в общественную линию. Он это учел. У тебя пристрастие к нарядам? Будет тебе мануфактура. За ситец, за сатин, за сукно он ручается. Мечтаешь об гарусной кофте? И кофта будет. Зажмет совесть в кулак и... Хоть и против всяких вечеринок и выпивок, он ради нее и танцевать будет, и песни петь, и водки глоток-другой хлебнет.
– Не для того мы, конечно, совершали революцию, чтобы возвращать господские привычки. И зря ты защищала барские проповеди директора ШКМ [1] 1
ШКМ – школа крестьянской молодежи.
[Закрыть]. Этикет, этикет... Мы создаем новые нормы поведения. Этот директор из бедняков, а весь на помещичьих дрожжах и отрыжках. Шляпа, галстук с эмалевой защепкой, запонки, подтяжки... Наверняка втайне стремится к возвращению дворян и всякой прочей господской шпаны. Но если ты захочешь общаться со всякими людьми – пожалуйста... Сама своим умом дойдешь, что никаких вечеринок не нужно, тем паче – лакать вино. Партиец обязан всегда быть с чистым сознанием. Алкоголь вносит в сознание дурман. Врага прошляпишь. Мещанские идейки не сразу определишь. Съедутся, веселятся, холодец жрут, вилковую капусту, чуть ли не плавающую в конопляном масле, пироги из сомятины... Без тебя не раз затягивали в компанию. Невесту подыскали. Молоденькую учительшу из Черноотрога. Не поехал. Мне уж выговаривали: «Что-то ты, Анисимов, игнорируешь нас?» Директор ШКМ ту учительшу расхваливал: «Ватрушка на меду!» И хвастал, что за один присест слопал пятьсот штук пельменей. Ленин был не нам чета и сроду ничего подобного себе не позволял. Правильно секретарь райкома товарищ Чепыжников твердит: «Духовно мы должны быть выше масс, а в потреблении оставаться вровень. Они недоедают, и мы недоедаем. У них скромная одежка, и у нас. Ну разве что фасоном построже, отутюженная, починенная, со всеми пуговками». Возвращайся. Радио проведу. Сережу стану буквам учить. Хочешь, опять детский сад организуй. Дом выделю, кроватки охлопочу, кухню оборудую. Не могу я без тебя, без Сережи. Руки у меня отпали – да и все тут. Может быть, даже лучше, что ты уезжала. День и ночь занимался делами МТС. До меня тут трактор сгорел, лобогрейки ломались, плуги из строя выходили. Я навел порядок. Пора, пора возвращаться. Давай сегодня же обратно.
Он приехал на полуторке. Полуторка ушла за машинным маслом и тавотом. Он сядет в кузов, она с Сережей поместится в кабине.
Чем дольше отец говорил, тем жарче распалялся. Сегодня вроде опьянел. Сухое лицо набрякло краснотой, будто целый час высидел в парилке. Глаза притуманило. Жалко мне его. Он сказал: «В пустом доме стены гложут». Жалко! Не знай как ссутулился.
Я хочу в деревню. Там ласточата в гнездах. Жерехи валькуют хвостами на перекатах. Бугаи на улицах, угрюмые, преследующие все, что движется.
Я хнычу в поддержку отцу. Мать молчит, потупившись. Я чувствую, что она откажется уезжать. Пускаюсь в рев. Грожу, что здесь меня зарежет паровозом. Отец утешает меня, для успокоения просит погрызть китайскую крученую карамель.
– Вот видишь, Маруся, ребенок и то сознает: он погибнет в городе. Слишком опасно. И любознательный. Да еще ж без надсмотра. За ним нужен глаз да глаз. В деревне и то сколько раз был на волоске от смерти. На мамоньку свою Лукерью Петровну особенно-то не надейся. По пятам за Сережей не станет ходить. Зато за провинность кулачищами будет бить. До дураков мальчонку затуркает. Не поедешь ко мне – отсужу его. Я большевик. Я пролетарий.
– Чего отсуживать? Забирай хоть сейчас.
Отец взбесился: слыхом не слыхал о матери, отказывающейся от ребенка в пользу отца! Впрочем, чего другого ждать?
– Эта особенность у вас, Колывановых, в роду. По наследству передаете.
– Так бы по твоей родне передавалось... Узнали бы, как плачут кровавыми слезами.
Полуторка, облепленная ребятней, стояла у барака. Меня обуяла гордость, что начальник над этой машиной мой отец, и я закричал, словно никогда с ними не знался, на сестер Додоновых, на братьев Переваловых, на Колдуна, на Хасана, на Венку, на тех, кого не успел рассмотреть:
– Ну-ка, слазьте!
Отец вкрадчиво меня одернул:
– Зачем сгоняешь, сынок? Твои ж товарищи.
Из кабины выпрыгнул Костя Кукурузин. Пятерней провел по моему лицу сверху вниз. Средний палец мазнул по носу, пришелся на губу, вывернул ее, и она щелкнула, когда палец сорвался с нее. В кузове захихикали. Я плюнул в их сторону и стал дразниться, что Костя шпана, на троих одна штана, что он крадет арбузы, что он жених Нюрки конопатой.
Я уселся в кабине. Шофер – бритый, подбородок клешнят, как коровье копыто, – растянул рот, пропищал китайским резиновым чертиком «ути-ути».
Отец, ушедший с матерью за моей одеждой, вернулся пустой. Он был бледен и на вопрос шофера о том, что случилось, выругался.
В этот миг я ощутил неожиданную тревогу, пронырнул под мышкой у отца. Но он поймал меня за рукав толстовки, влез со мной в кабину. Я дрыгался:
– Пусти! К мамке, к мамке!
По дороге на переправу я ревел, зажатый им как в тиски. Однако стоило мне увидеть киргиза, въезжавшего на паром верхом на осле, башкирок, толкающих двухколесные, с кубастыми ящиками тележки, воронежских пышногривых битюгов, которые пятились от парома, таща повисшего на поводьях кучера, как я прекратил плакать, стал показывать отцу и шоферу на все, что меня привлекало, и засыпать их вопросами.
Катер, тянувший паром, работал с моторными перебивами. Он часто клал трос на воду; натягиваясь, трос стрелял каплями вверх. Пруд был маслянисто-тяжелый, хотя и зыбился. От вида этой неприютной воды так стало мне сиротливо, и такое я почувствовал стыдное раскаяние, и такая боязнь за маму одолела сердце, что я зажмурился, чтобы не видеть белого света. И мгновенно словно уплыл куда-то в смолу, тягучую, связывающую.
Очнулся я оттого, что кто-то навалился на меня и дует в ресницы, стараясь их разлепить. Сразу не разобрал, чье лицо надо мной. Пугаясь, лягнулся коленями и оторопел, узнавая мать.
– Вот они, лапушки, – запела она, целуя мои ладошки, – малиновые ноготочки, сахарные пальчики. Да разве ты нужен отцу? Мне только нужен.
Я обхватил ее за шею и никак не отпускал от счастья и от страха, что, если она встанет и уйдет на работу, больше я никогда ее не увижу.
Глава шестаяЦелый день в бараке только и было разговору, что задули новую домну. Это известие передавалось из уст в уста торжественно, обсуждалось многозначительно взрослыми – кормильцами, стариками-домоседами, нянчившими малых детей, и даже нами, ребятней. Девчонок задувка домны не волновала, разве что Нюрку Брусникину, и то лишь потому, что ее отец Авдей был машинистом турбины на воздуходувке, обеспечивающей домны воздухом и паром, а может, еще и потому, что это интересовало Костю Кукурузина, с которым Нюрка собиралась пойти смотреть первую плавку чугуна на печи «Комсомолка».
Костя и меня приглашал, но я отговаривался: неохота у бабушки отпрашиваться, и мама, когда придет из магазина, забоится, что сунусь под раскаленный металл. Костя наверняка догадывался, что причина совсем не в этом, а в том, что он берет с собой Нюрку, однако не заговаривал об этом. У Кости было правило: никому не давать отчета, куда и с кем он идет. В своевольном поведении его было, однако, столько независимости и достоинства, что Владимир Фаддеевич предоставлял сыну полную самостоятельность, а Костя умело, без лишних трат и подсказок, вел их холостяцкое хозяйство. Учителя были довольны его успехами и дисциплиной. Что же до обитателей барака, их поражало, что Костя сам смастерил фотоаппарат и сделал электростатическую машину, дававшую молниевую искру. На это все барачные смотрели как на з а г л у м н о с т ь и как на талант, который дан не многим.
Я ушел в комнату, умоляя про себя Костю забежать за мной. Он забежал и, словно моя мольба передалась ему, удивленно промолвил:
– Серега, ты чего? Идти так идти.
– Ды, сынок, ды, красавец, – запричитала бабушка, оглаживая байку дымчатого пальто Кости, – не отпускай ты Сережу от себя. За руку ухвати да этак и держи. Ведь он у нас сорва́н. Ведь что он вытворял в Ершовке... На плуг падал. Кабы не знахарка...
– Слыхал, Лукерья Петровна.
– Ды, сынок, ды, умница, да он ведь один-разъединый у нас. Ведь ежели что, боженька ты моя, ведь светопреставление... За руку ухвати да этак и держи.
Мы поехали в трамвае. Вагон промерз, серым инеем обложило фанерный потолок, на стеклах наросла толстая снежная твердь; она в булатно-синих оттисках монет. Казалось, что едем неизвестно где и куда, то ли по городу, то ли по степи, и нет здесь ни жилья, ни зверя на тысячи верст вокруг.
Кондукторша пригрозила пассажирам, что принципиально не будет объявлять остановок, если граждане, набившиеся в тамбур, не возьмут билетов. А может, она не знает остановок? Или ей, стоящей на сиденье калошами, надетыми на валенки, не хочется протирать продушину, быстро затягиваемую ледком, и вглядываться через нее, что там, в мире, куда мы прибываем?
На одной из остановок народ, согласно толкаясь для разогрева, попер из вагона в оба выхода.
Мы выскочили прямо в дым. Ветер вытягивал дым из трубы агломерационной фабрики, пригибал его на бараки Пятого участка – они казались снулыми – и тащил в котловину завода, куда, подстегиваемая морозом, шла темная среди снега толпа.
Вахтер выудил нас из толпы: что-то, кажется, мы никогда не проходили мимо него? Мы стали уверять, что проходили, на Шестом, участке живем. И там он нас не встречал. Сам с Шестого. Пришлось сознаться. Он потеснил нас от ворот. Унижались, упрашивали – не пустил! Тогда Нюрка, не переносившая отказов, передразнила его; вахтер шепелявил.
Проехали на трамвае еще остановку. Долго трусили рысцой, прикрывая лица варежками, до каменных бараков Шестого участка. Отсюда, передохнув в затишье, бежали шапками вперед. Такая палящая стужа была в ветре, что только это и спасало, если двигаться в наклон, чтобы не захлебнуться. Взглянешь из-под шапки, обметанной куржаком, – перед тобой покрытая копотью, маслами, пеком, пробуравленная конской мочой дорога, газгольдер с красным хлестким флагом, угольная башня, задеваемая облачной рванью, дымы, пегие, грачиной черноты, ядовито-желтые, и выхлопы пара из тушильных башен, и его превращения в ледяные гвоздики, выпадающие со звоном.
Сбоку подступы к домне загромождены. Хаос кирпича, будок, грузоподъемных лебедок, решетчатой арматуры, стальных суставчатых труб, через которые мог бы пролезть десятипудовый боров. Подле железобетонного пня домны, куда Костя вывел меня и Нюрку, мы все трое, вконец ознобясь, наперегонки пустились к лестнице и поднялись на литейный двор. Точно такая же лестница подле первой домны, на которую Костя изредка брал меня, идя к отцу. Недавно Владимира Фаддеевича перевели на новую печь, и теперь он здесь и защитит нас, если будут прогонять.
Чуть забрезжил свет литейного двора, кто-то, молодцевато спускаясь оттуда, цыкнул:
– Вы зачем?
– Пионеры. Приветствовать! – крикнула Нюрка.
И едва мы взлетели наверх и шли мимо людей, стоявших группами у перил, Нюрка, когда намеревались нас задержать, зычно повторяла все то же, для убедительности выдернув концы галстука на отворот пепельной кроличьей шубки: «Пионеры. Приветствовать». Я шел за ней. Чей-то насмешливый бас заметил, что я не то что в пионеры – в октябрята, наверно, еще не принят. Она ехидно отозвалась:
– Ростиком не вышел.
Даже сегодня, когда ей должно было быть за это неловко перед Костей, она не обращала на меня внимания.
Я не умел, как она, уклонять взгляд от неприятного человека, если он смотрел, желая встретиться со мной глазами, потому, презирая Нюрку за это, я завистливо поражался ее способности начисто не замечать тех, кого она не хочет замечать.
Находчивость Нюрки немного смягчила мою нелюбовь к ней. Я даже на миг помечтал тогда, что она подружится со мной: ведь я хороший, и она не должна относиться ко мне равнодушно. Но ее ехидное «ростиком не вышел», предназначенное не тому насмешнику, а именно мне, резануло меня. Я понял: Нюрка жадно меня замечает, и не для чего-нибудь – для мести.
Я чуть не заплакал. Что я ей сделал? Почему она сразу невзлюбила меня? Чем виноват перед ней барак, что она презирает в нем всех, кроме своих родителей, сестры Ольги и Кости Кукурузина? Зачем она задается? Неужели нужно задаваться, если у тебя вогнутые в коленях ноги, бело-голубое лицо и вся ты быстрая, верткая и невозможно не повернуть тебе вослед голову?
Раньше мне была противна мысль пожаловаться Косте на Нюрку за себя и за весь барак; здесь вдруг захотелось пожаловаться, при ней же, пускай поморгает глазами, пусть сознается, что я правильно подметил ее гонор.
Но я не успел пожаловаться. Мы уже оказались близ паровой пушки, у которой, считая черные сырые ядра, скатанные из чего-то вязкого, стоял Владимир Фаддеевич. Он был обеспокоен тем, что бригаде горновых, где он за старшего, надо выдавать первый чугун «Комсомолки», а тут еще мы пришли. В другое время чихать бы ему, что не положено детям появляться у домны, а сейчас страшновато: здесь «верхушка» завода и города, представители из области, из самой Москвы, из Наркомтяжа – не придрался бы кто... Да и не знаешь, что печь выкинет.
– Ладно. Встаньте на фурменную площадку, позади паровой пушки, и стушуйтесь.
Владимир Фаддеевич обмахнул войлочной шляпой взмокшие волосы. Над горновой канавой лежал лист железа, и, завиваясь на его края, из канавы вымахивал факел горелки. Лист был багров. Канава под ним, заглаженная по всему руслу песком, сушилась. Ударом чуни, лопатисто-широкой, сшитой из транспортерной ленты, Владимир Фаддеевич передвинул лист, опять подсунул горелку и вернулся к пушке. Опробывая пушку, он выгнал из ее ствола натисками пара бревешко, состоящее из той же черной сырой массы, что и ядра.
У первой домны мерно перемещались силуэты горновых. Силуэты были грифельно-мягки на цвет. Казалось, это не люди, а их тени, скользящие по панцирному низу печи. Пока я смотрел, как протачиваются сквозь бронированное туловище домны синие газовые огни, в горновую канаву вытек чугун. В первое мгновение, когда я еще ничего не понял и когда из летки полыхнуло белизной, мне померещилось, что блеснуло и вот-вот вырвется солнце, кем-то закрытое на зиму. Но потом, унимая ослепительность белизны, вскинулось едва ли не под самое кольцо воздухопровода пламя и, сжимаясь, успокаиваясь, чисто обозначило выплывающей в канаву металл, который можно было бы принять за сметану, если бы над ним не толклись искры-пушинки, не дрожало марево.
Вдруг совсем рядом будто что-то подорвали. Взрывной толчок сменился вязким утробным хлюпаньем. Хлюпанье перекатилось в бурлящий клекот, и вслед за повторным толчком слева от нас в воздухе пронеслись багровые ошметки и струи. В шею горновому впилась огненная капля, и он, хватая ее, словно осу, вонзившую жало, крикнул:
– Чугун уходит! Берегись!
Владимир Фаддеевич, в тревоге обернувшийся к людям, которые топтались на краю фурменного пространства, закричал, чтобы они уходили. Досадливо, каким-то вышвыривающим жестом велел убираться и нам троим и, убедившись, что мы торопливо пятимся, прыгнул к паровой пушке.
Когда осекся возникший на минуту тугой гром, будто его закупорили, мы, оробело ступая, возвратились на прежнее место. Выглянули по направлению к летке. Пушка стояла, уткнув рыло в леточное отверстие. Ее корпус, заплесканный красным металлом, горел, исходил паром.
Костя сказал, что чугун сам потек из печи. Отец даже не успел подрезать и просушить летку. Взрывы могли быть и опасней: по сырой леточной глине металл идет жутко. Теперь плавку не выдашь вовремя: опять горновую канаву готовить, пушку набивать и с леткой придется повозиться. Дадут за это папке на орехи. Как бы в чем плохом не обвинили.
То, что летку проело чугуном и Владимир Фаддеевич ее закрыл без промедления, было лишь началом аварии. Домна, как только пушку отвели обратно, снова стала плеваться. Заслоняясь полой суконной куртки, Владимир Фаддеевич прошуровывал горловину летки стальной пикой. Об него разбивались хлопья и шарики чугуна. И когда он, волоком таща обтаявшую в горне пику, отбегал к пушке, шляпа и куртка вспыхнули на нем. Он сорвал их и, топча чунями, спросил горнового, который должен следить за чугуновозными ковшами, прибыла ли посуда. Горновой ответил, что посуды нет. Владимир Фаддеевич помчался к огромному совку с песком, злыми жестами сзывая туда горновых; скоро они уже таскали песок и насыпали валы; меж валами, как мы догадались, будет пущен поток чугуна прямо на литейный двор.
Мимо нас, бранясь, проскочил мастер. Скача от вала к валу, он принялся распинывать их и налетел на Владимира Фаддеевича, опрокидывавшего бадью с песком.
– Отменяю! Лить металл на пути! Мерзавцы транспортники: пораньше ковши не могли подогнать! Ради праздника!
Владимир Фаддеевич снова побежал за песком, туда же бросились горновые, на минуту сбитые с толку яростью мастера.
Появление инженера в рябой толстой фуражке с наушниками (Костя шепнул, что это вроде начальник цеха) укротило мастера. На отчаянную просьбу Владимира Фаддеевича продолжить насыпку валов инженер наклонил голову.
Чугун, заполняя канаву, рыжевато-грязно чадил, выпрыскивал капельки. А потом, когда Владимир Фаддеевич, потянув за цепь, притороченную к рычагу, поднял перегородочную лопату, чугун хлынул по литейному двору, шкворча, выхлопывался вверх, затапливал сырой бетонный пол.
Хоть я и тревожился за Владимира Фаддеевича, я все-таки радостно глядел на все, что происходило передо мной. То, что и мою, и Костину, и Нюрину одежду запорошило графитом (его выдыхало доменное варево, своим мерцанием он напоминал елочный блеск), до того восхищало меня, что я еле сдерживался, чтобы не оскорбить помрачневшего Костю восхищением: «Как здорово-то!»
Наперекор опаске потерять дружбу Кости, восхищение тем сильнее томило меня, чем дольше тек чугун. Мало-помалу на литейном дворе наливалось огненное озерко. Оно золотело, краснело, багровело. Воздух раскалился, жег щеки еще резче сегодняшнего ветрового мороза. Горновые извивались от жара, притрусывая пол песком и мешая металлу расплываться.
К моменту, когда из летки, бушуя, пузырясь и гуще дыша графитом, пошел шлак, паровоз подогнал под желоба посуду. Владимир Фаддеевич пустил шлак туда и тотчас с другими горновыми принялся отдирать твердеющие чугунные закрайки; если им не помогали ломы, они прихватывали закрайки щипцами на тросах, и мостовой кран, отъезжая, тянул их на себя и отрывал серо-черные ошметки.
По шмыганью Нюркиных калош, надетых на валенки, и по тому, как часто мех ее шубки задевал мой борястик, я догадывался, что ей невтерпеж уйти отсюда.
– Кость, пойдем.
– Да ты что?!
– Скучно. Смотришь, смотришь... Надоело.
– Побудем немного. В следующий раз ты о чем попросишь, сколько захочешь прожду.
– Знала бы – не пошла. Ла-дно... Оставайся со своим Сереженькой.
Она юркнула в толпу. Костя за ней, я за ним – среди пальто, волчьих дох, кисло пахнущих полушубков, фуфаек, шинелей, поддевок, кожанов. Прошли подле стены в какое-то производственное помещение. В чем-то округлом, крашенном лаком (топка, конечно, такая) – стеклянный волчок-оконце, и сквозь этот волчок виден был в глубине топки, в сжатом гуле, сноп синего пламени, розового на размыве о кирпичную кладку, уходящую вверх. Спустились – увидели над собой слепящие лампы на черной доменной короне. Скачка через рельсы. Бассейн, окутанный туманом.
Костя настигает Нюрку, ловит за плечи. Она поворачивается и лупит его по щекам. Он остолбенел. Я сшибаю со всего маху Нюрку в сугроб. Костя почему-то поднимает ее. Ни с того ни с сего она бросается к Косте, обнимает его и как будто целует. Из-за тумана, хлынувшего с бассейна, я смутно различаю их.
Туман разнесло. Мы сплошь в инее. Нюркина шубка белым-бела, словно горностаевая. Как ни в чем не бывало Костя и Нюрка берутся за руки. Она предлагает идти домой, а он упрашивает зайти к ее отцу Авдею Георгиевичу на воздуходувку. Нюрка соглашается.
Еще издали, шагая по обочине дороги, слышим пугающий шум, как будто где-то рядом прорвало плотину и вода рушится на лотки. Возле самой воздуходувки мы совсем не слышим приближения грузовиков и бетоновозов. Оглядываемся, чтоб не задавило.
Под сварными объемистыми трубами мне хотелось пригнуться и изо всей мочи помчаться обратно. Воздуходувка так неистово, плотно подает на домны воздух, что он движется, металлически свистя и шелестя, и этот свист и шелест наводят на душу такой ужас, что не знаешь, куда деться, и не чаешь, выберешься ли из-под этого загнанного в трубы ада.
К турбогенератору, возле которого находился Авдей Георгиевич, нас доставил веселый парень в кепке с оторванным козырьком. Вел по жарким закоулкам, все возле каких-то труб, чем-то толсто обмотанных, покрашенных в белое и красное. Здесь было тоже жутковато и закладывало уши от шипящих и свистящих шумов.
Я взмок, скинул шапку, приспустил на руки борястик.
Наконец мы очутились в просторном высоком зале, где пол был выложен метлахскими плитками.
Турбогенератор, у которого я увидел Авдея Георгиевича, был глянцевито-черный и как бы состоял из трех бугров: большой – генератор, повыше, поуже и покруче, – турбина, маленький – моторчик; на каждом надраенная медная пластина-паспорт.
В турбогенераторном зале я вдруг уловил, чем Авдей Георгиевич отличается от других барачных мужиков, – г р а м о т н ы м лицом. (В Ершовке в какой уж раз, хваля секретаря райкома, отец заключал: «Принципиального человека угадаешь безо всяких-яких: грамотное лицо!»)
Костя тревожился за отца, но Авдей Георгиевич, должно быть, решил, что он хмур потому, что ему скучно, и начал объяснять, для чего на одном валу с турбиной и генератором маленький моторчик: это возбудитель генератора. Тут Нюрка противно прыснула в кулак. Я думал, что Авдей Георгиевич выговорит Нюрке и тогда я пойму, почему она противно прыснула, но он только насупился.
Я не собирался слушать Авдея Георгиевича, однако задержался возле него: он, к моему удивлению, сказал, что в генераторе находятся магниты, и мне захотелось узнать, зачем они там. И хотя Костя тоже как будто заинтересовался этим, он на самом деле был сосредоточен на чем-то другом – на грустном и тревожном.