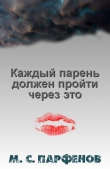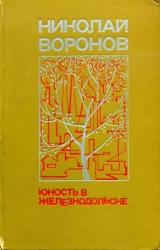
Текст книги "Юность в Железнодольске"
Автор книги: Николай Воронов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Иметь пугач, свинцовый, с барабаном и мушкой, с насечной рукояткой, похожей на милиционерский наган, – вот из счастья счастье! Денег на пугач у Кости наберется сколько надо, но он заинтересовался свинцовым соловьем – синяя грудь, красный хвост.
Китаец этот был, наверно, жалостливый. Я сник, и он уговорил меня выстрелить за его счет. Пугач так бабахнул, что я подскочил от восторга, а народ, роившийся между прилавками, повернул к нам опасливые глаза.
Утешился я на мгновенье. Отдавая Ивану Ивановичу пугач, я ощутил, как холодеют мои щеки и губы.
Костя влил в соловья воды, приложился к хвосту, дунул. Столбиком поднялась трель, каждый звук – градинка в лучах солнца.
– Одобряешь Иван Иванычев пугач? – дыша в хвост соловью, спросил Костя.
– Тебе-то чего?
– Одобришь – куплю.
Он взял с прилавка пугач, сунул мне за пазуху, отсчитал китайцу серебро. В дополнение к пугачу он купил десяток пробок для зарядки барабана.
Перед тем как уйти, он сказал Ивану Ивановичу, что сегодня ему повезло, потому что он выведал у китайца секрет, как делать и надувать воздушные шары, и что завтра он надеется узнать, как отливают пугачи.
Иван Иванович кивал головой, притворяясь, что серьезно относится к словам Кости: он пытался сжать губы, по они никак не сходились на выпяченных зубах.
В этот день на мою долю еще выпали неожиданные радости: я катался на карусели – на голубом слоне, на черно-белой зебре, на красном жирафе, на желтом бегемоте. Притом бесплатно. Но главное – я был внутри карусели, под куполом, и сам ее крутил, упираясь в смолистый сосновый брус. Впереди меня бегал Костя, перед ним машисто вышагивал Миша-дурачок. Сатиновая косоворотка обжимала его мокрую спину, обозначая толстоствольный хребет. Миша ласково мычал, оглядываясь на нас, азартно квохтал, подбадривая, чтобы убыстряли вращение.
Вчера Костя, когда обещал познакомить меня с Мишей-дурачком, говорил, что он добрей любого умного я сроду-роду не злится, как бы кто над ним ни измывался. И все-таки становилось боязно от Мишиного мычания и квохтанья.
Воздух, прокаленный солнцем, был душным от пота и запаха смолы, и мы после трех остановок спустились на землю и, переминаясь с ноги на ногу, стояли на обдуве до тех пор, пока не позовет Мишу однорукий начальник карусели.
...Я один стал похаживать на базар. Присмотра за мной почти не было: мать целыми днями училась на курсах. Я вертелся возле возов, с них продавали из кадок розоватое кислое молоко. Крестьянки меня жалели. Опрокинут в глиняную кружку половник молока, я и тяну его тоненько, лоскуты пенок осаживаю до дна и только потом достаю пальцами. А еще вяленых карасей мне подавали и творог. Случалось, насыпали в ладошку сушеного молозива. Или побредешь подсолнечные семечки пробовать. Зажмешь левый кулачишко, будто там деньги, и пробуешь семечки. Но бывало, что и к мешку не подпустят: «Проходи, голопузик, не то базарному сдам. Много вас шляется». И обидней бывало: натеребят уши, в затылок натюкают, под зад напинают.
За царством семечек – царство балаганов. Изгонят из семечного царства, подашься в балаганное: туда, куда приносят лудить посуду, чинить примусы, заливать калоши, где принимают пушнину и шкуры, сдают старые автомобильные камеры, рога, тряпье, цветные металлы; тут же производится союзка сапог, катка валенок, ремонт ружей, швейных машинок, велосипедов. Работают здесь инвалиды. Кто хром, кто кос, кто кривобок, но всяк мастер – золотые руки, прибауточник, хитрец, хват. Покуда ходишь по балаганам, чего-чего не приметишь. Самогон в глотки опрокидывают, кулаками занюхивают; болвашки олова выторговывают, узлы овечьей шерсти, бутылки соляной кислоты; подойники сбагривают, чесанки; перед красивыми заказчицами похваляются удальством; гогочут над анекдотами, печалятся известию, что опять кто-то оголодал и преставился на толкучке, иль на вокзале, иль у себя в землянушке, выкопанной в горе́.
Где ни бродишь – в конце концов очутишься внутри карусели. Взмыкнет приветственно Миша-дурачок. Пристроишься, жмешь на брус и одновременно гонишься за ним. Передышка. Бег. Отдых. Вращение. И все сызнова. Взмокнут волосы, тряхнешь головой – капли посыплются.
– Уходилься, Серега, – скажет Миша и отправит на круг, чтобы, катаясь, обсох.
Увидит тебя однорукий. Прикажет наблюдать, не полезет ли кто через изгородь. Пообещаешь, а сам не показываешь виду, когда порхнет через изгородь беспризорник, детдомовец, барачный пострел. Если перемахнет через нее парень либо женатик – на этих заверещишь. Не маленькие!
Мише платят с выручки, притом серебром. Бумажки и медяки он не признает. Серебро ему вручают пенечками, завернутыми в газетные клочки. Он складывает пенечки в шелковый кисет, и мы, кто помогал ему, провожаем Мишу до «Девятки». Он будет сидеть в столовой, потягивая пиво до полуночи, покамест не появится в зале участковый милиционер.
Официантки наперебой упрашивают Мишу проводить их на квартиру. За вечер он пообещает провожать и Лельку, и Милю, и Симу, и завзалом Галину Мироновну. Перед закрытием «Девятки» он сидит женихом. Официантки носятся по столовой, собирая тарелки, вилки, ножи, сдают буфетчице рюмки, кружки, бокалы, графины, срывают со столов скатерти. Мимоходом дотрагиваются до Миши, подмигивают, шепчут.
Появляется участковый. Официантки переодеваются в комнате за малиновыми бархатными портьерами. Милиционер выпроваживает Мишу на крыльцо, обещая, что сейчас выйдут и Лелька, и Миля, и Сима, и завзалом Галина Мироновна. Покамест счастливый Миша пялится в небо, официантки выскользнут на улицу через кухню, и участковый разведет их по домам, чтобы не тронули бандиты.
Все закончится тем, что сторож столкнет Мишу с крыльца.
Назавтра Миша опять в «Девятке». Официантки ему врут. Но он и без того не сердится. Они опять приглашают Мишу в провожатые. Он радуется, верит. И повторяется прежнее.
В понедельник на карусели не катают. Миша неприкаянно слоняется по базару. Спросят, почему он кислый, – пожалуется:
– Однорукий придумал выходной. Маманя ругаться будет.
– Неужто, Миша, ты ее содерживаешь?
– Маманя копеечки просит.
– Есть-то ведь ей надо.
– Ливерные пирожки.
– Значит, пирожки с ливером матери носишь?
– Из «Девятки».
– А вот в «Девятку» тебе не след ходить. Ты не инженер какой-нибудь, не американец.
– Галина Мироновна рассельдится.
– Эка важность.
– Галина Мироновна женится на мне.
– Тогда ходи. Человеку парой назначено жить. Правильно, Миша. Калган у тебя варит на все сто процентов.
Милостыню Миша боится просить. Срамили много раз: «Буйвол краснорожий! Иди-ка ты на товарную станцию вагоны разгружать». Иногда он заработает тем, что туши из ледника в мясной павильон переносит, или тем, что дотащит комод, шкаф, кровать.
Однажды в такой маетный для Миши день я был в коммерческом магазине. Мать посадила меня возле деревянного помоста, на котором стояла, отвешивая хлеб. Я выколупывал дранкой из бумажного стаканчика мороженое и заедал горбушкой серого хлеба. Под прилавком, впритык с помостом, белел ящик, куда мать бросала бумажные деньги. Если возьму несколько рублей, то она, вероятно, не узнает, а Мишу – он голодный давеча плелся по зеленому рынку – они спасут.
Я привстал на колени, начал опускать руку в ящик. В этот момент к ящику наклонилась мама, чтобы дать сдачу с тридцатки.
Я отдернул руку. Ждал, что мать ударит, – видел, как бьют на барахолке воров.
Мать погладила меня, отшатнувшегося, по волосам.
– Тебе сколько надо, Сереженька, ты спроси. Смогу – пожалуйста. Без спросу никогда не бери. Недостача получится, и меня в тюрьму посадят. Без меня ты никому не нужен. Я в тюрьме умру, ты тут. Ты на что хотел?
– Ни на что.
– На ути-ути? На пробки для пугача?
– Ну тебя.
– Виноват ведь. Давай бери мороженку и хлеб и шагай-ка без остановки до барака.
Мишу я разыскал на толкучке. Я стыдился: сам поел, а ему ничего не принес. Я шатался за ним украдкой.
Многие знали Мишу и здоровались с ним. Редко кто упускал случай потешить себя. Миша кивал на приветствие своей маленькой головой, торчавшей над толкучкой. В ответ на вопросы он чаще всего что-то бормотал. Вряд ли он знал всех, кто его знал.
Посреди барахолки Мишу остановила игривым восклицанием «Мишенька, ненаглядный!» баба в сатиновом, с цветами шиповника сарафане. Толстуха крикнула Мише:
– Миш, болтают, Галину Мироновну собираешься взять за себя? Рассчитываешь, пивом будет поить?
– Пива хочу.
– Скрытный ты стал. На козе не подъедешь.
– Брось ты.
– Не брось. Право слово. На пиво дам, только ты на балалаечке сыграй.
– Нельзя.
– Почему ж нельзя? Раньше было льзя.
– Базарный запретил.
– Базарному бы только запрещать. Плюй. Он ушел. На трамвай ушел. Сыграй, Миша, на балалаечке. Пятерку дам.
– Серебром?
– Все бы тебе серебром. Разменяешь у мороженщицы – и вся забота.
– Клади.
Миша шлепнул об землю фуражку. Толстуха наклонилась и положила пять рублей.
– Стой! Миша на балалаечке сыграет. Желаешь смотреть – деньги в фуражку!
Собралась толпа торгашей, покупателей, зевак.
Я приподнялся на цыпочки. Миша смотрел вниз, словно разглядывал носы своих разбитых свиных ботинок. Он мелко тряс ушастой головой, бубня:
– Плям, бам-бам-бам. Плям, бам-бам-бам.
Из толпы, окружившей Мишу, слышались подбадривания, повизгивающий смех, негодующие выкрики, поощрительная матерщина.
Я догадался. Заревел. Пошел, злобно толкаясь.
Когда рассказал Косте (он сидел в будке, шлифуя линзу), у него сделалось больное лицо от возмущения и печали.
Глава четвертаяДо переезда в Железнодольск я вижу себя почти только летом. Весны, зимы, осени, как молоко сквозь цедилку, прошли сквозь мою память,, словно я не жил в эту пору, а спал на теплой печи, укрытый с головой тулупом. Застряло в памяти снежное дыхание сиверко, глянцевито-оранжевая плотная соломенная скирда, с которой я упал, вздумав скатиться по ее отвесному боку, деревянные санки, летящие с горы прямо на мотки колючей проволоки. Уже учеником ремесленного училища я узнал от матери, что врезался в проволочные мотки и никак не мог из них вылезти. Она и дед, отцов отец, выпутали меня из проволоки, отвезли на дрезине в станционную больницу.
С Железнодольска я вижу себя в осенях и зимах, а позже – и в веснах.
Много открытий, радостей и тревог вместила моя здешняя первая осень и первая зима.
Я сплю у Кости Кукурузина в балагане. Доски, из которых Костя с отцом (я был у них помощником) сбили балаган, – свежего распила, березовые, пахнут родником.
Иногда на рассвете Костя уходит на металлургический завод. До заводской стены – три линии бараков. Возле последней линии – рудопромывочная канава, потом заводская стена, за ней, вдоль рельсов, – хребты каменного угля, навалы горбыльника, штабеля шпал и поставленные на попа бочки с цементом и варом.
Пути забиты поездами. Чтобы попасть к овощехранилищам и фруктовым складам, нужно проныривать под днищами платформ, заваленных сизоватыми, пористыми на поверхности, двугорбыми болванками чугуна, проскальзывать под сцеплениями хопперов, высыпавших из себя на доменной эстакаде магнитную руду, перебегать по тормозным площадкам гондол, запорошенных известняком, перебираться через буфера вагонов-самосвалов, наполненных коксом.
Возвратясь, Костя никогда не будит меня и редко ложится досыпать: тело у него нахолодает от зоревого тумана, и я сердито брыкаюсь или жалобно хнычу, если он нечаянно до меня дотронется. Он потихоньку что-нибудь мастерит, поглядывая, не проснулся ли я. Я притворяюсь спящим. Он, вероятно, чувствует мой следящий взгляд, но не успевает его засечь, как мои веки уже закрыты. Я снова чуточку разлепляю ресницы. Он улавливает, что я проснулся, но делает вид, что не заметил этого.
В конце концов я позевываю, выгибаю грудь и, вскочив на колени, таращусь на алые помидоры, на антоновские яблоки, на трещиноватую дыню, завезенную к нам из Средней Азии. Приносил Костя и темную, лопающуюся от спелости сызранскую вишню. Однажды притащил целое сито зеленого винограда, по которому очумело ползала пчела.
С вечера я упрашивал Костю взять меня на склады, но он отказывался, говоря, что могу угодить под поезд или схлопотать заряд соли. Там сторожа, все не спят и с берданками шастают. Днем, тайком от Додоновых и от Кости, я иногда все-таки уходил на завод, сманив с собой Тольку Колдунова, братьев Переваловых, Хасана Туфатуллина.
Толька Колдунов – коротыш. Икры у него мячами, голова огромная, стриженая, с седловинкой.
Переваловых трое. Старший, Минька, глуховат, застенчив, долго терпит, когда к нему привязываются, но если уж вспыхнет – не разбирает, кто перед ним, однолеток ли, дядька или баба. Средний, Борька, долговязый и ловок смешить. Их отец, обувной мастер «индпошива» из артели «Коопремонт», обожает Борьку: «Чистый скоморох! Возьмет да чего-нибудь откаблучит!» Младший – Гринька-воробишатник. И что ему дались воробьи? Вечером зола и шлаковое крошево сыплются в барак: Гринька по чердаку ползает, воробьев ловит. Лупил его отец, мать драла за вихры: «Не замай воробьишек, не носи домой. На постели гадят, на стол пакостят». Сопит. Помалкивает. Родители на работу – он туда, где воробьев припрятал, и в комнату.
Хасан и Минька ровесники. Им по восемь, нам с Борькой – седьмой доходит, Колдун с Гринькой – шестилетние.
Хасан – ногайский татарин. Отец у него есть, но, как и мой, живет поврозь от семьи – от Хасана, его матери Нагимы и двухгодовалого братишки Амира. Отцом Хасан похваляется: он у него маляр и заколачивает страшно много денег. Я не знал, кто такой маляр, и думал, что отец Хасана какой-нибудь главный начальник над заводскими инженерами. Как-то Хасан завел меня в Соцгород. В подъезде нового розового каркасного дома я увидел двух мужчин, один из них качал воздух в баллон с известковой болтушкой, другой водил около стены распылителем, насаженным на длинный черен, и стена покрывалась мелким крапом. Печальный, смуглый, носатый мужчина, орудовавший распылителем, оказался отцом Хасана – Габдрахимом Арслановичем, однако я не был разочарован, хоть он и представлялся мне другим: в его строгой печали была какая-то значительность. После, вплоть до окончания войны, я изредка видел Габдрахима Арслановича. Он проходил, чудилось мне, сосредоточенный на прежней своей заботе... Сейчас, когда я вызываю из прошлого некрупную его фигуру, мне становится жаль, что никогда не узнаю, о чем он думал.
Хасанова мать Нагима, повариха «Девятки», была, по выражению барачных женщин, п о п е р е к т о л с т а. Врач, столовавшийся в «Девятке», советовал Нагиме курить, чтоб окончательно не ожирела. Но Нагима не собиралась курить: в девчонках ее дразнили щепкой, она мечтала стать толстой и стала толстой.
По тропам в полыни, где нас не было видно, мы выходили к складам. Нас тут же отпугивали обратно в полынь дневные сторожа, грузчики, кладовщики, возчики, угрожая каталажкой, озорно свистя и улюлюкая. Они пугали нас понарошку, но мы убирались: поймают – серьезными сделаются, кто пытает фамилию, и из какого мы барака, кто в милицию требует отвести, а кто и за уши до земли пригнет.
Мы уходили на свалку битого стекла. Искали осколки зеркал и линз, обломки зеленых пластин, внутри которых проступали медные сетки. За стеклышками железнодорожных фонарей охотились наперебой. Как мы радовались мгновенным цветовым превращениям мира! Была серой будка (из нее дают пятиминутные гудки о начале и конце смен), было морковным здание прокатного стана, были белыми кольца пара (где-то на стане, говорят, работает паровой молот и пускает их в небо) – и вот все это стало красным, зеленым или желтым, только меняй стеклышки перед глазами.
На свалке мы обнаружили, что Колдунов путает цвета. Он надулся и улизнул в полынь. Мы никак не могли взять в толк, почему он путает цвета, а мы – нет. Мы и не думали дразнить Колдунова, однако нам попало от его матери Матрены. Она бранила нас с высокого барачного крыльца, зачем мы доглядели, что ее Толенька не р а з л и ч а е т цвета...
...Как-то раз никто из мальчишек не захотел идти на завод, и я взял с собой Катю и Лену-Елю Додоновых. Они давно просились за стеклышками.
Мы удачно прошмыгнули под составом вагонов-холодильников, потом под составом цистерн. На третьем от товарных складов пути стояли думпкары, впереди них почихивал паровоз.
Я подсадил на лесенку тормозной площадки Лену-Елю. Хотел подсадить и Катю, да там, в голове поезда, возник гул движения. Я вытолкнул Лену-Елю на тормозную площадку, и покамест паровозный толчок передавался сюда по сцеплениям, сам выметнулся на площадку.
От думпкара к думпкару прокатилась судорога нового толчка; по ту сторону поезда проверещал свисток составителя, и мы плавно, как во сне, поплыли.
Своей гибкой быстротой Катя напоминала кизильских ящериц. Как легко они прядают вверх по скалам!
Я крикнул Кате, когда поезд пошел, чтобы она отбежала к цистернам, но она скользнула к подножке, уцепилась, вспрыгнула коленями на нижнюю ступеньку, выскочила на площадку и юркнула к Лене-Еле, ухватившейся ручонками за мазутный тормозной винт.
Паровоз набирал скорость, однако я надеялся, что его задержат на сортировке. Поезда через нее редко пропускали сквозняком. Вагонным мастерам нужно ведь потюкать молоточками по колесным бандажам и осям, масленщикам добавить масла в подшипники, а сцепщикам проверить, ладно ли продеты в серьги крючья и прочно ли свинчены черные резиновые шланги – по ним подают в тормоза воздух.
Мы пронеслись между эшелонами с колотыми глыбами мерцающего антрацита, и сортировка, как я ни удерживался взглядом за станцию и стоящего у ее дверей дежурного, оторвалась, съехала влево, за бугор, на котором, весь кровавый от ягод, одиноко топырился куст шиповника.
Тут я забоялся. Заведут куда-нибудь, откуда и в месяц обратно не доберешься. Но боязни и тревоги не выказал: прыгать еще вздумают, дуры!
Я повернулся к девчонкам. Они, эти сестрички, о которых я думал как о страшной обузе и которых представлял в будущем испытании всего лишь плаксами, совсем не унывали. Обе, держась за винт тормоза, слегка приседали, норовя попадать в ритм колесным ударам. Они радовались, что едут на паровозе. И было на их мордашках такое же торжество, какое бывало у меня на лице, когда катался на карусели.
Хоть я и караулил, чтобы никакая из развеселившихся сестричек не кувыркнулась под вагон, все-таки кое-что я успел разглядеть, мимо чего мы пролетали по металлургическому заводу. До сих пор мое зрение словно прошивают огненные проволоки. Они возникали в теневой глубине здания, откуда-то выхваченные длинными щипцами рабочего, и в ней же пропадали, на мгновение выструившись красной полупетлей. Кран «Демаг», перекосив неуклюжий кузов, опускал на фундамент трансформатор; с боков трансформатор был в темных отвесных трубах и походил на тарантула, подобравшего под брюхо ноги.
С высоко вскинутой над землей эстакады в тоннельное, обдаваемое золотым жаром нутро здания, весь старательно закругленный, паровозик вдвигал платформы, на которых лежали корыта не корыта, колоды не колоды – слишком уж они были велики для корыт и колод, – и торчало из них гнутое, мятое, резаное железо.
Едва поезд стал забирать в сторону Железных гор, я успокоился: дальше рудника не завезет.
Паровоз долго брал подъем и где-то на переломе дороги в уклон остановился. Я рассудил, что у него не хватило силенок, он поднакопит пару и двинет дальше. Тем временем я ссажу девчонок, и мы будем добираться домой.
Холм, на котором мы оказались, скатившись по насыпи и отойдя от нее к сизым скалам, мало чем отличался от холмов, у подошвы которых ютились бараки нашего Тринадцатого участка. Все то же: пучки жесткой травы, заячья капуста, сочная, несмотря на бездождье, засохшая, по все еще душистая богородская травка. Только тут кто-то накидал много комков глины и всяких диковинных камней. Опередив Катю, я схватил крупитчатый, порохово-серый камень, в нем были сиреневые, с ноготь, глазки́. Другой камень, походивший яркой желтизной на золотые поповские червонцы, я сцапал у самых ног Лены-Ели. И так как я заорал: «Чур на одного!» – она рассердилась и плюнула мне на кулак – в нем была зажата находка. Я бы, конечно, побил Лену-Елю, если бы не зашумел щебень на полотне и не крикнул мужчина, размахивающий красным флажком:
– Айда сюда быстрей. Руду будут рвать. Как бы не убило.
То был поездной кондуктор. Едва мы, торопясь, выбрались по насыпи к последнему вагону, откуда-то из земли вздулся гром, а когда он закатился за небеса, то на миг так притихли и горы и воздух, что мы присели в страхе и ожидании.
Через несколько секунд стал приближаться какой-то шелестящий топот. Мы запятились под тормозную площадку, теснимые кондуктором, и тотчас на листовые стальные кузова думпкаров посыпался каменный град.
Состав покатил дальше. Мы вернулись на холм. Главная гора Железного хребта была окутана розово-бурой пылью. Валившееся за полдень солнце не застили облака, поэтому оно легко просвечивало поволоку пыли, отчего рудные горизонты – гигантская лестница в небо, на ступенях которой челночат поезда, стучат буровые станки и кланяются железнякам птицевидные экскаваторы, – были ясно разноцветны.
Поглазев на гору, мы насобирали камней. Скрывая друг от друга находки, начали спускаться с холма на холм к алым трамваям, сновавшим далеко внизу и казавшимся отсюда совсем махонькими. Катя скоро вывалила из подола свои камни, оставила только один, как она думала, золотой самородок и понесла его в кулаке. Лена-Еля хоть и плелась позади, но сокровищ из подола не выкидывала и подступаться к себе, чтобы узнать, что же она тащит, не позволяла. Мне было идти легче и веселей: у меня карманы. Правда, они терлись об ноги.
Добрались мы домой затемно и уже досыта наревевшись: нас не пускали в трамвай, а когда мы незаметно, за взрослыми, залазили в вагон, то высаживали со стыдом: «Ишь, ката́ки, ишь, баловники!»
Мать била меня бельевой веревкой. Фекла пригибала Катю и Лену-Елю за волосы до самого пола. Петро то меня отнимал у матери, то отбирал дочерей у жены. Перепало и ему: заступник выискался!
Утром к Додоновым заглянул Костя. Он слыхал, какую баню нам устроили матери. Вечером, после уроков, он оставался на кружок физики, потому-то его и не было в бараке, а то бы он не дал избивать нас – дверь бы вышиб, а не дал. Кто-то внушил это Косте или, может, он сам понял: лютовать над детьми – значит превращать их в тихонь, неслухов, лицемеров, злыдней. «Злоба из ума вышибает, – говорил он, – урезает душу: была с поле, станет с лоскуток».
Всего, о чем он говорил, я понять не мог, но восхищался им на манер Савелия Перерушева: «Ну, башка!» Я понимал лишь то, что он меня жалеет. У меня саднило спину, а главное, я видел, какие у меня исчерна-фиолетовые рубцы, оставленные на спине веревкой, потому что, едва взрослые ушли на работу, я топтался перед неоправленной пластиной зеркала и, выворачивая шею, рассматривал исхлестанную от бока до бока, неузнаваемо чужую кожу. Захотелось, чтоб Костя охнул, увидев, как я избит. Я заголил рубаху, услышал его невольный стон в попросил:
– Подуй.
Он потихоньку опустил мою рубаху.
– Ты мужик. Терпи до последнего.
Его внимание привлекли камни, сложенные на подоконник. Никакого золота мы вчера не нашли. Блестящие желтые кубики были серой. Черный веский комок, из которого выступали лиловые кристаллы, оказался магнитным железняком с вкраплениями граната. Гранаты так обрадовали Костю, что он вздумал выколупнуть кристаллик, отшлифовать его и вставить в гнездышко перстня взамен стекляшки.
Катя полюбопытствовала: кому он подарит перстень?
– Мачехе. Отец жениться будет.
– Мачехе? Знаю я, какой мачехе. Никакой не мачехе, Нюрке-задаваке. Ну и красавица! Конопушки на носу.
– Конопушки у Нюры золотые, не то что ваши камни.
Я удивился, почему справедливого Костю задели Катины слова.
Катя не переносит Нюрку, я переношу и не переношу. Нюрка не замечает меня. Для нее и другие мальчишки – все равно что есть, что нет. Я не знаю, должна ли она их замечать, но я уверен, что она должна замечать меня, друга Кости, Сережу Анисимова, у которого самая лучшая на свете мама. Нюрка должна была бы чувствовать: мне нравится, что в белом ее лице есть голубоватость, что она быстро ходит, нравится даже то, что ноги у нее вогнуты в коленях, отчего, по толкам баб, она не шагает, а «чапает». Бабы даже приговаривают в лад Нюркиной поступи: «Чап-чап, чап-чап...» Но она меня не замечала.
Костя, конечно, не всерьез рассердился на Катю. Он развлекал нас, показывая, как магнитный железняк притягивает иголку. Иголка дрожала и пританцовывала, стоя на ушке. Железняк Костя дал сперва Лене-Еле, потом Кате, и магнитные забавы утешили их.
После этот рудный камень забрал я, притягивал им булавки, кнопки, гвоздики. Долго, привязав к нитке, волочил по земле и радовался, видя, как нарастает на нем бахромка искрасна-рыжей железной пыли.