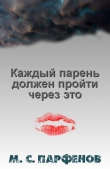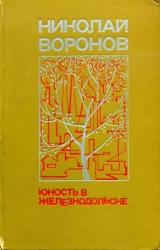
Текст книги "Юность в Железнодольске"
Автор книги: Николай Воронов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Галина Семеновна устроила Валю ученицей в продуктовый магазин.
– Трудно одной семью тащить. Все подмога. Долго промывальщицей я не продержусь. В сырости и в сырости. Пока промоешь паровоз – мокра, как мышь. Пусть торгует. Сытая специальность, – оправдываясь, говорила она.
Сходству судеб моей матери (она тоже начинала продавщицей и тоже в нелегкие годы) и Вали Соболевской я почему-то придавал почти суеверное значение. Мнилось, что Валя будет мне близким человеком. Я протягивал это сходство в будущее: мать потом ушла из торговой сети на завод, работала оператором блюминга и славилась как бесценная труженица. Так будет и у Вали.
Основным ощущением моей довоенной жизни было ощущение счастья. Но больше всего я чувствовал себя счастливым не тогда, когда мать работала в коммерческом хлебном магазине и угощала меня горбушками, сайками, маковыми халами, горячими бубликами, и не тогда, когда заведовала магазином «Союзмолоко» и я лакомился мороженым и цукатными сырками, и не тогда, когда она была буфетчицей в кинотеатре «Звуковое» и мне перепадали яблоки, печенье, лимонад, вобла, – а тогда, когда мать сидела в стеклянной, просторной, как салон-вагон, кабине главного поста и двигала рукоятки контроллера. Она двигала их как-то магически музыкально, будто управляла электрическим оркестром, а в действительности гоняя в валках под кабиной солнечно-алые слитки, и они издавали гулы, рокоты, трески, искрились, полыхали, ужимались, шипели. Я гордился и тем, что она катает сталь, и тем, что получает премии, и даже тем, что возвращается с блюминга с кроваво-красными глазами. Глаза маму подвели: врачи запретили ей работать на главном посту. Душевная тусклота и разочарование постигли меня, едва мама оставила прокат и стала продавцом молочного магазина, которым прежде заведовала.
Еще работая оператором, она занималась на курсах медицинских сестер. При записи предупреждали: «Готовим на случай войны». Ее взяли в армию месяца через полтора после начала войны.
Предопределяя судьбу Вали по судьбе своей матери, я переводил продавщицу Валю на главный пост блюминга, и она превращалась в знаменитого оператора. Но дальше я не представлял себе ее судьбы. На войне Валю мне трудно было себе представить. Война закончится скоро, нам с Валей будет лет по шестнадцать. И больше войн не будет. Ведь все говорят – эта война последняя.
Еще предвоенной весной я рвался в ремесленное училище. Отказали – несколько месяцев не хватало до четырнадцати. Рвался туда, в общем-то, из-за формы: фуражка с лаковым козырьком и эмблемными молоточками, шинель черного сукна, оцинкованные пуговицы. Парадная гимнастерка репсовая, то синяя, то кремовая; праздничные брюки суконные и широкие, словно матросские!
После незадачливой попытки бежать на фронт я поступил в ремесленное училище, почти не думая о форме: какую одежду дадут, такую и носить буду. Меня определили в группу газовщиков коксовых печей.
Я виделся с Валей урывками. Уходил рано утром и возвращался после ужина. Кроме часов, отведенных на еду, все время было занято специальными теоретическими и практическими занятиями, сбором металлического лома для вагранок, шагистикой, знакомством с винтовкой образца 1891—1930 годов, обучением штыковому бою.
Военрук, тощий молоденький лейтенант, браво ступавший не гнущейся после ранения ногой, вручал нам тяжелые бутафорские ружья. Мы изготавливались к бою, упругим шагом двигались на соломенное чучело и так падали, протыкая его. Излишнее рвение лейтенант умерял похвалой, зато не терпел вялости и своим ядовитым шепотком спрашивал у очередного «мешка»:
– Чи ты скуропаженный, чи кум твоего дядьки?
Валино учение проходило иначе. Чтобы раньше поставили ее на самостоятельную работу, она пропадала в «Гастрономе» с темна до темна. Зимой директор назначил ее продавщицей хлебного отдела.
Иногда, выбрав свободный час, я бежал в «Гастроном». Валя была рада моим приходам. Во время раздачи хлеба к прилавку не подступись: справа очередь, слева наблюдающие за очередью, сами метящие поскорей получить хлеб. Приблизившись к прилавку – сразу яростные крики с обеих сторон:
– Эй, ремесло, не притыкайся к очереди, пока шишек не получил.
– Ишь, архаровец!
– Пропустить надо парня: чать, наверно, сутки сподряд с производства ни шагу, все для родины старался.
От печи, к которой прислонялся спиной, я смутно видел Валю. В тот момент, когда человек, выкупивший хлеб, выскакивал из очереди, – отстригая ножницами талоны от карточек, Валя успевала взглянуть на меня и улыбнуться. Если бы я совсем ее не видел из-за людей, все равно приходил бы сюда и был счастлив уже оттого, что слышу щелканье ножниц и удары приделанного к прилавку ножа с лезвием, натянутым, как полотно пилы.
Однажды, краснея и прикусывая губы, Валя попросила меня не приходить в магазин. Покупатели и директор недовольны, что она отвлекается, переглядываясь со мной.
Вскоре после этого наше училище откупило вечерний спектакль городского драматического театра. Вышли мы оттуда за полночь. Я надумал повидать Валю. Она работала по суткам – заступала на смену в одиннадцать часов. Как раз было ее дежурство.
Жгло морозом. Я побежал по аллее, вдоль трамвайной линии. Костлявые карагачи белели зачерствелым инеем.
С бугра открылись голые тротуары, мостовые, рельсовые пути. До чего ж неприятна пустынность. Я разложил перочинный нож, спрятал в рукав шинели, побежал дальше.
Сторож, наверно, отсиживался в «Гастрономе». Я постучал по сосновому лотку, томительно пахнущему черным хлебом.
– Кто там?
– Сергей.
Колотясь в растертых пазах, поползла вверх деревянная задвижка. В том конце лотка показалось заспанное лицо Вали.
– В такую стужу прискакал! Это я виновата.
– Почему?
– В уме все вилось: «Соскучилась по Сережке. Хоть бы догадался заглянуть».
– Спасибо тебе.
– Обморозишься – другое скажешь.
– Ни за что! Ты прямо на складе спишь?
– На складе. Меня закрывают тут. Нельзя отлучаться: в любую минуту автофургон может приехать. Ну и воры могут пожаловать.
Она робко засмеялась, присела и показала топор; он белел широким лезвием.
– Хочешь кушать?
– Слегка.
Я соврал. Я бы тогда съел, наверно, за один присест дневную пайку хлеба, пять вермишелевых супов и столько же рагу из костей с толченой картошкой, заправленной горьковато-терпким хлопковым маслом.
Но Валю трудно обмануть. Велела растопырить ладони на краю лотка. И, прошуршав корочкой, горбушка очутилась в моих пальцах.
– Ой и прелестное платье мне принесли, Сережа.
– Кто принес?
– Люди.
Валя приложила к халату тяжелое шелковое платье.
– Нравится?
– Нравится. Красивое.
– Креп-сатэн. Не спутай: не сатин, а сатэн.
Я мало чего смыслю в тканях, но постарался сделать вид, что для меня ни что не в диковинку.
– Ты парнишка со вкусом, – лукаво похвалила она.
– А ты девушка с размахом. Второе в этом месяце платье. И дорогое.
– Недоволен?
Я не то что был недоволен, но какое-то раздражение поднималось в душе. В прошлый раз я обрадовался ее обновке, теперь вроде нет. Я сказал, что рад за нее, но сказал невнятно.
Она смотрела на меня так, как, вероятно, глядит в телескоп астроном, озадаченный непривычным поведением давно знакомой звезды.
– Почему у тебя изменилось настроение?
– Откуда ты взяла платье, Валек?
– Хватит, походила обдергайкой. Думаешь, приятно, когда кто-нибудь споет вослед: «Хороша я, хороша, да плохо одета»?
– Я ничего не говорю.
– Не говоришь. Правильно. Ты думаешь...
– Придира ты, Валек.
– Как с папой случилось, я страшно чуткая стала. Ты меняешься ко мне.
– Мнительность. Вот ты вправду меняешься. Кто в прошлое воскресенье уныривал на танцах?
– Ты где-то там стоишь. Ко мне подходят, приглашают. Ты рядом стой. Но ты не терялся... Вон с какими девушками танцевал! Постарше меня.
– Какие попадались.
– Знаем мы вас. Выберете глазами, нацелитесь и, как только духовики заиграют, летите.
Я не стал спорить. И так бывает, как она говорит. Но в прошлое воскресенье было не так. Я правду сказал, что на танцах в клубе железнодорожников Валя избегала меня: ее, должно быть, смущали мои кирзовые ботинки и хлопчатобумажная стираная спецовка. И танцевала Валя не со всеми, кто приглашал. Своих одногодков она шутливо-покровительственно отсылала к девчонкам с бантиками, а сама танцевала с парнями лет двадцати.
– Сережа, ты что замолчал?
– Вкусная горбушка.
– Неужели ты думаешь, что я модница? Я просто соскучилась по красивым платьям. С Гелей напеременку буду носить, она догоняет меня. Теперь себе ничего не буду справлять, только маме и Ванде. Обносились. Эх, Сережа, сколько всего нужно! Одно расстройство! Ты не сочувствуешь...
– Неправда. Я за вашу семью давно переживаю. Если хочешь знать – за тебя сильнее всего... А ты – «не сочувствуешь»...
– Не сердись. Я сболтнула... Сережа, ты бы женился?
– Что?!
– Ты уже думал, на ком жениться?
– Рано еще.
– У тебя усы растут. И ты гордо держишься. Ты бы хотел жениться на мне?
– Хватит смеяться.
– Я не понарошку.
– Где ты слыхала, чтоб ремесленники женились?
– Слыхала. На Фрунзенском поселке девчонка вышла замуж за ремесленника. Правда, у ее родителей свой дом и корова.
– Издеваться будут. Сосунки, мол.
– Пусть! Еще обращать внимание на всяких зубоскалов. Сережа... Вдруг бы получилось, что меня кто-нибудь посватал?
– Кто-нибудь?
– Сватают уже. И мама согласна. Даже рада. Хороший человек, инженер. А я растерялась. У меня нет желания выходить за него. И отвертеться трудно. Только вот... если бы ты согласился жениться. Согласился бы?
– Ловко ты, Валек, фантазируешь.
– При чем тут «фантазируешь»?
– Тогда выходи замуж.
– И выйду.
– Ну чего ты дурачишься?
– Ладно, ладно, не сердись. Ты еще теленочек. И мне только шестнадцать лет. Замуж не выйду. Ладно. Только за тебя. После войны.
– Давно бы так.
– Значит, согласен?
– Слепой сказал «посмотрим», глухой сказал «услышим».
Валя обиделась. Закрыла лоток задвижкой. Я просил, чтобы она опять выглянула. Но Валя отвечала откуда-то из дальнего угла склада, что и так уже выстудила помещение, а оно и без того холодное. Я стал канючить, что не могу говорить, не видя ее лица. Она сжалилась, открыла лоток и снова заговорила с прежней охотой и радостью.
Нам было весело, но я промерз до косточек. Собрался уходить. Она загрустила.
– Сережа, возьмешь кирпичик хлеба?
– У меня ведь нет карточек.
– Без карточек, без карточек. От меня.
– Ты же талончиками отчитываешься. Где ты их возьмешь? Недостача получится.
– Эх ты, сын продавщицы!
– На хлебе она бог знает когда работала.
– Все равно что на хлебе, что на бакалее. Условия общие. Особенности, конечно, и там и там свои. Взять хлеб. Лучше всего, если его под утро привозят. Разновес к открытию магазина терпимый.
– Что за разновес?
– Разновес? В ту смену первый завоз хлеба вечерний. Плохо. Понимаешь? Разница в весе хлеба утром и вечером будет килограммов на пять. На целых две круглых буханки. Хлеб горячий. Паром изойдет, усядет. Усушка. Понимаешь?
– Вполне.
– Если бы не естественная, обвешивать бы приходилось. Сейчас за обвес, сам знаешь, по головке не погладят – волчий билет или в тюрьму.
– Не пугай, Валек. Ты скажи, что за зверь «естественная»?
– Я уже объясняла. Естественная утрата – усушка. Кроме усушки, есть еще утруска: режешь – крошки. Покупатель крошки не берет. Списывают и их на естественную. Бывает, хлеб сырой, прямо замазка, да если нож тупой, крошек навалом. Никак не уложишься в норму естественной. Выкручивайся на свой страх и риск.
– Объявлен дополнительный набор в ремесленные. Бросай ты эту...
– Не могу. Я ради мамы... Знаешь, как она радуется, что я на хлебе? Теперь, говорит, прокормимся. Витун, витун ты, Сережа. При папе я тоже все в небе вилась. Возьмешь кирпичик?
По лотку прошуршала буханка и оказалась у меня под мышкой.
Я побежал домой. Окоченевшие ноги, сделавшиеся неуклюжими, ломило. Бежать вдоль трамвайной линии безопасно, но долго: слишком большой крюк; напрямик, через горы, – жутко. Я поколебался и выбрал ближний путь. В кулаке, втянутом в рукав, сжимал ручку перочинного ножа.
По Соцгороду бежать было не так боязно: вздумают напасть грабители, есть где спасаться, подъезды открыты, кто-нибудь выручит. Притом в Соцгороде еще довольно много мужчин: здесь живут люковые, дверевые, машинисты коксовыталкивателей и двересъемных машин, газовщики, горновые, мастера домен, сталевары, вальцовщики, операторы. Все они работники основных цехов металлургического комбината и имеют постоянную военную бронь.
Коммунальный участок, землянки которого казались черными кучами, разбросанными по снежным склонам, лежал без огней, без теней, без звуков. Я летел меж землянок по вилючим, крутым, тесным тропинкам.
Едва выскочил на бок Первой Сосновой горы, расхрабрился: пошел шагом, сшибал лошадиные котяхи, и они, деревянно стуча, скатывались по гремящим снегам в желоб пади. Должно быть, проехал конный милицейский патруль.
Внизу белел родной Тринадцатый участок. Стены бараков казались выпиленными из сугробов, окна – изо льда. По эту сторону Сосновых гор была серая темнота: сказывалась близость комбината.
Давно я не видел сверху ночной завод и, как всегда, залюбовался им. Но одновременно не переставал думать о Вале. И был настороже.
Два цвета с оттенками властвовали на заводе – красный и черный. Черный паровоз, тянущий черные чаши, налитые красным чугуном, излучающим красное марево. В красном воздухе здания, краснеющего стеклянной крышей, мелькали черные руки мостовых кранов, слегка приподнимавшие красные стальные слитки в черных изложницах. В черные тушительные вагоны сыпался из черных печей красный кокс. Красными щелями сквозили освобожденные от кокса печи в черных крыльях батарей, как бы прижатых к земле черными четырехугольными турмами, а черные электровозы скользили к черным тушильным башням, толкая впереди себя черные вагоны; в них красно полыхал коксовый «пирог».
Я лег головой к березовому комоду, ногами к промерзлому углу. До утра продолжалась качка от сна к яви. Вспомню в забытьи, как, страшась грабителей, пробежал от соцгородского магазина до Сосновой горы, – и очнусь в стыде. Представлю ночной завод, невольно открою глаза. Начну перебирать в памяти нашу с Валей встречу – радуюсь и страдаю.
В училище я бежал рысцой, еще затемно. Ветер-башкирец шлифовал кварцево-твердый наст. Я бежал в ветре, воображая, что он, тысячеверстный, выстелил собой горную гряду, увалы, степь, изволок, по которому я бегу, и многое, что впереди меня: Железный хребет, аул, тростники над слепыми озерами, колки, овраги...
Была таинственно непонятной моя соединенность с ветром, с Первой Сосновой горой, со школой на ее склоне, с окнами бараков. Но я чувствовал ее, догадывался о ней и сосредоточивался на этой догадке.
Рынок был как вымороженный. У коновязей, овощных и молочных рядов, возле мясных павильонов – нигде ни человека, ни птицы, ни собаки, ни лошади. Прошлой зимой здесь в этот час уж подъезжали сани, заваленные всякой живностью и прикрытые рядном, а обочь саней шастали тулупные мужики и бабы, уж подтаскивались к рядам мешки с картошкой, кадки с соленьями, выгружались из кулей на столешницы диски мороженого молока, топленого бараньего сала и шары сливочного масла в узорных, если днем приглядеться, отпечатках ладоней и пальцев, разрубались туши, а ощипанная дичь выкладывалась на прилавки и подвешивалась на крючья.
Я перевалил через бугор и пустился к толпе, роившейся около давно не торгующих пивных и киосков с мороженым. Толпа выплеснулась навстречу, вобрала меня, загомозила вокруг и тут же вытолкнула с пятью тридцатками и двумя червонцами, полученными за хлеб.
На воскресных танцах я был вознагражден веселостью и неотступностью Вали: все танцы она танцевала со мной. И только вальс-бостон (не очень-то я его умел) с Нюрой Брусникиной. Нюра любила «водить за кавалера». Девчонки говорили, что водит она хорошо, а на мой взгляд – с какой-то солдатской ухваткой. Когда она танцевала с парнем, обычно ее разбирала злость: ей казалось, он водит вяло, неловко, и все время хотелось повести партнера самой.
После танцев мы с Валей подолгу стояли в барачном тамбуре. А когда Галина Семеновна уходила в ночь промывать паровозы, Валя зазывала меня домой. Ее сестры спали. Мы тихо сидели за столом друг напротив дружки, пальцы наших рук перевивались. К этому времени тепло из комнаты выдувало, и Валя в пальто, платье и чулках, только сбросив с ног туфли, вытягивалась на кровати поверх суконного одеяла.
Я засматривался на Валю. Лежащая, она казалась еще красивей, чем на танцах, чем в полумраке тамбура и только что за столом. Вид ее пальцев, обозначавшихся под шелком чулок, подол изогнувшейся по коленям, тугая на груди ткань платья и какая-то тревожная надежда, что я могу быть таким счастливым, как никто и никогда, оборачивались во мне неожиданным желанием заплакать, убежать, бродить по городу, изумляясь Валиной красоте и чему-то, чего я не понимаю, но что так прекрасно, что хочется умереть, не зная, что с этим чувством делать...
Валя лежала на самом краю кровати. Из смятения, которое я переживал, выводило меня ее легкое движение в сторону стены. Сесть возле Вали было трудно, но я садился. Поначалу оцепенение владело нами, словно мы преодолевали робость и прислушивались друг к дружке, потом она еще чуть-чуть отодвигалась, запахивала мои бока полами своего пальто. Сильно стучало ее сердце. Ее дыхание обвеивало мое лицо. И была такая нежность во мне от этого повеивания, от нафталинового запаха шерстяной ткани и зноя, исходившего от ее груди, что я боялся шелохнуться, чтобы не спугнуть всего, чем полнилась душа, и чтобы Валя не прогнала. Ведь ей, наверно, неловко? Временами я забывался, а в забытьи куда-то будто бы плыл, скользил, и все в какой-то солнечности и пуховости: мне грезилось что-то отрадное, лазурное – безграничное море ли, небо ли. Я приходил в себя, счастливый, и счастье разрасталось, едва вспоминал, где я, и снова чувствовал ветерок ее дыхания и телесный зной. Мгновением позже я уже соображал, что Вале показалось, будто я засыпаю, и она будила меня. Ее ладони заботливо притрагивались к моей нахолодавшей сквозь гимнастерку спине. Я догадывался: сейчас начнет отсылать домой. Она тормошила меня, смеясь, называла соней, потом, как на маленького, надевала шинель и шапку и, говоря, что ей жалко и обидно расставаться со мной, выпроваживала за дверь.
Глава четвертаяЯ был счастлив, настолько счастлив, что казалось – от стремительности, которую чувствую в себе и которая сказывается в каждом моем движении, вот-вот взовьюсь и полечу легко и быстро.
Тогда я еще не знал, как непредусмотрительно счастье, как оно заблуждается, полагаясь на свою всесильность и непрерывность.
Когда я появился на рынке с кирпичиком хлеба, какой-то мужчина в черном полушубке втиснулся между мной и парнем в стеганке, который отсчитывал мне деньги. Я хотел обойти мужчину, но не смог сдвинуться с места; он меня держал, прижав мои руки к бокам. Я видел, как грабители отбирают буханки, – сейчас напарник этого чернополушубочника вывернет буханку из моей руки и убежит. Изо всей мочи я ударил его коленом. Он слегка присел, но уже через мгновение поволок меня из толпы. Я решил драться ногами. Я даже представлял себе, пока он тащил меня сквозь толпу, какое испытаю упоение, пиная его в живот.
Едва коловращение рынка осталось позади, мужчина оглянулся на меня.
– Сотрудник горотдела милиции Корионов, – сказал он. Оглаживая под полушубком живот и морщась, укорил: – Госпитальные врачи еле отходили, а ты чуть насмарку не пустил их старания.
– Вы бы предупредили. Знал я, что ль, сотрудник вы или бандит. Чего вам?
– Ух, крутой! Высоко, наверно, живешь! В землянках? Да?
– Под горой.
– Барачный? Хорошо. Родня, выходит. Я тоже в бараке рос.
– Ближе к делу. На завтрак опаздываю.
– На кого учишься?
– На газовщика коксовых печей.
– Похвально.
– Ничего похвального.
– Как же! Самое трудное производство. Не зря спецмолоко дают, и хлебная пайка килограммовая. Ты что, уже самостоятельно работаешь?
– Практику прохожу.
– Хлеб, должно быть, не ешь? Приварком обходишься? Тощий, страшно смотреть.
– Почему не ем? Сколько дают, все подметаю.
– Все, говоришь? Тогда, выходит, чужим хлебом торгуешь.
– Как это чужим?
– Краденым, например.
– Откуда вы взяли?
– Своими глазами вижу. Через день торгуешь. Где добываешь, кирпичики?
– В хлеборезке.
– Как?
– Обыкновенно.
– Не совсем обыкновенно. Хлеб ремесленникам дают к завтраку, обеду и ужину. По двести, и триста граммов. А ты по кирпичику выносишь. Мне это известно.
– Вам мало известно. Вы в полушубке. Вам не холодно, а я в шинелке. И на завтрак опаздываю.
– Без завтрака придется сдюжить. Теплое помещение сыщем. Рядышком теплое помещение. Кабы не пригорок, отсюда бы увидал.
Корионов помял под полой живот, усмехнулся, и мы стали спускаться вниз. Я понял, что попался и что, наверно, не миновать суда и заключения. Наметил – поравняюсь с овощными рядами, так и мотану от сотрудника, но прежде осмотрюсь, куда бежать, а то встречные люди схватят.
– Орел! Знаешь, крепко ты саданул меня в живот. Не обессудь, придется тебе довести меня до горотдела.
Легким движением Корионов ввел свою ладонь под мой локоть.
Ловкач! От такого не удерешь. Считай, пропал. Но Валю ни за что не выдам.
– Орел, ты не думай, будто я притворяюсь: и в самом деле ты потревожил мне рану.
Корионов говорил искренне. Я поверил ему. Однако тут же с внезапной злостью настроил себя на неверие: «Знаем вас... Мастера придуриваться. Как только не прикидываетесь, чтобы засадить человека».
– Родители-то у тебя есть?
– В армии.
– Воюют?
– Отец Ленинград защищает, мать работает в госпитале.
– В нашем?
– Не, в тюменском.
– С кем тебя оставили?
– С бабкой.
– Отец-то что пишет?
– Щелкает фрицев. Снайпер.
– Про снабжение пишет?
– Патронов ему хватает.
– А продуктов?
– Одно время по сто пятьдесят граммов хлеба получал, теперь – по триста, потому что постоянно на передовой.
– Тяжко в Ленинграде. Сына нашего сотрудника вывезли оттуда. Тоже в ремесленном учится. Рассказывает... Возле собора жил. Сколько людей с голоду умерло... Собор трупами заполнили. Я как вспомню про это... так знаешь... Тысячи убитых видел. Чем пахнет голод – сам испытал, суток по пяти маковой росинки во рту не было. Вот у тебя буханочка на кило примерно пятьсот. Для двенадцати ленинградских детишек – это суточный паек, и тот не всегда до них доходит. Находятся людишки, расхищающие хлеб. Хлебные воры. Бедствие!
Поднимаясь на холм, останавливались: Корионов то и дело задыхался.
Двухэтажный дом, стоявший на макушке холма, еще не светил окнами. Какой-то радужно-бензиновый, зловещий отлив был у стекол. В доме лет десять назад жили Колывановы. Любил я этот дом: тем, что был рубленый, с мохом между бревнами, он напоминал мне деревню.
Дядя Александр Иванович давно похоронен – замерз осенью 1934 года, возвращаясь из гастрономического магазинчика, которым заведовал.
Счастливо начиналась дядина судьба в Железнодольске. Его взяли сыроварным мастером на городской молочный завод, дали комнату в этом прекрасном доме. Потом назначили начальником сыроваренного цеха; не прошло и трех месяцев, как поставили директором завода. Объясняя стремительное служебное возвышение своего брата Александра Ивановича, моя мать говорила, что «он был старательный и умел колесом закрутить производство». Хотя было известно на заводе и городскому начальству, что он любил «заложить за воротник», все одобряли его выдвижение, надеясь, что он остепенится. На короткое время он и впрямь остепенился, а затем стал пить пуще прежнего и скоро скатился обратно в мастера. Самолюбие у дяди было крохотное; все же на заводе он не захотел оставаться и перевелся заведующим в гастрономический магазинчик.
Та ночь, в которую он замерз, выдалась слякотная. Он свалился на землю близ Дворца культуры металлургов, стоявшего на пустыре.
Кто-то из знакомых моей матери, живших близ дворца, рассказывал, что в самую позднь чей-то высокий хмельной голос пел казачьи песни. Это пел Александр Иванович, но знакомые про то не знали. На зорьке был мороз, первый той осенью, и дядю подняли утром уже окоченевшим. Так он и умер в беспамятстве.
Дядя никогда не вспоминал о прошлом – ни про станицу Ключевскую, ни про заимку на озере Лабзовитом. Если в воспоминание о родине пускались бабушка и мама, он, свесив голову, бормотал: «Запахнись все дымом».
Когда бабушка и мама горевали о брошенных у приюта Пете, Дуне, Пашеньке, он кричал на них: «Опять взялись, дуры!» – сдергивал с гвоздика балалайку и так отчаянно бил по струнам, что, если случались гости, их как сдувало с табуреток и стульев, и они плясали до изнеможения. Мне всегда мучительно хотелось узнать: помнит ли Александр Иванович, что его бегство от детдома сыграло роковую роль в гибели Пети, Дуни и Пашеньки? Горько каюсь, что не осмелился спросить – еще слишком был мал.
От двухэтажного рубленого дома, от воспоминаний об Александре Ивановиче меня отнесло к солнечному вечеру, когда я и Саня Колыванов отпускали в небо синие, розовые, оранжевые шары, отпускали с нахолмных зеленовато-серых камней, и ветер тащил шары в сторону Железного хребта, на трубы аглофабрик, на желтые дымы их труб. И так мне захотелось в то время к пугачам, купленным у хитрована-китайца, под купол карусели, где, пластаясь над опилками, ходил великанскими шагами Миша-дурачок, к роднику, забранному в железобетонное кольцо, в которое свешивались мы с Костей и видели там на поверхности воды свои слюдянистые отражения, – так захотелось, что я чуть не заплакал в отчаянии...
– Значит, свой хлеб ты съедаешь. Откуда же этот? – спросил опять Корионов. – Ты только правду выкладывай. Парнишка ты, чую, не испорченный. Я отпущу тебя, ежели ты кое в чем и провинился.
– Ничего я не провинился, купил ремесленные талоны и беру хлеб.
– Хлеб на ремесленников берет мастер или староста. Подходит с подносом к хлеборезке, и ему выдают пайки.
– Правильно. Да бывает, подлижешься к хлеборезке, наврешь что-нибудь, она возьмет талоны и отвесит.
– И сколько ты талонов купил?
– На декаду.
– Что-то я не слыхал, чтобы мастера выдавали вам талонов больше чем на два дня.
– Кого самостоятельно поставили на рабочее место, тем выдают на декаду.
– Как тебя звать?
– Сережа.
– Есть слабые люди, Сергей. Продадут талоны либо карточку за декаду. В день-два проедят деньги и пускаются кусочничать. Голодают. Даже в доменном цеху есть доходяги и у вас в коксовом тоже. Работники квалифицированные, бронь им дана, а толку от них производству... Работники-то у нас теперь все на счету. Купил ты талоны и наверняка нового доходягу создал. Соображаешь?
Соображал я в основном про то, заведет ли он меня в горотдел или нет. Если заведет – выйду я на свободу не скоро. Может, и совсем не выйду: заключенные на самых тяжелых работах – на той же смолоперегонке в коксохимическом цеху.
Но он отпустил меня у входа в горотдел.
– Чеши, – сказал, – на завтрак. Ноги в руки и чеши. – И погрозил пальцем.
Вечером я зашел к Соболевским, положил на стол кирпичик. Корка кирпичика заиндевела и, оттаивая, наполняла комнату хлебным ароматом.
На мой рассказ о том, как я был пойман Корионовым, и о том, о чем мы с ним говорили, Валя усмехнулась и почему-то провальсировала по комнате. Ее новая юбка раздувалась. На вершок выше коленей голубели широкие чулочные резинки. Какой-то сладкой мучительностью отзывался вид коленей, округло-твердых под фильдеперсом чулок. Все то, что произошло со мной на рассвете, внезапно показалось таким несущественным по сравнению с тем, что я могу потерять Валю.
– А ты бы, – посмеиваясь, сказала она, – тем же путем пробежал на базар и вмиг продал. В крайнем случае съездил бы на вокзальный базар, на Щитовые, на Дзержинку и продал. Я обещала завтра расплатиться за юбку. Ты заметил, какая юбка?
– Карусель, – сказал я.
– Чу́дно! – воскликнула она. – Замечательно определил! Продай! Не хочется возвращать юбку.
Я готов был пообещать Вале, что продам этот кирпичик, да и всегда буду продавать хлеб, когда бы она ни попросила. Я даже решил выдать ей свою тайну, что люблю со. Но вдруг стало совестно, и что-то заупрямилось во мне, и я сказал, что умоляю ее покончить с хлебными шахер-махерами, иначе не миновать тюрьмы.
– Не за меня ты боишься. Ты думаешь, если б тебя посадили, я бы не помогала тебе? Я бы носила передачи каждую субботу. А вообще-то... кто не признается, того не посадят. Меня пытай – я не признаюсь!
– Врать не буду – не хочу сидеть. И передачи твои не нужны. Ты здесь без меня гулять будешь. Пропаду из-за этого. И потом пойми... Люди в голоде, и везде хлеба в обрез. В нашем бараке, например. Да что доказывать? Ленинград вымирает от голода.
– Это одни слова. Кто что может, то и берет.
– По-твоему, горновые тащат с завода чугун?
– Тащат.
– Многотонными ковшами?
– На все находятся покупатели. Мы только не знаем, с кем доменщики торгуют налево.
– Если бы все таскали, всю бы страну давно растащили и распродали.
– Нашу страну не больно растащишь. Самая богатая на свете. В тыщу лет не растаскать.
– Почти весь народ на своей работе ничего не ворует, В большинстве люди честные. И ты никогда не убедишь...
– Как наш директор говорит, ты «как тот хохол упэртый».
– Пусть упэртый. Против совести не хочу поступать.
– Поступают смелые, трусы берегут шкуру. Я глупышка... Навязывалась за тебя замуж. Маму подготавливала. Презираю себя. Кто любит, хоть что выполнит. В школе отбоя не было от влюбленных, и теперь не меньше. Инженер с проката, интересный, цыганские кудри, проходу не дает, офицеры из преподавателей танкового училища, курсанты... Ты худой, бледненький, но я ни с кем, кроме тебя, не встречаюсь.
– А ты ведь, Валька, жестокая. Разве я пожелал бы тебе колонию из-за тряпок? Девушки посылают своих парней на фронт, в общем-то на верную смерть, – это действительно люди! А чтоб ради тряпок...
– Высказался? Мало. Давай еще высказывайся. Ну, что? Высказывайся, высказывайся.
Валя ходила по комнате, изредка косилась на меня. Встала перед пологом, за которым капала в таз вода из умывальника. Задумалась, полузапрокинув голову, и внезапно заплакала. Я подошел к Вале со спины, коснулся пальцами плеча. Робость была не оттого, что я боялся Вали, а оттого, что жалость к ней заполнила всю душу. Я коснулся пальцами и другого плеча Вали. Ожидал новых попреков. Неожиданно она прикрыла мои пальцы своей ладошкой. Я оторопел: она принялась каяться, что забывает о чужих горестях и заботах, что научилась «хапать барахло», что, хоть я и нравлюсь ей, она зачастую еле удерживается от свидания с кудрявым инженером или с кем-нибудь из офицеров и курсантов летного училища, что иной раз в отношениях со мной ей чудится что-то детское, несерьезное.