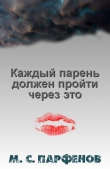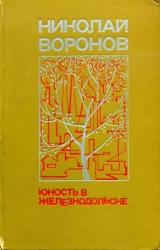
Текст книги "Юность в Железнодольске"
Автор книги: Николай Воронов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Разве это тайна? Оказалось, что Галину Семеновну оставили в депо на другую смену. Под вечер оттуда прибегала рассыльная и передала, что Галина Семеновна просит кипяченого молока: в прошлую смену она промокла до нитки, и теперь у нее саднит в горле.
Валя закатала в пуховый полушалок бутылку с молоком и затолкала в сумку под какой-то пухлый сверток. Я предположил, что в этом свертке находится белье. Стало быть, придется ждать, когда Валя помоется в душевой.
Я был разочарован. Ждешь чего-то невероятного, волшебного, а на поверку – такая постнятина, такая тусклота, такая обыденность, что душа стынет от скуки и безнадежности. Неужели всегда так: мечты прекрасней жизни?
– Сережа, ну, поделись... Что ты интересное вычитал?
Мы шли около ограды детского сада, я наотмашь бил кулаком по ее стальным, позвончевшим от стужи прутьям. Поблизости от клуба железнодорожников, который отдали под общежитие, играли в чехарду долговязые подростки с Украины. Я вспомнил Кланьку Подашникову. Она давно не кастелянша: кочегарит на паровозе «ФД»; по-прежнему рядится мужчиной и стрижется у Мони «под бритый бокс». Парней из духового оркестра позабирали на фронт, теперь она за дирижера в клубе НКВД. На геликоне играет секретарь-машинистка Лера, Кланька водит ее в кино и называет невестой. Странно, почему Кланьку прельщает эта нелепая роль. Столько лет в одном и том же придуманном для себя спектакле – и ей никак не надоест?!
– У очень занятной старушки я купила подшивку газет и летопись, – не дождавшись моего ответа, сказала Валя. – Я говорю: «Нельзя же продавать летопись». Отвечает: «Куда она мне? К сестре еду. У нее куча детей. Что ни привези, все изрежут, испишут, изрисуют. Окромя – в деньгах нужда. У моего сынка были книги да газеты да эта летопись. Библиотеку оптом продала, газеты допродаю. У сестры летопись прахом пойдет. Они – прячь не прячь – найдут... На базаре, глядишь, к любознательному человеку попадет. Он ее сохранит, опосля, мож быть, в дело произведет». Я обещала сохранить... О тебе подумала: «Сережу заинтересует». Ты как будто мои мысли угадал. Про моего папу ничего там нет?
– Я читал не подряд.
– Вдруг да в ней записано, куда папу отправили и с каким революционным заданием.
– Мало вероятности.
– Почему?
– Если бы летопись велась от государства... Ее вел инженер Бургасов, от себя вел. Никто бы ему не доверил такой секрет.
– Земля слухом полнится.
– Что по-тайному делают, то до слуха не дойдет. Соблюдается бдительность.
– Против бдительности я не спорю. Но мы-то должны знать о своем отце.
– Зависит от задания.
– Больно уж скрытно.
– Революционеры всегда жертвуют.
– Им легче: они знают, ради чего... Мы-то точно не знаем.
– Я сочувствую тебе всей душой. И вообще вашей семье. Но мы ведь обязаны думать обо всем народе, обо всем земном шаре. Я вот почитал в летописи... Люди понимали, что строят и зачем строят, но они не знали, что строительство завода так трудно будет даваться. Таких великих строек, может, и не было. И тяжелых тоже. Отец Ваньки Затонова говорил. Я, мол, сроду не видел, чтобы крестьянин нагрузил на бричку огромный воз сена и погнал коней рысью иль галопом. Воз бы свалил, коней покалечил, сам, пожалуй бы, убился. Однако в эпоху индустриализации мы карьером мчались с огромным возиной. Все в пути было: оглобли ломали, колеса соскакивали, лошади летели в тартарары, зато цели мы достигли. Немец бы до нас уже пропорол, кабы на Урале да в Сибири не понаставили металлургических заводов.
Вахтер, стоявший в проходных воротах, жил в бараке Соболевских. Он пропустил Валю на территорию комбината. Железнодорожное пространство, где до войны обычно скапливалось много груженых и порожних поездов, теперь было свободно: сырье, необходимое домнам, мартенам, коксохиму, прямо «с колес» шло в дело, а продукция без промедления и беспрепятственно отправлялась к месту назначения, – на заводе был путь, возле которого всегда горели зеленые светофоры.
Нам не пришлось пролазить под вагонами, и мы быстро, подгоняемые студеным ветром, добежали до паровозного депо.
Галина Семеновна была в здании депо. Туда только что вполз «Серго Орджоникидзе». Он накадил так, что всех людей, которые там находились, мы воспринимали в дыму, как призраков. Мужчины, среди которых стояла Галина Семеновна, были в мазутных спецовках, даже их валенки и ушанки и те черно лоснились. В отличие от мужчин она была одета в брезентовый костюм. У нее на голове поверх суконного платка топорщился лоскут клеенки.
Галина Семеновна любила посмешить. Нередко, как я замечал, она рассказывала о себе для пущей потехи то, чего с нею не происходило.
Когда мы подошли к Галине Семеновне, она, держась за щеку, сказала с изумленным страхом:
– Батюшки, да где же зуб-то мой?! Неушто проглотила во сне?!
Мужчины захохотали. Она весело наблюдала за тем, как они смеются.
У моего дяди Поликарпа, работавшего в Троицке машинистом паровоза, заболел зуб. Это случилось в дальней поездке. Возвращаясь в Троицк, он чуть ли не обмирал от боли. Какой-то промывальщик паровозов надоумил Поликарпа положить на зуб кусочек накипи. Он так и сделал. И лег спать. А когда проснулся, то боли не было, но и зуба тоже не было: он распался. Зуб был крепкий, и Поликарпа ужаснуло его исчезновение.
Я рассказывал Галине Семеновне об этой истории, и вот теперь она п р и м е н и л а ее к себе, и, наверно, кстати.
«Серго Орджоникидзе» въехал на громадный круг, на котором крестом блестели рельсы. Едва круг, кажется при помощи пара, – смутно видится рычаг, передвигаемый рабочим, и белые диффузные вспышки в темном воздухе, – поплыл вместе с паровозом, я вспомнил базарную карусель, от которой и винтика не осталось, и Мишу-дурачка, играющего на «балалаечке» среди толпы. Миша внезапно исчез из города и моего детства, а куда – ни у кого узнать не удалось. Слухи были всякие: Миша в сумасшедшем доме, умерла мать, и он утопился, будто увезла в деревню красивая нестарая женщина. Его мать действительно умерла. Он обижался на нее. Зачем не захотела жить? Ох и вкусные пирожки он приносил ей из ресторана «Девятка». Иногда, правда, он говорил, что теперь ей хорошо: ноги не пухнут и мягко спать – он сенца подложил в гроб. И ему хорошо: кругом один. Порой он увязывался за какой-нибудь женщиной интеллигентного вида, приходившей на базар. Если женщина знала о Мише, то не пугалась: никого он и словом не обидит. Когда он увязывался за пугливой женщиной, не слыхавшей о нем, – она поднимала шум, и Миша был руган, а то и сильно бит. Драться он не мог, даже не сопротивлялся.
– Цё делетесь? Блосьте – я маленький.
Не только своей беззащитностью, но и тем, как плакал, он походил на ребенка. А плакал он, обливаясь слезами и обещая пожаловаться матери, пока она была жива, или Косте Кукурузину.
Вроде бы по состраданию задерживались около Миши взрослые, а выходило для того, чтобы позубоскалить, особенно отличались этим крепкие бабы.
– Мишенька, не понимаешь ты ничего в нашей сестре. Ты все за культурными хлыщешь. Неча за ними хлыстать. Ведь не за что ущипнуть, что сзади, что спереди. Не женишься ли ты на мне?
– Зенюсь.
– Чего мы с тобой делать-то будем?
– Играть.
– Во что играть-та мы будем?
– Стыдно...
– Стыдно, дак и не нужон ты мне.
– Тетя, пласти.
– Етого не прощают. Хлыщи давай за своими культурными цыпочками.
Я был склонен верить тому, что Мишу подобрала сердобольная женщина. Бабушка соглашалась со мной:
– Пригрела которая-нибудь. Куковала где-нибудь на лесном кордоне. Мужа, может, деревом задавило. Одного человека стены съедят. Приехала в город, увезла Мишу да и пригрела. Господь хоть и обделил его умом, а для жизни он годящий – сердце золотое.
Я представил себе Мишу под заснеженными соснами, подпоясанного малиновым кушаком, за который заткнут широкий топор.
Галина Семеновна хотела отвести меня в красный уголок, решив, что дочь пойдет в душевую, но Валя сказала, что раздумала мыться: слишком ветрено. За словами Вали ощущалась плохо скрытая уловка. Глаза Галины Семеновны померкли от укоризны.
– В котловане, поди-ка, метишь покупаться?
– Ну и мама́стая – непременно подозрение.
– В селе у нас считалось великим неприличием, коль девчонка с парнишкой вдвоем с вечерок на минутку отлучились, а не то что куда вместе... Уж если кого увидели наедине – позор на весь век, в первую голову для девчонки. Совесть была...
– И у нас не меньше. Ты, мама, имеешь право меня оскорблять, а Сережу нет.
– Я ничего против Сережи... Ты всему причиной. Ты и паиньку сшибешь с рельс. Допрыгаешься ты, Валька.
– Мам, ты не настраивайся на дурной лад. Я тебя не подведу. Просто я пружинистая по характеру.
– И еще почему не советую... Шалят в котловане.
– Неисправимая ты прямо, мамастая. Пей молоко. Всю бутылку целиком. Оно до сих пор горячее. Да поаккуратней орудуй шлангом. Будешь сильно обливаться – совсем горло загубишь.
– Ча́пай, ча́пай. И слышь, усвой, что мать наказывала.
Когда мы вышли из депо, Валя все еще улыбалась. Она восторженно заговорила о Галине Семеновне. Вот ведь какой прозорливый человек ее мать. Ничего ты от нее не скроешь.
Валя свернула не к Сосновым горам, а на закат, чуть розовевший поверх черной цепи кладбища паровозов. Она шла в котлован, притом так прытко, словно по разрешению матери и по нашему обоюдному согласию.
Я остановился, но она лишь полуобернулась и звала меня за собой веселыми взмахами руки. Было ясно, что никому и ничему не изменить ее решения. Если я потопаю на Тринадцатый участок, у Вали хватит задора и отчаяния дойти до котлована и выкупаться. Я и сам, едва Галина Семеновна упомянула о котловане, страстно желал порезвиться в его горячих водах. И вместе с тем я уважал волю и тревогу Галины Семеновны и не мог положиться на себя ни в чем, куда бы ни поманило меня Валино стремление, которому она была почти не в силах сопротивляться, но чего, наверно, и сама не сознавала или старалась не сознавать.
Я догнал Валю. Опа схватила меня за руку и с такой радостной строптивостью размахивала ею, точно я был против ее затеи, и она торжествовала свою победу и хотела доказать, что все и всегда будет только по ее и что нет большей нелепости, чем артачиться против того, что людям приносит счастье.
Тропинка была как прорублена в снегу обочь паровозного кладбища. Заводские зарева пылали под островами дыма. В их свете фигурно выдвигался из темноты мертвый металл, когда-то яростно и длительно поровший воздух, выпукло падал к берегу сажевый косогор, серела твердь пруда, как бы осыпанная стальной окалиной, а кромка льда, омываемого туманным потоком, уходящим в глубину, напоминала крупный стеклянный бой, который дают бутыли из-под кислоты и аккумуляторные банки.
Спуск к котловану был крут, широк, бесснежен, отдавал агатово-темным глянцем. В предвоенные годы тут сливали шлак, он закаменел, потихоньку растрескивался, но все еще сохранял глазурность.
Иногда ручьи шлака добегали до котлована, испепеляя нашу одежонку. К тому, что были вынуждены уходить домой по корке, сквозь которую алела магматическая жижа, мы привыкли, хоть и проваливались в нее валенками и ботинками, обжигались. Однако больше всего мы боялись остаться голенькими: путь неближний, по холоду не добраться, приходилось умолять прохожих, чтобы известили барак о нашем бедственном положении. И пожалуй, не меньше мы боялись того, что лишимся одежонки, – пусть она и незавидная, а справлять для нас барахлишко – родителям разорительная тягота. Тогда кто-то из нас сообразил поднять ломиком крышку колодца, который вел в трубу промышленного стока. Ствол колодца, – в него были вмурованы железные скобы, – оканчивался бетонным кубом. В этом кубе мы сколотили мостки, на них раздевались и одевались. Чугунную крышку мы закрывали за собой, чтобы не залило шлаком и чтобы никто из чужих ребят не обнаружил наше укромное прибежище. Валя не подозревала о нем. Она спустилась к пруду. Внутри потока, который падал в котлован, казалось, стояли ртутные столбики. Пар, выхлестываясь из бурлящей воды, заволакивал дуло трубы. Он был душно-мохнатым над котлованом, но чем дальше теплая река врезалась в пруд, тем реже, волокнистей, льдисто-прозрачнее он становился.
– Чур не мне воздух греть, – крикнула Валя.
Ветер дул нам в спины. Даже сквозь одежду мы чувствовали его припекающую студеность. Я бы, конечно, без промедления начал раздеваться первым, но неподалеку был заветный куб, и я не торопился, да и хотелось разыграть Валю, а потом удивить и обрадовать.
– Вот черт! Всегда-то все успевают сказать чура́. То воду грей, то воздух.
Я не успел предупредить Валю, чтобы не раздевалась, а она уж расстегнула пуговицы пальто и собралась стряхнуть его наземь. Я приобнял Валю и свел свободной рукой полы пальто. Когда она хотела раздернуть концы шали, связанные чуть выше поясницы, я поспешил сказать, что рядом есть великолепная раздевалка, и накинул ей на плечи пальто.
– Чем тут плохо? В секунду разденусь, только отвернись.
– Простудишься. Давай пошли.
– Да я вся как из печки: охладиться не успею.
Я схватил сумку, теперь уже крепко обнял Валю и быстро повел вверх; труба чуть ли не полностью была залита шлаком.
Валя поваживала корпусом, пыталась не соглашаться с тем, что мы уходим от котлована. Какое-то странное, пугающее и вместе с тем сладко-хмельное нетерпение было в ней, и у меня невольно подкашивались ноги. Кабы не Валя, я упал бы, наверно.
Застывая, шлак образует в себе пустоты. Продавы и провалы в нем обнаруживают эти пустоты, напоминающие ноздри. В одной такой ноздре мы припрятывали ломик. Он был на месте, я отколупнул им чугунную крышку и спросил, наклонясь над колодцем:
– Эй, кто здесь?
Мой голос улетел в темноту и расщепился. Вскоре, уменьшенный до кукольной писклявости, он выпорхнул в котлованный туман, а с другой стороны, из далеких тоннельных глубин, вернулся зычным басом:
– ...есь, есь.
– Кто-то есть, – сказала Валя. – Должно быть, сынок с отцом? Куда ни сунься – везде люди.
– Да это же, Валенсия, двойное эхо. Слушай.
Я снова спросил в колодец, и опять звук моего голоса проделал двойное превращение.
Я отнес ломик в ноздрю и стал спускаться в куб. Сначала спускался с помощью ног и рук, а когда скобы кончились, – на одних руках.
С бетонного пола мог взяться за нижнюю скобу только длинный, как баскетболист, человек. Чтобы ухватиться за скобу, я подпрыгивал с мостков.
Повиснув на последней скобе, я ощутил запах сырой ржавчины. И тут же, к своему удивлению, задел ногами ботинок о доску. Оказывается, я подрос! Через мгновение я спрыгнул на помост и велел спускаться Вале.
Едва я сказал Вале, что примерно метр она должна спускаться на руках, – она рассердилась. Еще чего не хватало! На уроках физкультуры ей ни разу не удалось подтянуться на турнике. Как будто я не знал об этом. Она собралась вылазить из колодца. Я еле уговорил ее, чтобы она вытянула ногу и встала мне на плечо. Потом она встала на мои плечи коленями и радостно засмеялась. Я обвил ее вокруг коленей, и когда оторвал от скобы, то долго держал на весу, а она все смеялась, и ее лицо светлело над моим запрокинутым лицом.
Немного погодя она, похоже, замолкла в испуге, дернулась у меня в руках и жалобно попросила ее опустить.
Изнутри я надвинул чугунную крышку на колодец, а возвратясь на помост, заметил по контуру Валиной фигуры, что она стоит в пальто и шали. То рвалась купаться, теперь почему-то не раздевается.
– Валенсия, ты чего?
– Нет, – угрюмо промолвила она.
– Ты бука.
– Пусть.
– Дуйся сколько угодно. Выбраться отсюда ты не сумеешь. Волей-неволей будешь купаться.
– Какой ты мальчик! Совсем-совсемочки.
– Чем плохо? – обидевшись, спросил я.
– Чудесно! – сказала она.
– Чудесно, но...
– Без «но».
– А чего же ты: «мальчик», «совсем-совсемочки»?
– Хорошо, хорошо... Юноша. Красивый, сильный, благородный юноша.
– Отлупить бы тебя...
Я разделся, спрыгнул в трубу и заплясал: ноги словно кипятком обварило. Подошвы ботинок были из твердой, как листовая сталь, фибры, портянки – фланелевые, мои лапы заледенели в пути, поэтому я и заплясал. Выскакивать обратно в куб не захотел. Спасаясь от ломоты в ногах, я упал в поток, и меня потащило по трубе. Лететь по трубе самолетиком – руки вразброс, вниз брюхом, с выставленными над потоком лапами – не удалось. Вода так жгла, что я вертелся в ней винтом. А когда улькнул из трубы в котлован и в глубине стрежня меня донесло до начала промоины, то раскинул руки и ноги и до тех пор, не двигая ими, парил среди пульсирующих струй, пока было можно терпеть без воздуха.
Зарева над заводом не горели, не прядали, не вздувались. Электрическое свечение дыма лишь слегка скрадывало тьму, косогоры казались гудроновыми, зеркало полыньи слюденело, лед пруда и холмы правого берега лежали в лиловой мгле.
Поблизости лопнула ледяная броня. Трещина, убегая вдаль, издавала ветвистый звук. Почему-то стало боязно, а потом и страшно: вдруг да на дне подо мной утопленник. Я метнулся в сторону котлована. Вероятно, за мной бугрился бурун, как за моторкой. Я ничего не видел, кроме черной линзы, трубного отверстия, и летел навстречу горячеющей воде, покуда меня не отшвырнуло к заглаженной цементом бетонной стене. Тут я унял свой испуг, пересек скачущий стрежень. Почти касаясь противоположной стены, плыл в струе, которую несло под поток. Я превосходно знал все закруты и капризы течения, что господствовали в котловане; иногда они приводили в замешательство и заверчивали навечно даже умелых пловцов.
Я собирался выскочить в трубу, потому и, приближаясь к водопаду, приникал к стене, скользя по ней ладонями. Скоро я очутился в крохотной пустоте между стеной и грохочущим потоком. Поток обрушивался за моим затылком. Струей, которая отгибалась в донной выбоине к стене, меня толкало в ступни. Эта струя была такая упругая, что на ней можно было стоять. Я ухватился за низ трубы, сделал рывок, и моя голова вонзилась в поток, пожалуй, в самый его центр. Я прижался щекой и грудью к ложу трубы, меня придавило водой, я продвинул себя, опершись руками о боковины, затем вскочил и помчался к кубу.
Я был уже довольно близко от куба, когда Валя оттуда выпрыгнула. Так темно было в трубе, что я не мог не заметить, как ее серебристая фигурка возникла над мерцаньем потока. Возникла и пропала. Если бы не почудилось мне, что Валя совсем голенькая, то я тотчас бы сообразил, почему она исчезла. Но я мгновенно сосредоточился на том, что она увиделась мне серебристой и нагой. И только тогда до меня дошло, что Валя упала, когда течение донесло ее до моих ног, и я резко скакнул, чтобы не наступить на нее. В следующий миг я бросился вслед за Валей. Я плыл быстрей, чем давеча, когда испугал себя воображаемым утопленником. Меня смертельно беспокоило то, что Валя ни разу не подала голоса, и то, что ее вот-вот сбросит в бучило. Падая в котлован, надо без промедления ускользнуть из-под потока, иначе обрушит на дно, в жуткую выбоину, и там извертит, погубит.
Я ощутил шеей толчки воды, потом почувствовал легкий удар в плечо.
Валенсия работает ногами. Она провела меня, чертовка. И все-таки я поймал ее за стопы. Чтобы она без задержки проскочила бучило, я изо всей силы толкнул ее в котлован. Она засмеялась и спланировала в бучило. Секундой позже я тоже нырнул туда. Открыл невольно глаза. С того тихого утра, когда я нырнул с пристани в отстоявшийся за ночь пруд и оказался среди витков колючей проволоки, я всегда, погружаясь в воду, смотрю в ней. Если бы я выпутывался вслепую, то утонул бы.
Грозди пузырей, набегавших на лицо, подсказали мне, что Валя продолжает удирать. Я решил ее настичь, и едва отклонился в сторону, дабы при этом не получить пинок в лоб, то явственно увидел ее ноги с полурастопыренными пальцами, вогнутыми ступнями и кегельно-гладкими икрами. Сильными рывками я послал свое тело вперед, вплотную приблизился к ее спине. Она вертанулась, и я увидел ее напряженные глаза, летящие волосы, грудь, слегка обозначенную колышущимся светлым материалом. Я примкнул к Вале. Моя ладонь, совершая очередной гребок, задела о шелковистую ткань, приникшую к ее вытянутому бедру.
Валя оттолкнулась от меня. Мы вынырнули. Было красное небо. По откосу, дыбясь и чадя, ручьился шлак. Из ковша, откуда он только что был опрокинут, с прожекторной мощью бил рубиновый луч.
Головные языки шлака растопили прибрежный лед. Вознеслись клубы пара. В свете ручья и луча белый пар будто накалился: стал алым, ослепительным. Новые накаты шлака врывались уже в прыгающую от огня воду. Слышались взрывы, перепляс струй, шорох горячего буса и пошелестывание восходящих облаков. Плоскость пруда розовела все дальше к тому берегу.
Ковш вернулся в исходное положение – кратером к звездам. Кратер по-прежнему испускал твердый луч, но теперь он горел слабее, заметно оседал, скоро совсем втянулся в ковш. Темнота сомкнулась над прудом, пар восходил ярким инеем, откос лежал сизый, лишь оранжевела на громадной его дуге жила остывающей лавы.
Над горизонтом откоса белели шлаковые ковши. Они были схожи с гусями, вытянувшимися в цепочку. Подъемный кран – он маячил своей пикой за ковшами – напоминал гусака, который стоит чуть в сторонке от стаи, настороженно вытянув шею.
– Вот живу... – сказала Валя. – Рядом такая красота, а я из помещения не вылажу.
– Переводись на завод. Мы всегда среди этой красотищи.
– Недаром я соскучилась...
С откоса будто бы выстрелили из царь-пушки: глаза ослепило вспышкой, которая приводит в замешательство и заставляет ждать, что за вспышкой последует звук. Но звук словно превратился в свет: красным взрывом поднялось в небо зарево. Вспышка родилась в тот момент, когда ковш занял боковое положение и шлак полетел к земле, а зарево вздулось в ту секунду, когда шлак разбился о начало откоса. И повторилось почти то же самое, что недавно гипнотизировало, ласкало, восхищало наш взор.
Мы поплыли в котлован. Валя вдруг забеспокоилась: как же она теперь попадет в трубу. Я подтрунил над ней: ты, мол, босичком, по шлаку, а стужа и ветер придадут тебе прыть. Хоть я и шутил, но почему-то представил себе скорчившуюся Валю, осторожно переступающую по откосу: шлак каменист, режется, как лезвие, примораживается к ногам, и мне стало так больно, что я зажмурился.
Меня снесло в промоину, я лег на спину, скользил впротивоток горячей воде. Небо было красное. Испарения, вызываемые металлургической магмой, ползли багровыми султанами, словно пропитанные кровью.
Потом я учил Валю забираться в трубу. Я был счастлив: направлял ее вдоль правой стенки, придерживал за спину, подсаживал, подталкивал и непременно страховал, чтобы ее не опрокинуло в бучило. Она быстро наловчилась выскакивать в трубу.
И сама Валя и я были этим удивлены. Конечно, мы догадались, что ее руки окрепли за это время, пока она работает на хлебе. Но вместе с тем даже как-то не верилось, что перед войной она не могла подтянуться на турнике.
Мы прыгали в котлован в обнимку, съезжали туда на ягодицах, как на салазках, усевшись друг за дружкой.
То, что в ней не только устранилось досадное слабосилие, но и как бы обнаружился талант – дорожка к будущему легкоатлетическому совершенству, – оба эти проявления вызвали в ее душе чувство горделивого соперничества. Она предложила мне потягаться: кто из нас первым выскочит в трубу. Я согласился. Снисходительно, раздосадованный ее тщеславием. Однако я счел для себя обязательным начинать «дистанцию» не вровень с Валей, а примерно на три метра дальше. Обогнать Валю не удалось: она плыла так, что я вынужден был ломиться навстречу стрежню, угодил под водопад, меня вогнало в бучило, откуда я, чтобы не остаться в выбоине, панически рванул к левой стенке и, выпрыгнув, увидел, что Валя стоит в трубе.
Я вздрогнул, едва послышался внезапный голос:
– Хлопцы, дывысь – русалка!
– Иде?
– Хиба ты не бачишь?
– Тю, та это дивчина. Вона купается нагишом.
– Гово́рю, що русалка, значит, русалка.
– Нехай будэ русалка.
Я был раздосадован тем, что они приперлись в котлован: все, закончилось наше счастливое купание (оно бы, наверно, длилось до утра), прощай, красная красота откоса, воды, льдов и неба. Кроме того, меня насторожило их появление, не за себя встревожился – за Валю.
Когда самый крупный из них, – они были в серых шапках и бушлатах, – сказал: «Поймать бы ту русалку», – я приказал, чтобы они проваливали, иначе мы переломаем им костыли, и велел Вале звать наших ребят.
Она замешкалась – не сразу восприняла мою хитрость, а когда крикнула в трубу: «Ребята, ко мне. Чужие пришли», – самый крупный из пришельцев, л о б, так назвал я его про себя, хмыкнул и, переходя с дисканта на бас, проговорил:
– Нас на арапа не возьмешь. Одни вы здесь. Перетрусили?
– Перед кем трусить? – отчаянно крикнула Валя. – Не мы ведь драпанули с Украины.
– Разговорчивая какая! – злорадно удивился л о б. Басовые ноты в его голосе поднялись до петушиного дисканта. – Ну-ка, спрыгни. Куда ты будешь драпать?
– Ты меня не стращай.
Я не думал, что Валя с такой легкостью поймается на провокацию, поэтому даже не успел открыть рта, как она уж сиганула в котлован.
Л о б лихорадочно раздевался, его приспешники снимали одежду без желания. От того места, где раздевались они, до того места, где возникла над водой ее голова, было совсем близко.
Я пронырнул сквозь стрежень к Вале. Она явно поддразнивала парней, держась от них рискованно недалеко. Я потеснил Валю плечом, но она не хотела уплывать. Пришлось теснить единой, дабы не спускать взгляда со л б а. Она противилась тому, что я заставляю ее ретироваться. Тогда я подхватил Валю под мышки, наддал ей коленом и толкнул вдоль правой стены. В этот момент позади нас ухнула вода. Но, обернувшись, я никого не увидел в котловане. Двое продолжали раздеваться на берегу. Чтобы л о б не оказался впереди меня и не поймал Валю, я отпрянул к ней и взъярился, увидев, что она еще не добралась до спасительной пустоты между водобоем и стенкой. И тут л о б появился почти рядом со мной, спокойно отфыркался, будто бы просто купался, а не плыл с подлым умыслом. Перед тем как он погрузился в воду, я заметил по его глазам, что он примерил, где вынырнуть, чтобы схватить Валю. Я ринулся ему наперерез. В эту минуту сильно светило шлаковое зарево, и я углядел тенеподобные руки, а потом тенеподобное лицо, и взял ниже и ударил головой в его живот, и понял, что л о б в кальсонах, и рванул их в поясе, и, выворачивая, поволок за собой. Хотя приспешники л б а, когда я вынырнул, оказались рядом со мной, я захохотал: так смешно он елозил ногами, путаясь в кальсонах. Лбовцы растерялись от моего хохота, поэтому их сносило в промоину.
Вынырнув, л о б закашлялся, вразмашку поплыл к берегу. Было заметно, что ногами он не двигает.
Валя уже стояла в трубе. Она спросила, почему я развеселился. Я сказал, что спутал ловца русалок его же собственными кальсонами.
Тем временем л о б добрался до отмели и ощупывал дно, ища, куда бы примоститься. Но дно было шлаковое, шипастое, резучее, и он не решился на него сесть – ухватился за магматическую неровность руками. Он гаркнул на своих «оруженосцев», требуя, чтобы они ему помогли.
– Р я т у й т е! – истошно завопил я, передразнивая л б а.
Те, двое, не сообразили, что от них требует предводитель, и так как кальсоны мотало течением, то они попытались сдернуть их с его ног, а вместо этого отодрали его от отмели. Давно у меня и Вали не было такой потехи.
Хохоча, я вконец обессилел и тоже хлебнул воды; чтобы не попасть впросак, подался вдоль стены.
Из попытки выскочить в трубу ничего не вышло – невероятно ослабели руки. Валю я не просил мне помочь: еще стащу в котлован. У пришельцев между тем дело продвинулось: они завернули кальсоны на ноги вожака и, поторапливаемые им, пробовали развязать завязки.
Я вновь попытался залезть в трубу, но не сумел быстро прижаться к ее вогнутости и меня смыло в котлован. Вырываясь из-под потока, я метнулся к левой стене; оттуда увидел, что л о б, что-то выкрикивая, бешено плывет к трубе.
Было такое чувство, что я не только попался, но и пропал. С этой стороны не пробиться к пустоте – отшвырнет водой. Бросаться к той стороне поздно: угодишь ему в лапы.
Вдруг я вспомнил о струе, которая отбивалась от потока. Если я проскочу поток, этой струей меня вынесет к пустоте.
Я нырнул в бучило. По мне молотила вода, стараясь приколотить меня ко дну. Я уже не надеялся проскочить в спасительную струю, но своего стремления не ослабил. Тут я ощутил, что меня возносит вдоль стены. Перед тем как вынырнуть, сильно толкнулся руками и ногами.
Вылетел я из котлована при спаде шлакового зарева, но свет мне был не нужен – точно рассчитал.
Я бы сам легко выбрался в трубу, но Валя испугалась, что я не обойдусь без ее помощи, и схватила меня за уши, когда я лег под поток, и тащила за них, пока я не вскочил на ноги. После я, шутки ради, укорял ее за то, что она оттянула мне уши, а она, подшучивая надо мной, говорила, что вытянула меня за уши из беды.
Л о б, едва я улизнул от него, сделал попытку на мой манер – нырком в бучило – выскочить в трубу, но чуть не утонул и, кашляя и отплевываясь водой, поплыл к отмели.
Мы с Валей оделись в кубе и вылезли через колодец.
Наверху откоса услышали веселый шум, поднятый пришельцами в котловане, и нам стало больно, что они оборвали наше счастливое купание.
Утром начался буран. С малыми перерывами он бушевал полторы недели. В завальных снегах утопали не только Железнодольск, но и Урал и Сибирь. Повсюду на этих пространствах люди откапывали железные дороги. Почти прекратилась подача сырья на заводы, а на фронт – поставка оружия.
Наш комбинат, находящийся в котловане, особенно страдал от заносов. Город, расчищая его пути и дороги, падал от недосыпания. Отброшенные снега громадились белыми хребтами.
Как и мои товарищи, я продолжал заниматься в училище, проходил практику на коксовых печах и кидал снег. Мне было некогда заходить к Соболевским. Раз-другой я забегал к ним, но Валю не заставал. Некоторое время я не видел ее и после заносов: комбинат наверстывал упущенное, и нашу группу то и дело посылали на склад заготовок, где не хватало вырубщиков, и мы орудовали пневматическими зубилами, соскребая ими с граней стальных плах волосовины, плены, а иногда и срезая угловые выпучины, которые назывались красиво и звучно л а м п а с а м и, но при обрубке были надсадно трудоемкими.
Обработанные зубилами, заготовки прокатывались в броневой лист.
Когда я увидел Валю, у меня возникло впечатление, словно с того времени, как мы купались с нею, я проныривал подо льдом пруда, и все никак не мог найти ни проруби, ни полыньи, и вот наконец-то вынырнул.