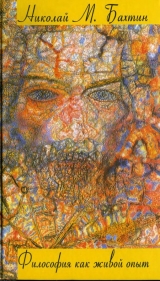
Текст книги "Философия как живой опыт"
Автор книги: Николай Бахтин
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
Из жизни идей
Победы фрейдизма
Влияние фрейдизма растет с каждым днем. Нет оснований предположить здесь возможность перелома: явно, что мы имеем дело не с модой или временным увлечением, но с тенденцией глубокой и показательной. Прежде всего, фрейдизм не только отвлеченная доктрина. Он создал вполне реальную возможность плодотворного подхода к огромной сфере явлений, доселе почти недоступной. То, на что Фрейд указал раз навсегда, уже не может быть игнорируемо, как бы далеко мы не отошли от общих формул несговорчивого венского психолога. Правда, именно эти формулы (пансексуализм, пресловутый символизм) особенно существенны для вульгарного фрейдизма, но не в них, конечно, основная заслуга Фрейда.
Самое упорное сопротивление новой психологической доктрине оказали страны латинской культуры и, прежде всего, Франция. Однако и здесь за последние годы фрейдизм восторжествовал, с ним равно – хотя и по-разному, – считаются и в Коллеж де Франс, в клинике и в самом грязном литературном подполье – от проф. Жанэ до Андрэ Бретона включительно. Пишут психоаналитическую критику, истолковывают, с точки зрения сексуального символизма, не только Руссо и Мопассана, но даже «Песнь о Роланде» (J.Vodoz); наконец, в «Одеоне» идет пьеса Ле Нормана, с «комплексом Эдипа», бисексуализмом и прочими эффектными аксессуарами фрейдизма. Самая существенная сторона его остается малодоступной не только для профанов, но даже для широких медицинских кругов Франции. Дело в том, что из работ Фрейда переведены на французский язык лишь те, где на первый план выдвинуты вопросы общего, почти философского характера – т. е. именно то, что наиболее сомнительно (хотя и наиболее эффектно) в этом учении. Труды Блейлера, осторожного психиатра, главы цюрихской школы психоаналистов, остались непереведенными. Наконец, самый способ изложения Фрейда, по многим причинам, мало способен расположить к нему французских психологов и психиатров.
Благодаря этому, психоанализ часто был во Франции предметом столь же наивных восторгов, сколь и несправедливых осуждений.
На днях вышла первая книга нового периодического органа, специально посвященного вопросам психоанализа: «Психиатрическая эволюция». Журнал объединяет французских психологов и психиатров, в той или иной степени причастных фрейдизму; он вводит нас в самую лабораторию нового метода и выдвигает на первый план именно методологическую и опытную ценность венской доктрины. Программа журнала очень широка: чисто клинические наблюдения (статьи Кодэ, Лафорга, Целье), соображения историко-методологического и систематического характера (работы Минковского, Эснара, де Соссюра, Минковской); вопросы общей психологии (напр., «Грамматика как способ исследования подсознательного» Дюмурстта и Пишона); наконец, обширная библиография. Отметим любопытное исследование Алленди о зачатках психоанализа в древней философии. Не вполне удовлетворительна, пожалуй, лишь сбивчивая и неопределенная статья Бореля и Робэна («Мечтатели»). В общем, журнал несомненно призван сыграть значительную роль в развитии французского фрейдизма, – не того вульгарного и преходящего, о котором я только что говорил, но подлинного и плодотворного, который, повторяю, принадлежит к показательнейшим явлениям нашей эпохи.
* * *
А вот поучительный и характерный факт из истории фрейдизма в России, где, как известно, не любят теперь предаваться пустым умствованиям, но разом переходят к делу.
Передо мною книжка Б.Казанского «Метод театра» (Ленинград 1925) – книжка чрезвычайно бойкая и с сильно «сексуализированным» стилем (термины «libido teatralis», «эксгибиционизм творчества» и проч. пестрят здесь на каждой странице наряду с традиционными пролетарскими метафорами «диктатура искусства», «эстетический заговор» и т. д.). Вот что узнаем мы из этой книжки.
В Петербурге додумались до «психоаналитической постановки» (это не что в «Одеоне», а куда эффектней!). В одной из школ удалось разыскать, на предмет опыта, «очаровательную девочку и шесть влюбленных в нее мальчиков». Они должны разыграть на сцене вполне реальный и действительно переживаемый ими роман. «Ролей не было, – повествует автор, – каждый говорил то, что считал нужным по смыслу своего участия в действии… Роман продолжался для них на сцене, волнуя кровь и смущая мысли… Он получил свое завершение в спектакле, который раскрыл затаенное, помог выявиться их бесформенным, скрытым и подавленным чувствам; дал незрелым или борющимся влечениям сложиться в отстоявшееся решение… Он был действительно доведен спектаклем до конца, сценически изжит… Это был замечательный опыт коллективного психоанализа. Это была сублимация жизненных коллизий».
Остается только пожалеть, что у нас, в буржуазной и косной Европе, нет под руками столь удобного материала, как дети советских школ, над которыми можно безнаказанно и безответственно предаваться самой рискованной психологической вивисекции.
Увы, нам всегда недоступна «авто-био-реконструкция» (по элегантной терминологии автора).
«Объяснение нашего времени»
1
Европа как единство стилей и традиций, как система идей и ценностей когда-то – еще так недавно – совпадала, почти отождествлялась для нас с определенным географическим единством. Мы забыли, что Европа не территория, но лозунг и знамя, в верности которому клялись.
Мы, все читавшие Гомера,
Приявшие, что дал нам Рим…
И вот, на наших глазах граница Европы сместилась и решительно передвинулась от Урала – к Рейну: дальше начинается область мятежников, изменивших старому знамени, – Советская Россия, Германия, которая «решительно отвернулась от Запада» и «стремится к азиатскому сознанию и универсальному синтезу» (как констатирует один из ее идеологов)… Голоса врагов (Рабиндранат Тагор) и изменников (Шпенглер, Кейзерлинг) торжественно провозглашают моральное падение и «конец Европы». Европейское сознание кажется «узко провинциальным» (Шпенглер). Оттесненная на континенте в пределы стран латинской культуры, Европа – извне – поставлена перед лицом двух опасностей: быть раздавленной напором восточной анархии или превратиться в увеселительную колонию и музей для варваров Нового Света.
А изнутри: разложение исконных и органических устоев и догматов, кипение противоречивых идей и тенденций, скептицизм и любопытство; недаром «зовы Востока» соблазняют слабых, и в самом сердце осажденной Европы – где-нибудь «в катакомбах» Бобиньи – рабы и чужестранцы приносят жертвы восточным божествам мятежа…
2
«Не умея стать слугами великого дела, мы превратились в рабов всех и каждого». «Нужна новая вера и искание новой творческой дисциплины, иначе Запад погибнет: тогда слетятся коршуны Алариха и придут огромные вандальские волки…»
Так говорит Люсьен Ромье, автор показательной книги «Объяснение нашего времени».
Ромье совсем не мечтатель с пророческими претензиями и даже не теоретик: он трезвый историк-архаист и, кроме того, «человек дела» – директор «Фигаро». Его диагноз современности – не отвлеченная теория, но простое констатирование фактов.
Проблема ставится автором прежде всего в отношении Франции, и лишь в своих выводах он подходит к проблеме Европы в целом; но это не лишает книгу ее общего интереса: Франция остается в наши дни, несмотря ни на что, самой крепкой цитаделью европейского духа, и судьба Европы – ее судьба.
Отметим некоторую недоговоренность и как бы нежелание доводить мысли до их последнего вывода, а также не вполне оправданные претензии на систематизм в изложении. (Правда, «Объяснение нашего времени» лишь первая часть задуманной трилогии). Во всяком случае, книга крайне поучительна и сама по себе и, особенно, как «знамение времени».
3
Ромье начинает с анализа естественных факторов, лежащих в основе французской культуры, приходит затем к рассмотрению проявлений человеческой активности (деньги, школа, общественное мнение, пресса и т. д.) и, наконец, к тому, что он называет «идеологиями за отсутствием идеала» (цивилизация, национализм, демократия, наука). Он пытается показать, как эти идеологии (положительные в себе) вырождаются в начала опасные и отрицательные, если не подчинены высшему регулирующему фактору: предоставленные самим себе, они превращаются в ряд пустых формул, лишенных действенности и моральной императивности.
Рассмотрение современного государства, основанного на «равновесии частных интересов», вплотную подводит автора к центральной проблеме книги – проблеме власти и авторитета. «Крушение принципа авторитета не есть явление политическое, но явление интеллектуального порядка: подлинный враг авторитета есть искание веры». Отсутствие единой доктрины, единого догмата неизбежно влечет за собою возникновение множества случайных и противоборствующих авторитетов; и, наоборот, принятие догмата есть в тоже время принятие устойчивой иерархии.
Итак, проблема власти и проблема веры – это для Ромье лишь две стороны одного и того же, рокового для современности, вопроса.
4
«Старая Европа умела соединить мораль любви с моралью меча; новая Европа потеряла любовь и не смеет поднять меча». Это делает ее беззащитной перед лицом чуждых сил, которые, обогатясь всей европейской техникой, смело и решительно сделали ее орудием для своих целей. Ромье видит трусливое попустительство, господствующее всюду, и тревожно ищет в современности признаков новой веры, способной породить новый авторитет: «В глубине современных душ можно заметить ростки нового мистицизма. Оставаясь неорганизованным, этот мистицизм может привести к варварству; но, упорядоченный, он способен вновь восстановить Европу… Надо лишь освободить ключи, скрытые повсюду вокруг нас»… Положительные утверждения и надежды Ромье, к сожалению, настолько же туманны, насколько его диагноз точен и отчетлив. Человек осторожный, он прежде всего уверяет нас, что «il n'y а presque rien à faire en reaction, il y a tout à faire en action»[41]41
Почти все придется делать не в ответ на чужое действие, но самостоятельно (фр.)
[Закрыть]. Он говорит о новом типе «религиозного ордена» – артели (equipe) – о возрождении «чувства долга» и «создания общественной необходимости», о конце «умственного кочевничества», «общей идеологии».
Мы узнаем наконец о нарождении новых незаинтересованных аристократий, которым надлежит подавать пример самоотверженного служения «единой идеологии». Но в чем заключается «единая идеология», при каких условиях возможно нарождение новых аристократий – об этом автор умалчивает.
Возникает невольное подозрение, не является ли и новая идеология лишь «идеологией за отсутствием идеала» или вернее – конкретного религиозного догмата. Если это так, то Ромье сам становится мишенью собственной диалектики, как случайный служитель одного из тех случайных мнений, какими кишит современность.
Относительность самосознания
1
Недавняя книга Эснара «Относительность самосознания» как бы подводит итоги многочисленным прежним работам молодого бордосского психиатра. Цель книги – конкретная и практическая: это «введение в клиническую психологию». Эснар не философ, руководимый умозрительными заданиями, но прежде всего психиатр, пришедший к общепсихологическим проблемам через медицину. Однако, хотя сам автор осторожно воздерживается от чисто философских толкований и выводов, интерес работы выходит далеко за пределы ее специального назначения. С этой точки зрения мы и отметим здесь несколько существенных положений исследования.
(Напомним, прежде всего, что речь идет не о сознании вообще, но лишь о сознании, поскольку оно обращено на себя, т. е. о самосознании).
2
Горизонт самосознания замкнут и ограничен: оно охватывает лишь ничтожную часть целостного психофизического бытия субъекта.
Прежде всего, самосознание не знает тела: только слабые и спутанные, часто лживые отголоски жизни тела доходят до нас как таковые, в виде так называемых «кинестетических ощущений». И в то же время, неосознанное многообразие органических процессов непрерывно определяет самосознание, помимо его ведения. Несколько глотков алкоголя, щепотка кокаина, – и самосознание услужливо отвечает роем ощущений, образов, мыслей. Но эти ощущения и образы – лишь символы и условные знаки, совсем не похожие на те глубинные аффективные (и, в конечном счете, органические) колебания, которым они соответствуют. В этом смысле самосознание – лишь организованный мираж, скрывающий от нас жизнь нашего тела.
3
Но самосознание не знает и духа. Подсознательные психические энергии не только врываются в нашу жизнь в редкие и исключительные моменты (творчество, экстаз), но непрерывно определяют все наши акты, – значительные и ничтожные. Логическая операция или математическая выкладка, художественное творчество или волевое решение, – самосознанию они доступны лишь в своем конечном итоге, но не в своем зарождении и формировании. (Это факт достаточно уясненный психологами последней четверти века).
4
Наконец, даже единство нашей личности дано нам не в самосознании, но лишь – извне, как факт. Попытаемся, отвратившись от внешнего мира, схватить нашу личность изнутри, путем интроспекции, – мы лишь потеряем себя в ощущении смутного и динамического протекания, непрерывного становления, непрерывной смены. Если до конца отдаваться такому самоанализу, то это приводит, в конечном счете, к полной потере живого чувства личности, к болезненной деперсонализации: «Через самоанализ – я упразднил себя» (Амиэль).
5
Итак, самосознание не только ограничено и неспособно исчерпывающе осведомить нас о жизни нашего психофизического субъекта в его целом; оно еще и условно, поскольку осведомляет нас, лишь деформируя внутреннюю реальность, схематически упорядочивая и извращая ее. В этом Эснар видит прямое выражение основного закона самосознания: – закона внутреннего оправдания.
Многократно и по разным поводам современная психология вплотную подходила к этому закону; но с полной определенностью и последовательностью он впервые формулирован Эснаром: в этом центр тяжести и оригинальность его работы. В силу этого закона, субъект неспособен допустить, чтобы что-нибудь, входя в состав его внутреннего существа, оставалось в то же время внешним и независимым по отношению к его самосознанию: все, что принадлежит к личности, должно тем самым принадлежать к самосознанию, быть им усвоено, понято и признано как свое, хотя бы ценою извращения и диссимиляции. Самосознание не хочет признать в субъекте никакой другой обусловленности, кроме своей. Так, если непонятная волна жути, вызванная каким-нибудь органическим сдвигом, поднимается из глубины существа, то самосознание может признать ее только найдя ей объяснение, проецируя причину жути во внешний мир: мне страшно, значит есть сознательное основание для этого страха.
Самосознание обречено, таким образом, вечно объяснять и тем оправдывать все, что доходит до него из подсознательного; оно принимает на себя ответственность за все, что происходит в субъекте (ответственность, обычно иллюзорную).
6
Эснар проверяет действие этого закона на фактах общей психологии – действие в значительной степени плодотворное, поскольку оно выражает стремление к нормальной ассимиляции и приспособлению. Оно налично повсюду, в фактах самых банальных и самых сложных: эта услужливая «логика страсти», готовая обосновать все, что подскажет аффект; эти «аффективные иллюзии», смысл которых крепко отчеканен в нашей поговорке: «Не по-хорошу мил, а по-милу хорош»; наконец, художественное творчество, моральные, метафизические и религиозные системы – символические интерпретации неких существенных тенденций нашего «большого Я».
«Человек проецирует во внешнюю реальность глубинные вариации своего аффективного аппарата совершенно так же, как он неизбежно локализует в оконечности нерва раздражение, вызванное искусственно в любой его точке».
Это своего рода закон «аффективной локализации», параллельный физиологическому закону Мюллера.
7
Но особенно любопытна поверка «закона внутреннего оправдания» на фактах патологической психологии. Эснар констатирует, что безумие вовсе не характеризуется ослаблением у больного синтетической способности сознания (все мы знаем, как гибка и изощренна бывает диалектика безумия). Наоборот, самосознание достигает здесь порой особой силы в выполнении своей основной функции. Но аффективный материал здесь существенно иной. Некоординированные аффективные волны, порожденные каким-то роковым органическим сдвигом, как бы сотрясают все внутреннее существо больного; и вот самосознание ищет понять, объяснить и оправдать их всем богатством образов, идей, диалектических ухищрений, какими только располагает. Так создается внутренне связный мираж, столь напряженный и яркий, что он, в конце концов, может совершенно заслонить для больного реальность внешнего мира…
8
Таковы существенные моменты исследования. К сожалению, я не могу здесь остановиться на некоторых поучительных подробностях книги Эснара. Мне остается только отослать читателя к «Относительности самосознания» и другим работам этого блестящего психолога и психиатра.
Орфизм и христианство
1
Седьмой и шестой века до Р.Х. были для Греции эпохой напряженного религиозного брожения. «Покров златотканный», наброшенный Гомером «на мир таинственный духов», «над бездной туманной» древних, – оргийных и мистических, религиозных энергий, – разорвался и просквозил Анаксимандровой «беспредельностью». Глубинная стихия прихлынула к самой периферии культуры.
Мы можем судить о происшедшем сдвиге лишь по смутным, разрозненным намекам и указаниям. Но мы знаем, что именно здесь завязались все роковые узлы, наметились все существеннейшие тенденции, которыми поныне живет европейское человечество. И мы знаем еще, что мистерии и ионийское мировоззрение, трагедия и математика, – все это лишь отдельные лучи, исходящие из одного и того же светового очага; но очаг этот – вне поля нашего зрения. Все эти явления говорят, в сущности, об одном, и лишь по-разному разлагают, истолковывают и символизируют какой-то конкретный и многозначный религиозный опыт. Но общий ключ для них еще не найден.
2
Серия «Христианство», выходящая под редакцией П.-Л.Кушу и давшая нам уже целый ряд монографий (далеко, впрочем, не равной ценности), только что пополнилась книгой проф. Буланжэ: «Орфей». Религиозное движение Орфизма, окончательно определившееся к половине 6-го в. до Р.Х., – это одно из значительнейших и, для нас, наименее доступных явлений эпохи, о которой я только что говорил.
Идея первородного греха как некоей изначальной вины богопротивления и индивидуации; идея жертвенного страдания и воскресения Божества; концепция земного существования как заточения и искуса; очистительное перерождение и приобщение – уподобление Божеству через таинство; аскетизм и мистицизм; наконец, даже конкретная символика Евхаристии; – вот основные черты Орфизма, которые не могут не поразить сходством с религиозной концепцией Христианства.
Св. Юстин (2 в.) был настолько поражен этим сходством, что признал Орфизм плагиатом лукавых демонов: заранее предвидя приход и искупительную жертву Христа, эти демоны спешно создали и распространили орфический культ Диониса-Загрея, дабы смутить и соблазнить народы.
Проблеме отношения Орфизма к Христианству – посвящена осторожная и трезвая работа проф. Буланжэ.
3
Возможен двоякий подход к этой проблеме: во-первых, вопрос о сродстве и внутреннем соответствии Христианства и Орфизма; во-вторых, вопрос о прямом воздействии Орфизма на образование христианской доктрины и культовой символики. Исследование осложняется прежде всего тем, что Орфизм, за 6–7 веков своего существования, непрерывно менялся и находился, кроме того, в непрестанном взаимодействии с другими родственными течениями. Так, первоначальный Орфизм очень трудно отчетливо отделить от других современных ему явлений (напр., многообразные культы Диониса, затем – пифагорейство), хотя он несомненно существовал тогда как обособленное движение. Позднейший же Орфизм тяготеет, с одной стороны, к теоретическому умозрению, с другой – проникает в массы и отлагается в форме суеверий, пока наконец не растворяется окончательно в синкретизме эллинистической эпохи (так что возникает вопрос, существовал ли он как религия к моменту возникновения Христианства). Наконец, самый вопрос о влиянии на Христианство распадается на несколько частных вопросов: влияние на ту среду, из которой возникает затем первоначальное христианство; влияние на резко индивидуальную доктрину ап. Павла, столь определяющую для будущего; наконец, степень проникнутости орфическими идеями того сложного языческого мира, который воспринял, ассимилировал, обогатил христианское учение и на веки закрепил его в устойчивой системе догматики и культа.
4
На вопрос о прямом воздействии проф. Буланжэ отвечает довольно решительным «нет». И вот почему.
К моменту появления христианства Орфизм как обособленный культ уже не существовал. Некоторые орфические представления (и при том как раз не те, которые наиболее сходны с христианскими) еще продолжали жить и развиваться. Но они составляли достояние ученой литературы, доступной только знатокам и, конечно, неведомой Галилейским Рыбарям. Так что о влиянии Орфизма на первоначальное христианство и речи быть не может. Правда, к ап. Павлу эти соображения применимы лишь с значительным ограничением; но здесь черты сходства – чисто внешние, и дух учения об искупительной жертве совершенно иной (согласно проф. Буланжэ, Орфизму чуждо представление о вольном самоотдании Страдающего Божества).
Эллинизируясь, христианство, правда, восприняло некоторые (несущественные) орфические представления, но и здесь можно говорить не столько о воздействии, сколько о простом усвоении внутренне сродных элементов. Орфизм, пожалуй, лишь подготовил в язычестве душевный строй, способствовавший восприятию христианства. И только. При некотором родстве внутренних устремлений, может быть отмечено разительное сходство обеих концепций; но сходство это разительно как раз там, где оно чисто внешнее.
При спорности некоторых частных утверждений проф. Буланжэ (о которых говорить здесь не место), условная правота его выводов несомненна. Фантастика какого-нибудь Маккиоро, для которого Христианство находится чуть ли не в прямой причинной зависимости от Орфизма, может только удивить. Правда, можно было бы сказать, что дело здесь совсем не так просто, что вопрос о причинах и следствиях даже не затрагивает сущности предмета – но это значило бы идти слишком далеко.
Можно также пожалеть, что при всей своей осведомленности автор не обнаружил несколько большей чуткости и интуиции. Это особенно чувствительно для нас, русских, у которых есть, в этой области, незабываемые книги Ф.Ф.Зелинского и единственные по глубине интуиции фрагменты (увы, пока только фрагменты) Вяч. Иванова.
Как бы то ни было, книгу проф. Буланжэ можно только приветствовать: это скромное и добросовестное введение в одну из знаменательнейших проблем Европейской культуры.








