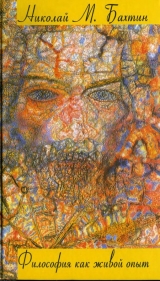
Текст книги "Философия как живой опыт"
Автор книги: Николай Бахтин
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 18 страниц)
«Обращение» Жана Кокто
1
Около года тому назад мне уже приходилось говорить о Жаке Маритене по поводу его книги «Три реформатора». Мне казалось тогда, что многого можно ожидать от того движения католической мысли, во главе которого стоит Маритен.
«Недостойнейший и самый поздний из учеников Аквината» – как он сам себя называет – Маритен в своих предшествовавших книгах (из коих особенно примечательны «Reflexions sur l'intelligence») пытался показать неувядающую юность и жизненность системы Ангелического Доктора, ее способность осмыслить все основные и самые острые проблемы нашей культуры и философии. Уже тогда было ясно, что центр тяжести лежит для Маритена в плоскости строго теоретической: учение его отмечено было доброй долей философски беспомощной, но жизненно-драгоценной наивности и мужественной прямоты.
И в самом деле, то, что в предыдущих книгах было лишь неловкостью теоретика, в «Трех реформаторах» оказалось силой обличителя и борца. Здесь Маритен с великолепной непримиримостью вскрывает основные виды лжи, владеющие сознанием новой Европы; здесь он достойный ученик Леона Блуа, но ученик – твердо и сознательно опирающийся на строго определенные и глубоко заложенные в веках теоретические основания томизма.
Как бы ни относиться к Маритену «Трех реформаторов», но нельзя не признать, что здесь он был до конца последователен, прям и чужд дряблого соглашательства.
2
«Мне пришлось начать со спора, но он все более тяготит меня, – жалуется теперь Маритен. – Так мало любви в мире». Это из его недавней переписки с Кокто, по поводу «обращения» последнего. Маритена-обличителя сменил Маритен, благословляющий современность, всю современность, до русской революции и сюрреалистов включительно. Он хочет теперь, созерцая наше время, «не разделять, но принимать и воссоединять». Переписка обнародована в назидание современникам, и дуновение благодати проникло во все литературно-увеселительные места. «Господь щедр, – трогательно радуется философ, – благодать его взрывается, как граната, и разом поражает несколько жертв… Два крещения, вскоре еще удвоившихся, одно обнаружившееся призвание к священнослужению и еще другие проявления благодати – последовали за вашею встречей с Иисусом».
Что же собственно произошло? С Кокто, героем всей этой истории, – ничего особенного: перед нами еще одна остроумно дерзкая проделка, еще одна – и, вероятно, не последняя – метаморфоза литературного фокусника. Мы уже видели модернизированную «Антигону без патины», «Антигону», приправленную пикантным соусом эстетического жеманства. Теперь перед нами модернизированное «католичество без патины», с большим искусством приспособленное ad usum[60]60
Для употребления (лат.)
[Закрыть] молодых людей со старчески-женственными ужимками.
3
«Письмо к Маритену» – очень забавно. Здесь Кокто, как всегда, – талантливый эквилибрист, то пленительный, то отталкивающий: несколько анекдотов, несколько пряных двусмысленностей, несколько парадоксов; рассуждения об опиуме и литературе, о Боге и о себе самом… Мы узнаем, что Кокто «крестьянин неба» и «ребенок», что он хочет «реформировать душу», как реформировал недавно музыку, что «Петух и арлекин» был «книгою любви», и еще многое другое. Мы узнаем наконец следующее:
«Священник поразил меня совершенно так же, как Стравинский и Пикассо… Но Пикассо и Стравинский умеют покрывать бумагу божественными знаками, а chef d'oeuvre, который представил мне священник, это – гостия».
Это Кокто рассказывает о своем «обращении»… Повторяю, с Кокто ничего собственно не произошло. И кроме того: Кокто ведь безответственен. Но Маритен – Jacques de Jean de Gaetan de Dominique de Raginald de Saint Thomas, как он себя именует, – ведь он-то, казалось бы, ответственен за свои высказывания полностью и до конца.
4
«Ваш Ангел Хранитель никогда не покидал своего места и каждое утро заносил ваше имя в свое поминанье», – умиленно восклицает Маритен в ответ на все эти ужимки и анекдоты. И, ни на минуту не покидая тона теологического благолепия, он выспренно комментирует и торжественно приветствует все капризно брошенные утверждения Кокто.
Оказывается, например, что поэзия автора «Потомака» «в аналогиях и загадках, образах и ребусах» постигает сущность ангельской природы, которая ему, Маритену, раскрыта была «Трактатом об ангелах» Св. Фомы.
В конце концов (во избежание весьма естественного недоразумения) Маритену пришлось даже оговориться, что он вовсе не хочет отожествлять свою и Св. Фомы философию с поэзией Кокто и обратно. Еще недавно неумолимый обличитель Декарта, наш философ столь далеко заходит в своем стремлении «примирять» и «воссоединять рассеянное повсюду наследие мудрости», что всякий литературный скандал кажется ему – вслед за Кокто – посильным благочестивым воспроизведением в миру того «скандала для иудеев и безумия для эллинов», о котором говорит апостол.
Вкусы Маритена модернизировались, он с презрением говорит о «греко-романских прелестях немного жирной музы» и сочувственно «признает»… сюрреалистов, которых, для благолепия, иносказательно именует: «Les amis de Lotreamont».
Дело в том, что сюрреалисты «борются против первородного греха» (la poesie qui se débat contre le mensonge, contre le péché originel en fin de compte[61]61
Поэзия, которая борется против лжи, наконец, против первородного греха (фр.)
[Закрыть]).
Маритену открылось, «сколько божественной мудрости отражается в душе, привязанной к (этой и подобной) поэзии». «Правда, – говорит он, – поэзия не сделала их мудрыми, но она развязала им сердце… Они оказываются дивно предрасположенными к приятию благодати; я видел, как они пили с божественною жадностью, quasi modo geniti infantes[62]62
Как новорожденные (лат.)
[Закрыть], девственное млеко Церкви».
Сказанного достаточно для того, чтобы убедиться, сколь пикантно и утешительно это неожиданное превращение неотомизма.
Теперь, когда Кокто «очистил католичество от патины», а Маритен благословил эту реформу от имени Ангелического Доктора, – не сомневаюсь: «обращения» дивно приумножатся.
5
Вся эта история с «обращением» (причем остается неясным, кто кого собственно «обратил»: Маритен ли Кокто, Кокто ли Маритена?) – была бы лишь забавным литературным анекдотом. Но имя Маритена меняет дело.
Я не позволю себе судить, показательны ли утверждения философа для кого-нибудь, кроме него самого. Но сам он твердо и уверенно говорит от имени той силы, которая в наши дни оставалась единственной духовной силой среди жуткого кишения идей-ларв и раскрепощенных полуистин, среди трусливого соглашательства всех со всеми…
И это придает «литературному анекдоту» характер глубоко трагический.
Защитник язычества
1
В издательстве «Editions du siècle» выходит любопытная серия: «Mâitres de la pensée antichretienne».
Пока появился только «Цельс» Ружье и, совсем недавно, – «Ницше» Жюля де Готье. Но предполагаемый состав серии весьма обширен: сюда войдет, прежде всего, ряд монографий о представителях языческой оппозиции христианству (Порфирий и Неоплатонизм, Император Юлиан, Симмах, Либаний и др.). Этим задача, однако, не ограничивается: намечены, в числе прочих, книги о Спинозе, Вольтере, Гольбахе. Наконец, серию должен завершить такой «maitre» антихристианской мысли, как… Реми де Гурмон. Словом, масштаб грандиозный. Не совсем понятно только, какое понятие «антихристианства» (кроме отрицательного, чисто словесного) способно включить в себя и мистику Порфирия, и трагический пафос Ницше и праздную болтовню Реми де Гурмона.
2
Книга Ружье, открывающая серию, в значительной степени рассеивает наши недоумения. В пространном введении Ружье – редактор серии – с полной определенностью вскрывает свои задания. Да и самая книга достаточно характерна, чтобы судить по ней о тоне и методе дальнейших работ.
Выясняется, прежде всего, что нам нечего ждать кропотливых исторических изысканий: задача издания – чисто боевая и в высшей степени «актуальная». Читателю хотят помочь «прийти в согласие с самим собой, признав себя назарейцем или эллином». Для этого спешно собираются обвинительные материалы против христианства (все равно какие, все равно где) и должным образом интерпретируются. Так становится понятной странная пестрота серии: читатель, которого не убедил Ницше, может не устоять перед Реми де Гурмоном – важен результат.
В частности, автору книги о Цельсе интересен вовсе не Цельс. Цельс (как, вероятно, и другие мыслители, которым предстоит фигурировать в серии) – только предлог, только маска, из-за которой самоуверенно подмигивает нам давний знакомец – флоберовский аптекарь, враг предрассудков и вольнодумец Омэ! Омэ благосклонно берет под свое покровительство язычество, «нечуждое здравых понятий». Омэ, для пользы дела, сам готов признать себя «эллином».
3
Правда, «эллинство» это – совсем особого рода. Конфликт христианства и язычества важен для Ружье прежде всего как борьба «трезвой рационалистической мысли» с «невежественными предрассудками религии». При этом возникают иногда серьезные затруднения, но Ружье-Омэ справляется с ними быстро и легко. Он просто заявляет, что не желает считаться с «грубыми суевериями народной религии и орфических сект» и принимает во внимание лишь «просвещенную философскую мысль». При этом Платон и Аристотель, в изображении Ружье, сами начинают напоминать провинциального аптекаря; а там, где эти мыслители уж слишком явно компрометируют себя «религиозными предрассудками», у Ружье всегда есть под рукой несколько ходячих формул стоиков или эпикурейцев, в которых, разумеется, с большею чистотой выразился дух эллинства. Например, надо показать, что идея первородного греха в корне несогласима с трезвой языческой мыслью. Но как раз эта идея с необычайной силой и чистотой наличествует в античном религиозном сознании и поступила в христианство лишь в умаленном и искаженном виде. Более того, можно даже сказать, что вся греческая философия исходит из этой идеи и фактически с нее начинает (Анаксимандр). Но Ружье крайне просто обходит это затруднение: достаточно показать несогласимость идеи первородного греха с воззрениями, например, Лукиана или Лукреция – и вопрос решен.
4
Но такого рода подстановки возможны лишь при очень общем рассмотрении конфликта язычества и христианства (которому посвящена первая половина книги). Переходя к Цельсу, Ружье поневоле оказывается связанным с текстом Цельса и его доводами против христианства. Здесь уже не приходится противопоставлять мистицизму христианства какую-то выдуманную «sagesse sans mystères de Piaton»[63]63
Мудрость Платона без всяких тайн (фр.)
[Закрыть]. И вот, что оказывается.
Ружье вынужден признать, что даже Цельс грешит отсталостью и мистицизмом и «компрометирует свое дело – стремление к научной мысли и к свободному проявлению разума, – связывая его с защитой обветшавших культов».
Правда, Ружье отдает должное «критическому методу» Цельса и с видимым удовольствием повторяет некоторые его соображения по поводу разных «противоречий» и «несообразностей» в Евангелиях. Эти соображения, «конечно, остаются в силе и для нашего времени». Ружье высказывает даже предположение, что «только тенденциозный характер выпадов христианских апологетов против политеизма побуждал философа взять его под свое покровительство». И все-таки верования Цельса очень его шокируют.
Цельс – трезвый римлянин; ему нечего было противопоставить скудному христианскому откровению, кроме своего рассудка и мертвого груза своей памяти. Но для нашего эллина-Омэ даже этот рассудительный полемист кажется слишком глубоко связанным с эллинской религиозностью. И Ружье неожиданно восклицает: «в одном христиане были правы – они изобличили безобразие мифологии и грубые суеверия языческого культа».
5
«Цельс, или конфликт античной цивилизации и раннего христианства» – таково официальное заглавие книги. Но повторяю, автора интересует, на самом деле, нечто совсем другое. «Исследование» пересыпано намеками или прямыми указаниями на современность. Всякая глава неизменно кончается нравоучением. Например: «сочувствовать христианским догмам, это и в наше время, еще более, чем в эпоху Цельса, – вступать в союз с бессмыслицей». Итак, перед нами не просто бездарная историческая работа (тогда о ней не стоило бы и говорить), но проповедь определенного типа антихристианства. Тип этот – крайне распространенный и всем известный. Вся пикантность здесь заключается только в том, что проповедь эта хочет выдать себя за апологию эллинства. Почему? Может быть, это отрицание малого и ущербленного религиозного опыта христианства во имя целостной мудрости язычества?
Мы видели, что нет. Пустое отрицание всякого религиозного опыта здесь лишь кощунственно пытается связать себя с подлинным антихристианством – с эллинством. Но подлинное антихристианство всегда религиозно. И если в самом скудном, самом темном христианском умилении все еще судорожно тлеет искра древнего, божественного огня, то в душах бесчисленных Омэ нашего времени – только тление и пустота. Поэтому всякий добрый язычник с отвращением отвернется от этих непрошеных защитников.
Пять идей
1
Макс Шелер работает в настоящее время над «Философской антропологией», которую определяет как «основополагающую науку о сущности человека». «Только такая антропология, – говорит он, – может послужить последним основанием для всех частных наук, имеющих предметом человека» (социальные науки, нормальная и эволюционная психология, характерология и т. д.).
Антропология Шелера откроет, по-видимому, новый период в развитии этого замечательного мыслителя. Шелер, надо полагать, окончательно отошел от того своеобразного и глубокого обоснования католичества, которое дало ему столько ревностных учеников и последователей. Ученики, как водится, восстанут теперь на учителя, дерзнувшего идти дальше, и будут цепко держаться за изжитую им доктрину. А сам учитель, какова его новая философская позиция? Об этом, в ожидании выхода «Антропологии», можно только догадываться.
Никаких положительных утверждений мы не находим в той части «Введения к «Антропологии», которая только что, в виде отдельной статьи, появилась в ноябрьском № «Neue Rundschau». Это лишь предварительный «типологический» анализ основных учений о человеке. Но анализ этот, сделанный рукою твердой и уверенной, сам по себе представляет большой интерес.
2
«За нашу, примерно десятитысячелетнюю, историю – это первая эпоха, когда человек окончательно и без остатка стал «проблематичным» для самого себя», – говорит Шелер. Противоречивые психологические, социологические и исторические концепции сталкиваются и переплетаются самым причудливым образом. Но если всмотреться, то становится ясно, что в основе всех этих столь многообразных высказываний лежит лишь несколько основных и коренным образом различных понятий о человеке. Вскрыть эти понятия, привести их к окончательной ясности, свести к немногим определяющим типам – такова задача, которую ставит себе Шелер. С такого типологического анализа должна начать антропология. вот, сквозь бесчисленные оттенки современных утверждений, Шелер различает пять основных и определяющих идей о человеке. Три из них являются общим достоянием, и мы невольно опираемся на одну из них всякий раз, как высказываем что-нибудь о человеке или истории. Две – гораздо более новые; они, может быть, уже давно «носятся в воздухе», но последовательно развиты лишь в новейшей, в частности немецкой, философии.
Каковы же эти пять идей-типов?
3
Первая идея – это иудейско-христианский миф о сотворенном человеке и смысле его бытия. Идея эта и, в частности, ее основные моменты – первородный грех, искупление, эсхатология – крайне живуча и часто явственно обнаруживает себя даже там, где о догматической вере не может быть и речи. Этой идее соответствует целый ряд концепций истории.
Вторая идея впервые «открыта» Платоном и Аристотелем и, по-существу неизменная, царит в философии до наших дней. Она стала общим достоянием и в обиходе получила даже опасный характер несомненности и неоспоримости. Это идея «homo sapiens». Ее основные черты:
1) человек единственный среди живых является носителем специфического фактора – разума, неразложимого и не сводимого на другие, низшие факторы.
2) основное свойство разума, непререкаемо за ним признанное, – способность познавать сущее как оно есть;
3) разум тождественен себе и неизменен в любую эпоху, в любом homo sapiens.
Лишь третье свойство (неизменность) было подвергнуто сомнению: Гегель приписал разуму, как таковому, становление во времени. В остальном идея «homo sapiens» осталась неизменной в самых противоположных доктринах.
Но способность разума познавать сущее как оно есть – эта способность, сознательно или бессознательно, коренится на одной предпосылке: богоподобие или богоданность разума (а в более исконной форме: торжество или подобие человеческого логоса мировому Логосу). Если устранить эту предпосылку, идея homo sapiens теряет всякий смысл.
Третья идея – натуралистическая, позитивистическая и, позднее, прагматическая. Она отрицает специфичность и неразложимость разума, видит в нем лишь продукт инстинктов и чувственных восприятий.
Определяющее начало в человеке это не разум (нечто вторичное, производное), но инстинкты. Инстинкты распадаются на три основные группы, и обыкновенно одной из этих групп придается первенствующее значение. Соответственно этому существует и три типа натуралистических концепций истории. Во-первых, теории экономические, напр., марксизм, для которого история – «борьба классов», «борьба за место у корыта» (инстинкт питания). Во-вторых, теория, истолковывающая историю прежде всего с точки зрения инстинкта размножения или одной из его форм (пример: Фрейд и его libido). В-третьих, – история sub specie «воли к власти» (уже Гоббс и Макиавелли, особенно – Ницше).
Шелер отмечает, что есть одна черта, неожиданно роднящая между собою все разнообразные натуралистические теории: это неизменная вера в разумную эволюцию, в высокую цель человеческого развития. И здесь обнаруживается странное сближение этих теорий с идеей «homo sapiens».
4
Четвертая идея – «страшная для западного чувствования и западного мышления». Вот в чем она заключается. Вся история человечества – непрерывный декаданс, самые истоки ее отравлены, ибо то, что делает человека человеком – его разум – есть болезнь. Человек – «животное, заболевшее разумом» и потому – «животное обреченное на вымирание. Подлинные жизненные силы он подменил жалкими суррогатами (– язык, понятия и, вообще, все материальные и духовные ценности культуры). Ради этих призрачных «ценностей» он изменил подлинным ценностям жизни. Человек уже не приобщен экстатически жизни, он не погружен и не укоренен в мире, как все живое, но лишь отвлеченно сознает жизнь и мыслит мир. Наша история – процесс непрерывного разрушения, разъедания жизни разумом, этим страшным «метафизическим паразитом». Однако, ведь этот «патогенный процесс» длится уже 10000 лет. Но что такое десять тысяч лет в жизни вида? – приблизительно то же, что в жизни индивидуума «восьмидневная лихорадка, от которой пациент скончался». Разные культуры в разное время приходят к смерти, но самая культура как таковая есть процесс умирания.
Словом, это давняя тютчевская мысль о неустранимом «разладе» разума и природы, и о «призрачной свободе» нашего духа, как корне этого разлада. Но здесь эта мысль разрослась в толстые томы и вооружилась «наукообразной» аргументацией.
Шелер пытается вскрыть происхождение этой «страшной» теории. Он находит зачатки (только зачатки) ее у поздних (Гейдельбергских) романтиков, у Шопенгауэра, Ницше и Бергсона. Но идея эта обострилась и обрела силу, только пройдя через роковой опыт «страшных лет» Европы. Теперь разнообразные мыслители разными путями подходят к ней с какой-то странной неизбежностью: философы и психологи (Клаге), палеогеографы и геологи (Даке), этнологи (Фробениус), историки (Шпенглер) – и многие другие.
Шелер явно встревожен этой идеей и, с видимой страстностью, ищет показать ее коренную противоречивость… Но я не могу коснуться здесь его высокоинтересных критических соображений.
5
Пятая идея, в противоположность четвертой, возносит «человека» на еще небывалую высоту. Эта идея – представленная Н.Гартманом (в его «Этике») и Г. Керклером – своеобразное преломление ницшева богоборчества и учения о сверхчеловеке в философском и жизненном опыте современности.
Старые атеисты, признавая желательность бытия Божия, видели себя теоретически вынужденными отрицать его. Наоборот, новое учение, даже допуская теоретическую неопровержимость бытия Божия, провозглашает, что Бог не должен быть, если есть свобода и ответственность. Бытие Бога уничтожает всякий моральный смысл бытия человека, ибо человек обретает себя только в абсолютной моральной суверенности. «Предикаты божества должны быть перенесены на человека» (Н. Гартман).
«Что мне за дело до основы мира, раз я ясно вижу свою моральную сущность, и знаю, что есть добро, и что я должен делать, – так провозглашает Керлер. – Если основа мира находится в согласии с тем, что я сознаю как благо, то я готов чтить ее, как друга; если же нет – то я плюну на нее, хотя бы она раздавила меня и мои цели!»
По аналогии и противоположности с кантовым «постулативным теизмом», Шелер называет это учение «постулативным атеизмом задания и ответственности». Этой антропологии соответствует история как «монументальное воссоздание духовного облика героев и гениев» или, по Ницше, «высших экземпляров человеческой породы».
К сожалению, Шелер лишь бегло останавливается на этой, столь мало нам известной, идее. Получается впечатление: какая странная и жуткая смесь мертвого протестанско-кантовского морализма с дерзновениями служителя Дионисова – Ницше.
* * *
Таковы те пять идей, которые – по Шелеру – всецело определяют и исчерпывают всю совокупность высказываний о человеке в современной Европе.
Ни к одной из них Шелер не примыкает, и идея, которая должна лечь в основу его собственной «Антропологии», несомненно представляется ему как существенно новая, шестая идея.








