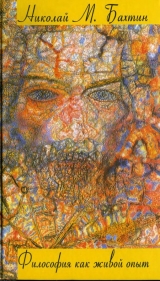
Текст книги "Философия как живой опыт"
Автор книги: Николай Бахтин
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 18 страниц)
A. А, вот и вы, наконец. Видите, на какую высоту нас загнали со взводом. И, видимо, надолго: пока не выстроим блокгауз, нас отсюда не сменят. Значит, примерно месяц – на казенном полулитре вина, без женщин и даже почти без воды: ближайший источник вон там внизу, километра полтора; наполнять бидоны приходится под обстрелом, так что наряд за водой посылаю раз в день, под прикрытием пулемета. Ну вот. А теперь устраивайтесь. Пока вы изволили прохлаждаться в карауле при штабе отряда, я оборудовал наше жилье – и даже, как видите, не без комфорта.
B. Знаете, я не очень огорчен этой перспективой месячного отшельничества. К черту хихикающих алмей! Отдохнем от sous-off-ских[37]37
Здесь: унтер-офицерских.
[Закрыть] разговоров и от еженощного пьянства в шатре у жулика-Браима… А скит – великолепный: круто, просторно и опасно; нагромождение заросших лесом кряжей, долина Мулуйи – внизу, а дальше – снеговая цепь Большого Атласа… Вот где – «три тысячи метров над уровнем моря и еще выше над всем человеческим» – мы продолжим на досуге наши прерванные философические собеседования!
A. Прибавьте к этому: семь лет, проведенных без книг и осязательную возможность быть истребленными в любой момент. – Незаменимые условия, дабы философствовать конкретно, решительно и по существу.
* * *
B. Вы помните наш разговор накануне первой операции? Так вот, в начале мне было неясно, чего вы собственно хотите, ради чего столь яростно отвергаете «оптимизм», под которым разумеете всякое приписывание бытию смысла и смыслу – бытия. Потом все стало выясняться и, признаюсь, я был поражен. На этом нас и прервали Бени-Уаллемы. Вот что я хотел вам тогда ответить. Ваше желание стать «глубже всяких смыслов и оправданий», т. е. вне всякой определенности и разграниченности – это уж явная мистика. Не подлинная, конечно, но слепая «природная мистика» – разнуздание темных, иррациональных энергий личности, мятеж против Логоса и попытка лишить разум его законодательных полномочий. И потом, когда я говорил о вашей «райской гносеологии», то это была не только шутка. Ведь, в конце концов, вы действительно призываете вернуться к какой-то первобытной и ныне утерянной чистоте и цельности в постижении и приятии жизни. Странно сказать, но в этом есть несомненный привкус какого-то руссоизма – скрытая мечта если и не о «добродетельном», то о «цельном» и «мудром» дикаре – о дикаре уж во всяком случае. Ведь не та или иная иерархия ценностей кажется вам нечестивым искажением сущего, но иерархия ценностей как таковая. Ведь вы с презрением говорите о «так называемой философии», этой «технике умаления бытия до смысла», и явно хотите утвердиться вне и помимо многотысячелетнего опыта познания и осмысливания мира, т. е. помимо опыта культуры. Друг мой, будем называть вещи их именами: вы призываете опроститься! Признайте всю законность моего изумления: мне приходится обвинять вас как раз в том, что – как я думал до сих пор – вам более всего ненавистно и отвратительно. Вас – солдата – я обвиняю в мятеже против начала строя и иерархии, и вас – эллиниста – в темной, варварской вражде к Логосу и в каком-то, поистине библейском, неприятии строгого и расчлененного космоса культуры. Вот вам!
А. Да, вы обвиняете меня в том, что мне, действительно, более всего ненавистно – и вы это знаете. Ненавистно конкретно, до конца, на деле, а не только теоретически – вы это знаете тоже. Значит: либо мое философствование – лишь абстрактное праздномыслие, ни в чем не определяющее моей жизни, либо – вы меня просто не поняли; вернее, я сам недостаточно ясно высказался. Ибо, поверьте, мое дело, мои хотения, моя любовь и моя ненависть – все это непрерывно питаемо опытным постижением бытия в его внесмысленной и божественной чистоте. А брезгливая неприязнь ко всякому оптимизму как подмену и сделке, – лишь обратная сторона этого опыта. Мир как таковой уже давно сделался для нас сокровенным; и прямое жадное, осязающее видение вещей может осуществиться лишь в результате длительных искусов и посвящений. Между нами и миром – чудовищное кишение обожествленных абстракций и возведенных в абсолют ценностей…
Но вот, ощущение неподвластности сущего никакому смыслу – именно оно приводит меня, в плане личном, совсем не к раскрепощению хаотических энергий, но к медленному собиранию и оформлению себя в простое и цельное единство; а в плане культуры – к твердому признанию ее иерархически-упорядоченного космоса. – К признанию не менее решительному, чем ваше, и, во всяком случае, более напряженному и активному. Почему? Потому что я знаю условность и обреченность того, что признаю, и не боюсь принять его под знаком гибели.
«Приписывание бытию смысла и смыслу – бытия», – так вы только что определили ваше воззрение. Иначе говоря, и смысл и иерархия ценностей для вас нечто данное, вы находите их в готовом виде – вечными и неизменными: остается только познать и покорно следовать. А для меня иначе: среди неисчерпаемой и внемысленной полноты сущего человек должен сам, собственными силами построить свой хрупкий дом. Так, обреченный – и сознающий свою обреченность – он начинает свое гордое и безнадежное строительство – мужественное творчество и утверждение до конца человеческих ценностей. Так строил свою культуру Эллин – тот самый «дикарь», которого вы смутно угадали за моими речами. Ценности, истины и смыслы черпают свою силу и свою реальность только в живом и вольном акте признания и утверждения, лишь через него становятся обязующими.
Но посмотрите, к чему ведет здесь тот подмен бытия смыслом, о котором, в другом соотношении, мы говорили прошлый раз. Стоит только поверить в абсолютный характер этих ценностей, приписать им «бытие в себе и для себя» – и вот эти живые и утвержденные в человеке начала превращаются в страшные вампирические силы. Они получили от нас всю свою кровь и жизнь, и хотят теперь жить помимо нас, вопреки нам: добро и красота и неисчислимые истины и нормы – все великие и малые ценности, оторвавшиеся от человека, переставшие служить ему и враждебно ставшие между ним и миром. И каждая лживо говорит: я есмь, кощунственно выдает себя за сущее. Так рождается принудительная дегуманизированная культура с ее «абсолютными» ценностями.
Итак, вот к чему сводится ваше обвинение во вражде к культуре: я отказываюсь признать ее абсолютной; принимаю и утверждаю ее – как и самого себя – во всей ее обреченности и относительности. И потом, для вас она дана извне, как нагромождение многообразных форм и ценностей, которым надо подчиниться, как сложность, которую надо усвоить и принять. Я же принимаю ее, лишь поскольку могу утвердить в ней и через нее – себя. И вот, вы обвиняете меня в скрытом призыве к «опрощению». Нет, «опрощение» это – трусливое отступление, возвращение к примитивному, сложному, хаотическому. А я зову к иному, если угодно, – к упрощению: к мужественному преодолению извне данной сложности. Это и есть путь подлинной культуры, взятой в ее динамическом и творческом аспекте: путь к строгой и завершенной простоте, завоеванной и вновь завоевываемой каждое мгновенье.
В. Резюмирую ваши утверждения: сущее бессмысленно (или, как вы предпочитаете говорить: «внемысленно»); все истины и ценности – условные и преходящие фикции, своевольно привносимые в мир человеком; они черпают свою реальность только в акте человеческого утверждения и признания; не будем же кощунственно приписывать им абсолютного характера, ибо тогда они превратятся в принудительные начала и станут между нами и миром. До сих пор все ясно, но дальше – неожиданный скачок: итак, будем гордо и цельно творить и утверждать эти заведомо условные ценности. Что за нелепая игра: «гордое строительство» фикций, которые все равно «сгорают от одного соприкосновения с бытием»! Поскольку ваш пафос чисто отрицательный, он мне понятен (хотя отнюдь не убедителен). Но когда вы пытаетесь перейти к положительным утверждениям – я недоумеваю. Строить фикции, да еще «под знаком гибели» – решительно отказываюсь. Зачем, ради чего мне делать столь бессмысленное дело?
Но здесь мы явно возвращаемся к нашему исходному пункту, – к вопросу о смысле и оправдании. Ни бытие в целом, ни строительство культуры, в частности, – для меня неприемлемы, если они не оправданы всецело и до конца. А вы, и там и здесь, заявляете: принимаю и утверждаю безоговорочно, «глубже всех оправданий». Спорить нам явно не о чем, мы расходимся на слишком большой глубине. Я выбрал смысл, вы – бессмысленное бытие. Искать основания этого выбора – бесполезно: он явно предшествует у нас всем основаниям и доказательствам.
А. Какое существенное утверждение! Итак, в корне всех наших суждений лежит выбор, для которого уже не может быть дальнейших оснований – простое «я так хочу». Видите, даже для того, чтобы избрать смысл, вам пришлось стать вне и глубже смысла, а ваша жажда оправдания – сама оправданию не подлежит. И так во всем: последний источник всех смыслов – бессмысленное и гордое своеволье; из него они исходят, в него возвращаются. И вы это знаете, но упрямо отказываетесь прояснить свой собственный опыт. Вы спрашиваете: зачем это строительство под знаком гибели, это стремление обреченного человека утвердить себя в преходящих ценностях? Ответ возможен только один: потому что он хочет – хочет всей силою своего бытия – до конца осуществить и исчерпать себя, ослепительно вспыхнуть между двумя пределами: возникновением и гибелью.
Ибо тот, кто зачерпнул подлинного, неумаленного бытия, знает, что вечность не в силах ничего прибавить и гибель ничего не в силах отнять от божественной полноты простого «я есмь».
О разуме
разговор
Дама – Философ – Поэт – г-н X.
X. (складывая рукопись). Я кончил…
Дама (к философу). Знаете, все это явно направлено против вас. И подумайте, ведь если X. прав (а я чувствую, что он прав… кажется, чувствую), то вы… как бы это сказать… ну, просто лишились специальности. Выходит, что и философия и абсолютное (а я так увлеклась абсолютным!..) – выходит, что все это устарело. Надо предаться «конкретному, эротическому узрению вещей» – понимаете э-ро-ти-ческому!.. Но ваше имя, ваше положение, ваш возраст, наконец, вам этого не позволяют… Так как же быть? Отвечайте же, возражайте, опровергайте!
Философ. Успокойтесь, Дело далеко не так безнадежно. X., друг мой, я, признаться, слушаю вас, слушаю – и недоумеваю. Вы говорите, что разум насильственно сводит к мертвому тожеству живое многообразие сущего. Что он подменяет мир пустою и логически-принудительной схемой. И вот, вы зовете нас вернуться к «живой полноте». Для этого якобы необходимо, прежде всего, отказаться от «скудного рационального познания» и искать «жадного, осязающего постижения реальности». Так ли я вас понял?
X. Приблизительно так. Но что именно вызывает ваше недоумение?
Философ. Вот что. Выходит, – чтобы вернуться к этой самой «полноте», надо предварительно подвергнуть себя жестокой операции: с корнем вырвать некую смущающую и опасную, на ваш взгляд, силу – разум. Старый прием! И знаете, у кого вы этому научились? У нас же, у ваших врагов – у философов. Умаление вещей и человеческой личности, в котором вы их только что обвиняли, – ведь оно как раз в этом и заключается: признать, что в человеке что-нибудь заслоняет высшую реальность и начать «отрешаться». Отрешаться от тела с его страстями и лживыми свидетельствами чувств или, как вы, – от разума: прием, по существу, один и тот же. Но философы, по крайней мере, последовательны: они делают это ради абсолютной истины. Абсолютная, т. е. отрешенная. Самая этимология здесь за них, и нет никакого повода к недоразумению. Но вам это уж совсем не пристало. Вы ведь жаждете «полноты», да еще и «живой». Хороша полнота, которая в том и состоит, что меня лишают существенной части меня самого! Пускай разум опасная сила, но он во всяком случае – сила. Неоспоримо наличная в нас, вполне реальная. Предположим, что вместе с вами и я возмечтал бы о «полноте». И что же? Я все-таки решительно отказался бы от предлагаемой операции – именно ради моей полноты, именно ради моей цельности, на защиту которых вы заявляете какие-то специальные права.
Я знаю в себе разум – гордый, стремительный, непримиримый в своем мужественном требовании последней ясности и последней строгости. Как вы хотите, чтобы я его «искоренил»?.. Разве что из христианского смирения и самоунижения. Это было бы понятно. Но ведь вы, кажется, призываете совсем не к смирению.
Заключаю. Вам нужна вовсе не полнота бытия, но полнота минус разум. А в результате такого вычитания-умаления получается одно: хаос. Называйте же вещи их именами… Впрочем, это уже «требование разума», и постольку оно для вас необязательно, мне, значит, остается только смолкнуть. Прибавлю, все-таки, что беспорядочно пользоваться разумом это еще не значит отвергать разум, а смутно и противоречиво философствовать – не значит упразднять философию. Ведь и вы, мой друг, vous faites de la philosophic comme les autres, – et de la mauvaise…[38]38
Вы, как и другие, философствуете – и скверно (фр.)
[Закрыть]
Поэт. Позвольте, вы преувеличиваете и, подозреваю, не без намерения. Даже мне, человеку диалектически неискушенному, все-таки ясно, что X. говорил о другом. Не против разума он восставал, а против так называемого чистого или рационального сознания, т. е. против односторонней и, я бы сказал, противоестественной деятельности разума. Ведь так, X.?
X. Скажем, так.
Поэт. Разрешите, я буду отвечать за вас. Итак, X. отрицал не разум вообще, но разум раскрепощенный, переставший служить жизни и всецело предоставленный себе самому.
Основная функция разума: условно сводить различия к тожеству и множественность к единству. Полная слепота к качеству – необходимое условие этой полезной, но по существу предварительной деятельности. Но разум, разучившийся служить и притязающий властвовать, заносчиво принимает свой закон за закон самого бытия и свою меру – за меру самих вещей. Он соглашается признать действительностью лишь то, что в силах исчерпать и подчинить. Но мир, где все неповторимо, где ничто не может быть сведено ни к чему другому, где всякая вещь властно утверждает свою качественную единственность, – немудрено, что этот мир оказался «не по зубам» разуму в его стремлении во что бы то ни стало сводить одно к другому и, в конечном счете, все – к одному. Осталось заподозрить реальность мира и подменить его другим, более податливым. И разум сам построил себе вторую, «абсолютную» реальность, – призрачный двойник нашей, «относительной», – новый мир, всецело подвластный его закону; мертвый, но рационально-неоспоримый.
Мы, живые, мы расколоты теперь между этими двумя сферами. Соблазненные призрачным и стройным миром, мы уже усомнились в реальности того, в котором живем, мы разучились цельно и безоговорочно любить, видеть, осязать зримое. За всякой вещью для нас уже зияет расчисленная пустота, и взгляд скользит мимо вещи, сквозь вещь. Даже ребенок уже не верит тому, что каждое мгновение радостно раскрыто каждому его взгляду. Он лишь автоматически, из атавизма, еще видит это небо, эту землю, это солнце, но он уже прекрасно знает (из учебника космографии!), что все это на самом деле не так, и может вам это точно доказать, если вы сомневаетесь. Насколько атрофировалось в нас чувство реальности, если достаточно учебника космографии, чтобы оно распалось и подменилось мертвой и гладкой схемой. Это чудовищно, и это уже кажется вполне естественным. И это только пример. Но так во всем. Мир развоплощен разумом!
Но разум, по своей природе, лишь скромный строитель полезных и заведомо условных схем. И только. Он должен отказаться от незаконных притязаний. Он не имеет права дерзко становиться между нами и божественным богатством живого мира, о котором властно свидетельствует конкретный опыт.
Итак, если я верно понял X., дело не в том, чтобы «искоренить разум» и этим умалить человеческую личность. Надо лишь указать ему должные границы и обязанности. Этим мы утвердим за ним и его действительные (а не вымышленные) права и восстановим его подлинную природу.
Философ. Словом, и овцы целы и волки сыты. Я не знал, что вы такой любитель умеренности и компромисса. «Принять цельно и до конца – или до конца отвергнуть» – ведь это, кажется, ваше правило. Так что умерять и примирять вам как будто не к лицу. И потом, посмотрите, что у вас получается. Разум, присмиревший и трусливо изменяющий себе самому. Разум, льстиво лебезящий перед иррациональным. Разум, с покорностью, ничего не спрашивая, приемлющий и утверждающий все, что ему подскажут чувство или воля (все это, видите ли, приумножает «божественное богатство мира»). Нет, уж лучше отвергнуть его совсем, чем превращать в покорную служанку жизни, т. е. всех и всякого.
Поэт. Во-первых, разум не обязан себе изменять. Он лишь должен отказаться от незаконных притязаний и притом на вполне разумном основании.
Во-вторых, разве не достойнее служить жизни, чем властвовать над умопостигаемыми призраками? Разве, превращаясь из самоцели в средство, разум оказывается умаленным? Наоборот! Ведь пользоваться оружием в бою, ради победы, это не значит унижать оружие. Правда, можно любить его и «бескорыстно» – например, собирать коллекцию оружия. В первом случае оно – лишь средство, во втором – самоцель. И все-таки в праве ли коллекционер обвинять воина в неуважении к оружию?
Итак, простите нам, мудрый хранитель Паноптикума Чистого Разума, простите, что мы собираемся, сорвав этикетки, разобрать по рукам все, что еще годно для дела, для борьбы. А прочее – на слом.
Дама. Итак, поработители живого бытия и безжалостные служители незаконно воцарившегося Разума внезапно превратились в безобидных хранителей паноптикума! Faire des metaphores suivies[39]39
Быть последовательным в выборе метафор (фр.)
[Закрыть] – это правило явно не входит в вашу поэтику… Но дело не в этом. Несмотря на воинственные метафоры, главное мне теперь ясно. Беспокойный разум просто мешает вам мирно жить и беззаботно услаждаться «божественным богатством мира». Он требователен и несговорчив, он обязывает к выбору и строгости, он отказывается безоговорочно принимать все «свидетельства конкретного опыта». А вы, как избалованный ребенок, хотите без разбору лакомиться всем «качественным многообразием». Ну, что ж, лакомьтесь: poetae licet[40]40
Поэту дозволяется (лат.)
[Закрыть]. Только пытайтесь при этом, чтобы оправдать свое сластолюбие, заткнуть рот разуму. Не воображайте, что его «прямая обязанность» потакать вашему произволу. И, главное, не принимайте позу гордого бойца, которая все равно никого обмануть не может. Вам нечего бояться за себя и за ваш пестрый мир – к поэтам разум снисходителен. Но при одном условии: это они должны «отказаться от незаконного притязания»… философствовать.
Поэт. Перестаньте иронизировать, это ровно ничего не выясняет. Будем говорить по существу. Вы сейчас бросили мне тяжелое обвинение, и я должен на него ответить.
Нет, не слабость и не сластолюбие заставляют меня обуздать и ограничить разум, но забота о цельности и единстве моей личности. Я привык смотреть на себя как на крутой, трудный путь к другому, подлинному себе. Находя в себе множество противоречивых сил и возможностей, я вижу в них лишь сырой, неподатливый материал, к которому надо подходить решительно и без жалости. Упорствовать, одолевать, сочетать, ограничивать – и медленно становиться собою! Вот почему я не могу предоставить разум его собственной инерции. Я не могу позволить ему развиваться обособленно в ущерб моей цельности, в ущерб моей живой связи с миром. Он должен утверждать меня в сущем, а не вырывать из него.
Философ. Словом, вы хотите строить свою личность как бы извне, искусственно урезывая и извращая составляющие ее силы. А не думаете ли вы, что только до конца свободный и до конца верный себе разум может войти в подлинное, органическое единство? Неужели вы не чувствуете, что, изменяя себе, он тем самым изменяет и вам? А если вы боитесь, что – свободный – он нарушит вашу цельность, то не дорого же стоит эта цельность, которую надо держать в вате и всячески предохранять от резких толчков. Повторяю, вы стремитесь поуютней приютиться в каком-то укромном уголку и – вопреки вашему пафосу – ничего героического в этом нет.
Подлинная цельность личности – свободная согласованность свободных сил (в том числе и разума). Так думаю я. Но допустим – вместе с вами – что такая согласованность невозможна, что эти раскрепощенные силы вечно будут враждовать между собою. Вы и X. – с вашей же точки зрения – должны только радоваться. Ведь X. только что противопоставлял – не без пафоса – гераклитовский Логос «гладенькому и математически выверенному» Логосу Платона. И вот личность уподобляется этому гераклитовскому логосу. И она: пламенный узел противоборствующих, жадно себя утверждающих и вовеки непримиримых энергий. Так что, я думаю, вам совсем не выгодно усмирять или выводить из строя одну из этих борющихся сил. Наоборот, вы должны, следуя вашей пышной терминологии, «трагически приять и утвердить» разум во всей его мощи и непримиримости. А вы хотите подменить его каким-то угодливым лакеем. Не понимаю, не понимаю.
Поэт. Но позвольте, все те, кто безоговорочно и всецело приняли разум, приходят, кажется, совсем не к «пламенному противоборству вовеки непримиримых энергий». Разум и не думает бороться. Он медленно, исподволь, неуклонно вытравливает, разлагает и усмиряет все другие силы личности. Воцаряется полное спокойствие, где ни одна из «противоборствующих энергий» и пикнуть не смеет. Окаменение, скудость – и образцовый порядок. Вы прекрасно знаете, что этого я и не хочу.
Философ. Слабы же, значит, все другие силы, если разум так легко и так окончательно их усмиряет. Сомнительна также божественность и реальность того пестрого мира, за который вы ратуете: ведь разуму ничего не стоило его развоплотить и подменить, по вашим собственным словам. Все, что я от вас слышал, далеко не к чести ни вам, ни защищаемой вами реальности. Вы собирались бороться с разумом, а, оказалось, просто от него прячетесь, не веря в свою победу… В конце концов, вы прячетесь от себя же самого.
Поэт. Продолжайте, продолжайте. Здесь действительно вскрывается какая-то коренная трудность концепции X.
Философ. И вашей, друг мой, и вашей. Повторяю, разум есть, неоспоримо есть, и властно требует ответа. Победите, если не хотите подчиниться, но не забивайтесь в дальний угол, чтобы предаваться всяким «конкретным постижениям сущего». Боритесь… но бороться с разумом можно только его же оружием. Поясню. Предположим, что перед вами одно из «развоплощенных» положений – ну, скажем, какая-нибудь истина из ненавистной вам космографии. Ваше отношение к ней может быть двояким: либо слепо и просто ее отвергнуть (т. е. спрятаться от нее), либо ее опровергнуть, т. е. бороться с ней оружием разума. Но взяв в руки его оружие, надо следовать и его законам – цельно, неуклонно, до конца. Ибо стоит вам уклониться от этих законов, как оружие в ваших руках превращается в ничто, – и вам проще было бы спрятаться сразу.
Резюмирую. Бороться с разумом можно только подчинившись ему; а раз подчинившись, надо следовать до конца, до последней ясности. Но тогда, с неизбежностью, вы рано или поздно должны будете заподозрить реальность любезного вам мира, «где все единственно и ни к чему не сводимо», – и уж вряд ли вас тогда соблазнит «эротическое узрение сущего», о котором столь красноречиво говорил сегодня наш друг X.
Поэт. Да, все это гораздо сложнее, чем я думал… Вот уж подлинно – nec sine te nec tecum! Как же быть?
Философ. Об этом спросите у X.
X. Что ж, я готов ответить… но только не слишком ли мы утомили нашу милую хозяйку столь глубокомысленным словопрением? (К поэту) Знаете что, предоставим разуму торжествовать… до нашей следующей встречи.








