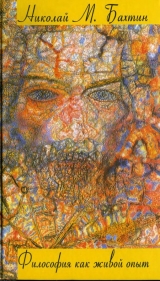
Текст книги "Философия как живой опыт"
Автор книги: Николай Бахтин
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 18 страниц)
Вера и знание
1
Пресловутое противопоставление веры и знания возможно только тогда, когда знание, оторвавшись от целостного духовного опыта, сделалось отвлеченным знанием, а вера, не просвеченная логосом, стала слепо-эмоциональной и темной. Не вера противопоставляется знанию, но лишь умаленная вера – умаленному знанию.
Западная религиозная мысль исходит из этой умаленности, из этого разделения как из факта уже непоправимо совершившегося. Поэтому, противоречие веры и знания преодолевается здесь через их мудрое разграничение, а соотношение обоих начал мыслится как их согласованность – через координацию или субординацию.
Восточное же богословие, в согласии с основным устремлением греческой мудрости, просто не воспринимало веру и знание как два начала, раздельные и разнородные. Поэтому, ему незачем было искать их согласования. Душе дано живое единство целостного религиозного гносиса, в котором вера и знание могут быть различены лишь условно. В этом смысле, восточное богословие – все равно ортодоксальное или еретическое – глубоко гностично.
2
Русская религиозная мысль, причастная – через культ – духу восточного богословия, всегда была отмечена гностическим дерзновением; она не могла и не хотела стать умаленным, теоретическим познанием сущего. Но, вместо того, чтобы непосредственно – сквозь полтора тысячелетия – связать себя с родственной традицией эллино-христианского богопознания, она искала осознать и закрепить себя в чуждых ей формах западной философии, – ломая их, умаляя себя…
Так, не имея силы дорасти до подлинного гносиса и не желая стать просто отвлеченным знанием, она оказалась не то дурной, неопрятной философией, не то трусливым гносисом.
В частности, губительно было для русской мысли – от Хомякова до Вл. Соловьева – влияние германского романтического идеализма. Так, Вл. Соловьев – добросовестный ученик германских идеалистов – все время оттеснял на второй план подлинного Вл. Соловьева-гностика. (Вот почему можно любить Соловьева не за его философию, но как бы сквозь эту философию, порою – наперекор ей). Явление это крайне показательно для русской мысли. Но не менее показательно (особенно в наши дни) другое, противоположное явление: слепое, неоправданное дерзновение, отталкивание от узкой, но по-своему правомерной, западной традиции, – и срыв в бессвязность, в логическую нечленораздельность.
Любопытный пример этого последнего явления – недавняя книга проф. Карсавина[52]52
А. П. Карсавин. О началах. I. Бог и тварный мир. «Обелиск». Берлин, 1925.
[Закрыть].
3
Исследователь внимательный и осторожный, автор двух значительных работ по истории средневековой религиозности, проф. Карсавин, за последние годы, по-видимому, решительно отказался от истории ради религиозной философии. И об этом можно только пожалеть, особенно после выхода его последней книги.
«О началах» – первая часть задуманного автором «Опыта христианской метафизики». Философ ищет целостного богопознания, «где разум и духовный опыт должны друг друга пронизывать»; он решительно отметает скудные подразделения и категории, созданные западной мыслью, и ищет прямого соприкосновения с древней гностической традицией; наконец, он твердо сознает лежащий на нем «долг правдивости и труда, т. е. обязанность выразить испытываемое рационально». Но книгу эту, напряженную и бессвязную, невозможно читать без чувства какого-то почти физического недомогания. Здесь закреплено какое-то очень существенное стремление, которое не может не волновать. Но закреплено оно как-то случайно, до времени, наспех. Безвкусие никогда не бывает только внешним, оно всегда – показатель какой-то глубинной, душевной нечистоты. Захлебывающееся многословие, неряшливость стиля и мысли, невоздержанность в образах – нигде не могут быть оправданы, и менее всего – в религиозном познании, где первое, неустранимое требование – это строгость и чистота.
Проф. Карсавин принадлежит, по-видимому, к тем мыслителям, для которых отказаться от скудной и честной трезвости, – значит потерять единственную опору…
4
Но если книга Карсавина – опыт беспомощный и ненужный, то правомерность самого задания остается в полной силе.
В духовной истории человечества все значительное было создано не теми, кто сознавал себя продолжателями наличной традиции или зачинателями новой, но теми, кто умел связать себя с забытой, утерянной традицией прошлого, минуя, отвергая ближайшее (и это «ближайшее» может насчитывать тысячелетия).
«Всякое подлинное творчество сознает себя не как начало или продолжение, но как возрождение» – так может быть формулирован этот существенный закон. Ритм духовной истории человечества – ритм последовательных возрождений.
Мережковский и история
1
«Когда в самые черные дни большевистского ужаса, в декабре 1918 г., в нетопленных залах петербуржской публичной библиотеки, где замерзали чернила в чернильницах, я просматривал египетские рисунки…, я ничего не понял бы в них, если бы тут же, рядом со мной, не совершался «Апокалипсис наших дней».
Так, через напряженное изживание современности, раскрылся Мережковскому его Египет – «Бесконечная древность и новизна бесконечная».
Таков всегдашний путь Мережковского: прорасти корнями из настоящего, через настоящее – в былое. Все его творчество – медленное прорастание в глубинные и плодоносные пласты Истории: Россия Александра, Павла, Петра; Италия Леонардо; эпоха Апостата; теперь – Эгейская культура, и далее – Египет, Вавилон…[53]53
Тайна трех. Египет и Вавилон. Прага, 1925. Рождение богов. Тутанхамон на Крите. Прага, 1925.
[Закрыть]
Для него познание прошлого – реальное общение в духе и лестница посвящений.
2
Можно «уходить в прошлое», укрываться в нем от настоящего и грядущего; можно через историю искать болезненно-щекочущего ощущения повторяемости – «все это уже было, все повторяется»; наконец, можно скопчески-бесстрастно реконструировать, осмысливать и отвлеченно познавать былое.
По слову Вяч. Иванова, «омертвелая память, утерявшая свою инициативность, не приобщает к посвящениям отцов… Дух не говорит больше с декадентом через своих прежних возвестителей, говорит с ним только душа эпох».
Эти «декаденты» – сентиментальные или учено-трезвые фетишисты былого – конечно, увидят в книгах Мережковского лишь ряд произвольных, необоснованных догадок и неточностей.
«Рождение Богов» и «Тайна трех» – написаны не для них.
3
Но, в самом деле, Египет Мережковского – есть ли это реально бывший Египет, а его Крит – исторический Крит? Наконец, самое понимание истории как «всемирной мистерии-мифа о страдающем Боге» – может ли оно быть оправдано и обосновано? Или все это – «der Herren eigner Geist, in dem die Zeiten sich bespiegeln»[54]54
[А то, что духом времени зовут,] есть дух профессоров и их понятий (нем.; перев. Б. Пастернака).
[Закрыть] – как глумился Фауст?
Более того, все живые приобщения к прошлому – не призрачны ли они? Так: античность Возрождения, античность Гете-Винкельмана, античность Ницше – все эти концепции последовательно, одна за другой, изобличили свою историческую несостоятельность и свою творческую плодотворность и правоту.
Как понять эту двойственность?
4
Всякое осознание былого (равно в плане личном и историческом) роковым образом неадекватно. Есть какая-то коренная недоступность и невыразимость того, что раз совершилось и отошло в прошлое. Память, как Дельфийский Бог, «не скрывает, не открывает, но лишь знаменует». Поэтому, воссоздание прошлого – не обманчиво, конечно, – а символично, условно, по своей природе. Но через символ, через миф, осуществляется реальное прикосновение к живой плоти былого, реально приемлется какая-то сила.
Вот почему подлинное творчество всегда сознает себя как возрождение древней, исконной традиции и кристаллизуется в мифе.
Таково и творчество Мережковского.
5
В основном и существенном Мережковский тот же, каким мы знали и любили его когда-то. Но корни его творчества еще глубже ушли в былое, руководящие мотивы по-новому усложнились, соприкоснувшись с новыми средами.
Было бы ненужным и праздным делом спешно выделять из живого многообразия его книг – их схему, их идейный остов. Быть может, главное обаяние Мережковского последних лет – именно в живом нарастании, переплетении, скрещивании многообразных мотивов и тенденций, по законам какого-то, ему одному свойственного, контрапункта.
Ф. Ф. Зелинский
1
«Association Guillaume Bude», заслуги которой перед французским эллинизмом неизмеримы, подарила нас еще одной прекрасной книгой: это французский перевод «Древнегреческой религии» проф. Ф.Ф.Зелинского[55]55
Th. Zielinski. La Religion de la Grece Antique («Collection d'Etudes Anciennes» publiée sous le patronage de l'Association Guillaume Bude). Paris, 1926.
[Закрыть].
Эта небольшая книга, исполненная ясности и простоты, – одна из тех немногих книг, которые способны равно волновать и знатока-эллиниста и читателя, не посвященного в царственное «искусство медленного чтения» – филологию.
Здесь не упрощенность, не популяризация, но та высокая простота, которую может дать лишь органическая близость, подлинное приобщение к предмету. «С детства стремился я сродниться с народами древности, жить их жизнью, проникнуть в их веру: теперь, после пятидесяти лет этого общения, я хочу рассказать, в чем состояла их религия, рассказать просто, как если бы я был одним из них… Эта книга не продукт чистой эрудиции, но – я позволю себе это утверждать – дело жизни и веры».
2
Многообразны пути, ведущие к живому соприкосновению с античностью. И всякое такое соприкосновение – в плане ли личном или историческом – обогащает безмерно.
Человечество не раз жадно искало этого оплодотворяющего общения в духе, находя его то в греческой философии, то в искусстве. Но одна – и самая существенная – область античного духа до сих пор оставалась для нас недоступной: это религия. А между тем именно из религии, как из некоего центрального очага, исходят все те отдельные лучи, которыми до сих пор светит нам античность.
За философским и эстетическим усвоением нашего древнего наследия нам предстоит религиозное его усвоение: пламенное, напряженное вживание в эллинскую религию. За первым и вторым возрождением должно последовать третье, за романским и германским – славянское…
Величайший из эллинистов наших дней, автор многочисленных исследований, ставших классическими, Ф. Ф. Зелинский – не только ученый.
Он прежде всего – провозвестник и сподвижник грядущего «Третьего возрождения».
3
Славянское возрождение… Еще недавно, оно казалось таким близким. Теперь все, чего мы ждали тогда, как будто вновь отодвинулось куда-то вдаль. Или, может быть, то, что произошло, только по-новому утвердило и оправдало наши былые надежды? Может быть, нужно было, чтобы чудовищный сдвиг вдруг обнажил перед нами глубочайшие, забытые пласты бытия; чтобы страшная «мудрость Силена» стала нашею мудростью: «мудрость Силена» – корень трагического познания и радостного приятия Рока.
Может быть, именно теперь, когда мировая история вдруг просквозила улыбкою Мойры, мы почувствуем в себе силу, чтобы целостно понять и принять наше исконное, родное, древнее наследие – религию Эллинства.
4
«Древнегреческая религия» Ф. Ф. Зелинского – подлинно «дело жизни и веры». Наряду с другими его книгами, обращенными к широкому кругу читателей (4 книги статей, «История эллинской культуры», «Религия Эллинизма»), ей суждено будет сыграть определяющую роль в подготовке нового возрождения.
Но самый драгоценный дар Ф.Ф.Зелинского славянскому возрождению и русской культуре – это его перевод Софокла, снабженный совершенно исключительными вводными статьями: труд, равного которому не имеет ни одна из европейских литератур. (Вообще нам выпало на долю редкое счастье: три трагика переведены на русский язык тремя родственными им по духу поэтами-эллинистами: Софокл Зелинского, Еврипид Анненского и Эсхил Вяч. Иванова, – увы, до сих пор не увидевший света).
Но влияние Ф.Ф.Зелинского не исчерпывается его книгами. Он воспитал не одно поколение петербургских эллинистов.
И те, кому приходилось работать под его руководством, навсегда сохранят о нем память как об «учителе», в подлинном и глубоком смысле этого слова.
И эта плодотворная деятельность продолжается ныне в стенах Варшавского университета во имя все того же грядущего Возрождения.
Константин Леонтьев
1
Появление прекрасной книги Н. А. Бердяева о К. Леонтьеве[56]56
Н. Бердяев. Константин Леонтьев. Очерк из истории русской религиозной мысли. Y.M.C.A. Press. Paris, 1926.
[Закрыть] – в высокой степени своевременно. Я не знаю мыслителя более «современного», более насущно-нужного нам теперь, чем Константин Леонтьев.
Леонтьев, – старший современник Ницше (о котором он и не знал), – сумел по-своему дорасти до того «трагического постижения жизни», которое – впервые после двухтысячелетнего забвения – раскрыл нам энгадинский отшельник.
Человек поверхностной, неглубокой культуры (медик по образованию), Леонтьев первый до конца уяснил себе страшный смысл «вторичного уравнительного смешения», овладевшего Европой с 18-го века. То, что мы начинаем понимать лишь теперь, после всего, что произошло, – Леонтьев уже более полувека тому назад знал осязательно – до боли, до конкретного предвидения.
Бердяев – человек определенной доктрины, в Леонтьеве он ищет ответа на свои, определенные вопросы. И это, конечно, единственно правомерный подход. (Так называемая «объективность» есть лишь благовидный способ ничего не видеть и ничего не понимать).
Однако можно прийти к Леонтьеву совсем иным путем, искать и любить в нем совсем иное, и все-таки книга Бердяева сохранит всю свою ценность.
В ней есть нечто иное и лучшее, чем мертвая объективность: живое, любовно-требовательное общение с мыслителем.
2
Основной пафос Леонтьева – это страстное утверждение жизни со всеми ее противоречиями и противоположностями.
Он понял, что жизнь, в самом своем существе, есть непримиримость и борьба, – и потому не может, не должна быть оправдана или осмыслена, но лишь трагически принята и утверждена.
Леонтьев знал, что власть единой истины, единой нравственной нормы в условиях земного «феноменального» бытия – есть, в каком-то смысле, подмена и кощунство. «Единой правды на земле не было, нет, не будет и не должно быть; при человеческой правде люди забудут божественную истину».
Например, Леонтьев утверждает одинаковую правоту Антигоны и Креонта: именно в непримиримом утверждении двух противоположных правд, в их борьбе, в неизбежной катастрофе осуществляется высшая истина; согласие, примирение, торжество одной правды – было бы подменой и ложью.
«Верно только одно, – одно точно, одно несомненно, – что все здание должно погибнуть!»
Таков корень пресловутого леонтьевского «эстетизма»: это древняя «мудрость Силена», мудрость античной трагедии —
3
И как непосредственный вывод из этой мудрости Силена – радостное приятие жизни со всей ее трагической безысходностью:
«Я полюбил жизнь со всеми ее противоречиями, непремиримыми навек, и стал считать почти священнодействием мое страстное участие в этой драме земного бытия, которой глубокий смысл мне казался невыразимо таинственным и мистически неразгаданным».
Леонтьевская концепция жизни – не плоский «эстетизм», но то, что Ницше назвал «amor fati»[58]58
Любовь к судьбе (лат.)
[Закрыть].
4
Когда Леонтьев говорит: «нет ничего безусловно нравственного, все нравственно или безнравственно только в эстетическом смысле», то это может показаться элементарным аморализмом эстетического пошиба. Но это не так: мы видели трагическую основу этого «эстетизма».
Поверхностная эстетическая окраска здесь вполне естественна. Эстетика – единственная область, где еще не восторжествовала абсолютная, всеисключающая оценка. Поэтому часто принимает эстетический оттенок та мораль, которая отвергает единую и абсолютную норму как кощунственную попытку выдать (по терминологии Леонтьева) «земную правду» (неизбежно условную, множественную) за «божественную истину» (единую и всеисключающую).
Леонтьев отвергает поддельное единство «абсолютной морали». Его мораль – мораль страстного и трагического изживания неискоренимых противоречий «феноменального» бытия.
5
Так становится понятным отвращение Леонтьева ко всякой попытке поверхностно примирить и сгладить извечные противоречия, его ненависть к смешению, упрощению, оптимизму – в плане моральном и в плане истории. Здесь основа его замечательной «философии культуры».
Его отношение к культуре и истории, это: «мужественное смирение, которое говорит: колебания горести и боли – вот единственно возможная на земле гармония». В истории, как и в личной жизни, возможно лишь одно осуществление «божественной истины»: напряженное, трагическое изживание неискоренимых противоречий. А это возможно только, когда история «богата и разнообразна борьбою сил божественных с силами страстно-эстетическими». История живет «разнообразием, антагонизмом и борьбой; она в этом антагонизме обретает единство и гармонию, а не в плоском унисоне».
Отсюда учение о «трех периодах» в развитии всякой культуры: 1) «первичной простоты», 2) «цветущей сложности» и 3) «вторичного, смесительного упрощения».
Леонтьев явственно видел, что Европа с 18-го века решительно вступила в период разложения, «смесительного, уравнивающего упрощения»; он мечтал противопоставить Европе крепкую своим византизмом Россию. Но сам он вскоре понял всю тщетность своих надежд.
«Русское общество… помчится еще быстрее всякого другого по смертоносному пути всесмешения».
Так писал Леонтьев за тридцать пять лет до наших дней. Но я не могу подробнее остановиться здесь на этой «философии культуры», исключительной по глубине и оригинальности. О ней читатель найдет ряд прекрасных страниц в книге Н. Бердяева.
Шпенглер и Франция
1
Передо мною только что вышедшая книга проф. Фоконнэ «Oswald Spengler (le prophete du Declin de l'Occident)».
Если не считать двух-трех мало интересных журнальных статей, – это первая французская работа о Шпенглере. Надо отдать справедливость проф. Фоконнэ: эта небольшая книга написана с редкой отчетливостью и полнотой и с еще более редким беспристрастием к тому мыслителю, которого до сих пор во Франции знали (понаслышке, конечно) лишь как «un pangermaniste assez pueril et brutal»[59]59
Весьма ребячливый и грубый пангерманист (фр.)
[Закрыть] (E. Vermeil).
Мало того, Фоконнэ удалось даже осветить по-новому один существенный момент в развитии шпенглеровской концепции, а именно: он очень убедительно вскрывает все основные черты этой концепции уже в юношеской, малоизвестной работе Шпенглера о Гераклите (факт, насколько мне известно, в шпенглерианской литературе должным образом еще не отмеченный).
Но не о книге Фоконнэ и не о самом Шпенглере хочу я говорить. Меня интересует здесь явление гораздо более общего порядка.
Чем объяснить, что признанный (по праву или нет – это другой вопрос) «властитель дум» современной Европы, мыслитель, пытающийся разрешать самые насущные вопросы нашей культуры, автор книги, вызвавшей целую литературу, – что этот мыслитель до сих пор остался совершенно неизвестным и чуждым во Франции?
Только ли пресловутый «пангерманизм» и «прусская идеология» тому причиной?
2
На первый взгляд кажется совершенно непонятной какая-то странная неосведомленность Франции в чужих идеях. Это даже не простая неосведомленность, но какое-то упрямое нежелание видеть и знать, прямой отказ считаться с тем, что в данный момент волнует всю остальную Европу.
Чужие идеи проникают во Францию всегда с запозданием, в тот момент, когда они уже потеряли всю остроту у себя на родине. Воспринимаются они обыкновенно в форме крайне упрощенной, производят короткий, поверхностный «шум» и, не оказав никакого существенного воздействия, вскоре забываются. Это происходит и с великим и с малым: от Ницше до недавно «открытого» здесь Фрейда. Имя Гуссерля во Франции только что узнали из недавней статьи Л. И. Шестова в «Revue Philosophique», Макса Шелера до сих пор никто не знает, а о Шпенглере что-то слышали смутно, как о вредном пангерманисте…
Словом, интеллектуальные моды Европы Франция считает для себя необязательными.
3
Повторяю, это совсем не простая «неосведомленность». В этой «труднопроницаемости» французской культуры, в этом нежелании и неумении ассимилировать даже самые значительные, но слишком общие, чужие, извне пришедшие идеи, есть какая-то инстинктивная, мудрая осторожность, подсказанная чувством духовного самосохранения. Это совершенная противоположность той неразборчивой жадности ко всему чужому, новому, огромному, потрясающему, которая характеризует Германию.
Конечно, Германия самая «осведомленная» и незамкнутая из современных европейских культур. Но она купила это ценою полной, внешней и внутренней, бесстильности; это было возможно для нее лишь благодаря полному отсутствию вкуса, отбора, концентрации. В наши дни широта – «планетарный масштаб» духовной жизни – неизбежно приводит к бесстильности и сумбуру. Пока у Европы нет единой истины, – невозможен и единый духовный общеевропейский стиль. Возможна лишь общеевропейская бесстильность, разнуздание духа. Поэтому, в условиях современности, должно быть до конца оправдано мудрое оберегание своих границ, своей замкнутости, своего частичного, «провинциального» единства – хотя бы ценою слепоты к чужому.
Франция, несмотря ни на что, все еще не захотела зажить «в планетарном масштабе»; Франция сумела остаться, – в существенном и основном – пленительно провинциальной. И в этом ее ни с чем не сравнимое обаяние.
Но надолго ли?..
4
И еще: во Франции не до конца восторжествовал современный чисто количественный критерий величия (безраздельно, хотя совсем по-разному, царящий в Германии и Америке). Здесь еще жив наш исконно европейский, эллинский, качественный критерий. Вот почему французской культуре еще чуждо варварское преклонение перед грандиозным, обоготворение огромного в пространственном или временном смысле. (Есть, конечно, разительные исключения, напр., Гюго, но я говорю лишь о существенной тенденции).
А Шпенглер как раз наиболее резкий и последовательный выразитель именно такой концепции величия. Пафос грандиозного – вот основной пафос его книг, делающий их неотразимыми для современников. «Жажда безмерного» – в этом, по Шпенглеру, и заключается сущность новой «фаустовской» души Европы. Не метод, конечно, и даже не содержание его доктрины пленяет нас прежде всего, но именно беспримерный размах его философствованья. Грандиозный масштаб, головокружительные перспективы, игра тысячелетиями, культурами, народами, символами…
«Забава для варваров и рабов», – сказал бы эллин. Недаром Шпенглер ненавидит Элладу какой-то тупой, прусской, «фаустовской» (в его смысле) ненавистью.
Будем надеяться, что не случайно Шпенглер до сих пор оставался (а, Бог даст, и вперед останется) чуждым и непонятным для Франции.








