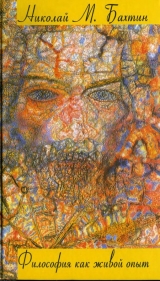
Текст книги "Философия как живой опыт"
Автор книги: Николай Бахтин
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)
Послесловие и комментарии
Николай Михайлович Бахтин. Обычно это имя упоминается в биографиях Михаила Михайловича Бахтина: старший брат (разница в возрасте в один год), в обществе которого знаменитый мыслитель-филолог провел детские и юношеские годы. Из более редких источников можно узнать, что Николай Бахтин был доктором филологии, преподававшим в Бирмингеме, исключительно талантливым лектором. Николай Бахтин как философ, как эссеист, как одна из интереснейших фигур в культурной жизни русской эмиграции первой волны до сих пор остается величиной почти неизвестной. А между тем один из ведущих критиков русского зарубежья Георгий Адамович, – соратник Бахтина по «Звену» и, одновременно, во всем, что касалось поэзии и современной культуры, его «идеологический» противник, – писал:
«Это был один из самых даровитых людей, которых приходилось мне в жизни встречать», – и чуть далее: «В этом человеке были проблески гениальности».
Друг юности, Михаил Иосифович Лопатто в своей оценке был еще решительнее:
«Бахтин относится к тем умам, которые ищут всю жизнь, не останавливаются ни на одном открытии, не пытаются развивать идеи и не удовлетворены собой. Они стеснительны, не приемлют публичный успех. В то время как другие пожинают плоды своих открытий, такие умы, как Бахтин, не оставляют имени, они оставляют рассеянные повсюду откровения.
Гении – это провозвестники, а свершители следуют за ними. Случаи гениальных свершителей очень редки и бывают в результате счастливого стечения обстоятельств. Наша эпоха, кажется, бедна на новые идеи, но множество зерен брошено в почву человеческого ума, и придет день, когда они созреют. Может быть, какой-нибудь щедрый ум вспомнит тогда о бедных рыцарях Духа, затерявшихся в буре, вспомнит и того, кто всеми силами своего гениального ума стремился проникнуть в тайны рождения Слова» (цит. по: Эджертон В. Ю. Г. Оксман, М. И. Лопатто, Н. М. Бахтин и вопрос о книгоиздательстве «Омфалос». – в сб.: Пятые тыняновские чтения, Рига, «Зинатне», с. 236–237).
* * *
Вехи биографии Николая Михайловича Бахтина поначалу во многом совпадают с биографией младшего брата: родился в Орле (по старому стилю – 20 марта 1894-го, на один год раньше Михаила), учился в виленской гимназии, поступил в Одесский университет на историко-филологический факультет, перевелся в Петербургский. Здесь его и застигла первая мировая война, не давшая завершить образование. Николай Бахтин поступает в кавалерийское училище, заканчивает его к началу февральской революции. Далее – как у многих: белая армия, эмиграция. Он плавает матросом на кораблях по Средиземному морю, потом вербуется на пять лет в Иностранный легион.
Ему не удалось прослужить весь пятилетний срок: тяжелое ранение, едва не лишившее его руки, госпиталь… С лета 1924 года начинается его сотрудничество с еженедельником «Звено».
К тридцати годам за его плечами была не только богатая событиями биография. С гимназических лет в нем жил подлинный интерес к поэтическому слову, были и собственные поэтические опыты. Судя по крайне скудным источникам (свидетельство друга юности М. И. Лопатто и выступления самого Бахтина), общая направленность поэтического творчества Бахтина заметно расходилась с устремлениями существующих направлений в русской поэзии, что диктовало его пристальный интерес к проблемам теории стиха и к некоторым вопросам самого способа существования поэзии. Он видел, что его стихи не найдут своего читателя, но с тем большим вниманием относился к работам по теории стиха. Первые статьи Бахтина в «Звене» – о поэзии.
Была среди ранних публикаций и еще одна: «Военный монастырь» – попытка человека, прошедшего службу в Иностранном легионе, увидеть это своеобразное военное сообщество как некое культурное целое со своими традициями, своими нормами поведения и неповторимым стилем жизни, где каждая минута наполнена риском, где ситуация выбора, волевого решения – обычна и естественна.
Легион воспитал его ум. И в поэзии, и в философии Н. Бахтина всегда привлекает не совершенство формы, не стройность и завершенность системы, но то, что толкает к действию. И стихотворение, и философия должны адресоваться не к «читателю», не к «мыслителю», но к человеку. Можно говорить о «ницшеанстве», «кантианстве» или «язычестве» Бахтина. Но его прежде всего интересует не сама доктрина, а способность ее стать частью жизни.
Сохранился шутливый словесный портрет Николая Бахтина этого времени, написанный Мочульским от лица самого еженедельника «Звено»: «с осени я уже стал брать уроки философии, у одного отставного унтера и легионера, он очень сердитый, и не любит большевиков и Марселя Пруста. Но если об этих предметах не заговаривать, тогда с ним очень интересно»
(Автобиография «Звена». – «Звено» № ИЗ от 30 мая 1925). За этими строчками проглядывает и некоторая «нелюдимость» Бахтина, его духовное одиночество в среде русской эмиграции, и, в то же время, его оригинальность как мыслителя и как человека. В «Звене» он ведет постоянную рубрику «Из жизни идей», но выступает, при этом, не только в качестве философа. Как и младший брат, он все время – на границе филологии, психологии и философии.
К 1926 году жанры эссе, статьи, рецензии становятся тесны Бахтину. На страницах «Звена» появляются его диалоги и «разговоры»: «О современности», «Похвала смерти», «О созерцании»… Но кульминацией его творческой деятельности в эмиграции стало то «живое», действенное слово, к которому он всегда стремился, – четыре лекции на тему «Современность и наследие эллинства», прочитанные в феврале-марте 1927 года. «Нельзя этих лекций забыть, – вспоминал Г. Адамович. – Среди слушателей Бахтина были люди, носящие самые славные в нашей эмиграции имена, – и я мог бы на их свидетельства сослаться: нельзя этих лекций забыть, соглашаются и они» (Г. Адамович. Памяти необыкновенного человека. – «Новое Русское слово» № 14030 от 24 сент. 1950 г.). Впрочем, не менее значительны и последние эссе Бахтина, написанные на русском языке.
В 1932 году Н.Бахтин «уходит» из русского зарубежья, переселяется в Англию, где начинается новая страница в жизни ученого. Близкий друг Витгенштейна (с которым он совершенно расходится во взглядах), доктор филологии Николай Бахтин умер в Бирмингеме в 1950-м. Его творчество «английского» периода – лекции и эссе» – было собрано в книге: Nicholas Bachtin. Lectures and Essays. – Birmingham, 1963.
«Как преподаватель и учитель он был бесподобен, – писала о Бахтине его английская знакомая Фанни Паскаль. – Внутренне он испытывал колоссальную трудность при записи своих идей, и мне не известна ни одна законченная его работа, кроме тех, которые вошли в посмертный том, изданный профессором Остином Дункан-Джонсом…» (цит. по: Грибанов А. Б. Н. М. Бахтин в начале 30-х годов. (К творческой биографии). – в сб.: Шестые тыняновские чтения, Рига – Москва, 1992, с. 260).
В этих воспоминаниях четко схвачены черты человека, который некогда на цикл лекций, рассчитанных на небольшую аудиторию, собрал невероятное число слушателей, «привлеченных, – как писалось в газетном отчете, – мастерским изложением интересного и трудного предмета и блестящим ораторским талантом лектора», и который, в то же время, оставил не так уж много письменных свидетельств своего крайне оригинального, «неожиданного» ума.
Похоже, обычные слова были тесны для него, к тому же как литератор Николай Бахтин обладал коротким дыханием: несколько статей, эссе, диалогов и – отклики на книги других авторов. Все это, собранное вместе, дает портрет доселе неизвестного русского мыслителя, мыслителя дерзкого и «несвоевременного». Ни в своем отношении к искусству слова, ни в анализе состояния современного ему мира идей он не желал «шагать в ногу» со временем. Он отстаивал величие эллинской «звучащей» поэзии и отворачивался от современной ему «письменной», призывал перечитывать Ницше, когда современникам казалось, что они «преодолели» его, ценил слово неуравновешенное, волевое и презирал дряблую эклектику. В «расслабленной» идейной атмосфере 30-х его твердое самостояние раздражало, казалось вызывающим. Но именно несвоевременные мыслители часто оказываются нужными для тех, кто приходит после.
* * *
Большая часть произведений Николая Михайловича Бахтина печаталась в парижском еженедельнике (с середины 1927 года – ежемесячнике) «Звено». Сотрудничество началось с публикации 23 июня 1924 года отклика Бахтина на вышедшие книги В. Жирмунского и Б. Томашевского по стихосложению (см. примеч. к «Письмам о слове») и продолжалось до самого закрытия журнала, после чего Бахтин опубликовал в русской эмигрантской периодике только два эссе: «Антиномия культуры» и «Разложение личности и внутренняя жизнь».
Настоящее издание включает работы, написанные на русском языке в 1924–1931 годы. Составитель позволил себе выделить эссе «Современность и фанатизм» из серии статей Н. Бахтина, выходивших под рубрикой «Из жизни идей» и поместить ее в самом начале книги, поскольку, в отличие от других работ этого цикла, она не содержит в себе ссылок на книги или учения современных Бахтину мыслителей и ставит ключевую для Бахтина проблему, к решению которой он подходит, прямо или косвенно, в каждой из своих работ. Вместе с тем в раздел «Из жизни идей» помещены некоторые статьи, опубликованные вне этой рубрики, но по тону и по основному признаку (статья «по поводу») целиком примыкающие к ней.
В написании имен и терминов, как правило, сохраняется транскрипция Н. Бахтина (например, «Брадли» вместо «Бредли» или «схизомания» вместо «шизомания»). Все тексты даются по первой публикации (см. библиографию).
Составитель выражает особую признательность О. Коростелеву за помощь в поисках некоторых текстов.
Статьи и эссе
Военный монастырь. Статья написана по личным впечатлениям Н.Бахтина от службы в Иностранном легионе (см. также диалог «Об оптимизме»).
Письма о слове. 1. О произносимом слове. Во время учебы в Петербургском Университете Бахтин входил в малоизвестную ныне поэтическую группу, творчество участников которой ограничивалось, главным образом, пародиями на известные в то время течения и поэтические имена. Часть поэтических опытов участников группы увидела свет в созданном ими издательстве «Омфалос» (подробности см.: Эджертон…, с. 218–225). В 1925 году Бахтин публикует рецензию на сборник Георгия Венуса «Полустанок» (Берлин, 1925), которая дает представление об отношении автора рецензии к самой поэтической «атмосфере» этих лет: «Читая стихи Георгия Венуса, даже возмутиться не хочется. Если образы вульгарны, ритмы расхлябаны, а почти все рифмы с отжеванными концами, то это – просто привычная, почти общеобязательная ныне нечистоплотность, которой наш поэт, может быть, и сам не замечает. Сказать: «Когда года нахлынули на скулы, Как лед Невы весной на острова» – это теперь так же общепринято, как когда-то: «Пылает страсть в груди моей». Это выходит само собой, автор тут ровно не причем. «Георгий Венус» – это имя почти собирательное: таких теперь сотни. Писать иначе – это уже оригинальничанье, а наш поэт, видимо, человек скромный и непритязательный. Редко, очень редко, удается поэту достигнуть какой-то собранности и дешевой, но крепкой выразительности (напр., последнее стихотворение книжки). В общем же все стихи сборника сливаются в одну нерасчлененную словесную массу. Хорошо сам поэт определил свое творчество: «Как боль зубная нудные слова» («Звено» № 123 от 8 июня 1925 г.).
Письма о слове. 2. О формальном методе. О том, что «формальный метод», давая много ценного, в то же время не способен дать эстетической оценки произведения, писал на страницах «Звена» и К. Мочульский (см. его статью «Брюсов и о Брюсове» в первом номере «Звена» за 1923 год). Но если для последнего поэты-акмеисты были «неоклассицистами», то Бахтин в понятие «классического» вкладывал, как видно из предыдущего «письма», совершенно иное. Вопрос о возможных путях развития поэзии и вопросы русского стихосложения, разработкой которых занимались русские формалисты, были для Бахтина связаны самым непосредственным образом. В своем отклике («О русском стихосложении») на работу Б. Томашевского «Русское стихосложение. Метрика» и работу В. Жирмунского «Рифма, ее история и теория» (обе вышли в Петербурге в 1923 г.) Бахтин писал: «Порою в словесном творчестве слабеет тяготение к строю, к твердому отчетливому закреплению, и тогда сокровеннейшие ткани стиха, доселе неразличимые в единстве целостной формы, уродливо обнажаются, становятся доступны любопытству всякого. Такие эпохи – раздолье для прагматиков, теоретиков и классификаторов, и мы видим, что никогда в России не занимались так много теорией словесного творчества, как в наши дни. Только теперь вопрос о стихе, из области догматических утверждений поэтов о своем ремесле, вступил в строго научную фазу и стал, наконец, достоянием кропотливых исследований» («Звено» № 73 от 23 июня 1924 г.). Высоко оценив обе работы и особенно – Жирмунского, Бахтин, тем не менее, делает свои выводы: «В общем, книги Жирмунского едва ли не значительнейшее из всего, что появилось о стихосложении в России за последние 12 лет. Релятивизм его, условно, как метод, вполне правомерен: результаты говорят сами за себя. Но пусть Жирмунский вскрыл длительный и непрерывный процесс там, где мы видели (и продолжаем видеть) внезапную катастрофу, пусть «русская рифма дает нам любопытный пример совершающегося на протяжении двух столетий непрерывного процесса деканонизации точной рифмы»: с этим спорить не приходится, и своевременность такого рода исследований не подлежит сомнению. Однако, мы не должны упускать из виду, что все это лишь необходимая предварительная ступень к будущей строго нормативной теории, которой надлежит построить иерархическую систему форм и приемов словесного творчества и установить критерии оценки и уяснения отдельных явлений. Тогда то, в чем Жирмунский условно видит непрерывное «становление без становящегося», раскроется нам как процесс высвобождения или затемнения тех исконно нам заданных форм, что, по Гете, так же цельны, неделимы и самодовлеющи, как формы органические. И, в конечном счете, исследователю явлений эстетического порядка надлежит, – и по праву, и по обязанности, – не только устанавливать и распределять по рубрикам, но утверждать, оценивать и судить» (там же).
Весьма высоко оценивая специальные, узконаправленные работы русских формалистов и около-формалистов (см. также его рецензию на альманах «Литературная мысль» (Кн. 11. Петербург, 1923), Бахтин иначе оценивал работы с претензией на широкие обобщения. Так он с предельной резкостью отозвался о сборнике Б. Эйхенбаума «Сквозь литературу» (Петроград, 1924), где автор пытается связать эстетику «с гносеологией и онтологией», и в результате – «ограничивается общепринятым историко-литературным переливанием из пустого в порожнее и туманными общими местами» («Звено» № 83 от 1 сентября 1925 г.). Заключительная часть рецензии содержит и некоторый обобщающий вывод: «формальный метод требует, прежде всего, узкой, но вполне определенной постановки проблем и тщательного обоснования высказываемых положений (в этом и его ограниченность, и его сила)» (там же).
Ницше. О влиянии Ницше на Н. Бахтина говорили многие. Быть может, наиболее точно выразил позицию Бахтина в этом вопросе Г. Адамович в своем отклике на завершившиеся в марте 1927 года его лекции «Современность и наследие эллинства»: «Оригинальность Бахтина в том, что он отважился Ницше продолжать, в то время, как до сих пор все только и делали, что его «преодолевали»…» («Звено» № 215 от 13 марта 1927 г.). Сам Бахтин в критической статье «Новая немецкая философия» (подп. псевдонимом «Н. Боратов») мимоходом отметил то, что считал наиболее важным у немецкого мыслителя: «Ницше философ культуры и религиозный философ – вот каким видит его современность» («Звено» № 200 от 28 ноября 1926 г.). Продолжением данной работы стало эссе «Ницше и музыка».
Пути поэзии. Критическое отношение Николая Бахтина к состоянию современной ему поэзии выразилось не только в статьях и рецензиях (см. прим. к «Письма о слове. 1. О произносимом слове»). Сохранился отчет о беседе в редакции «Звена», состоявшейся 18 марта 1926 года, посвященной оценке и выяснению значения литературного движения последних 30–35 лет (т. е. «символизму», «модернизму», «декадентству» и пр.), опубликованный в «Звене» № 166 от 4 апреля 1926 г.:
«Докладчиком выступил Н. М. Бахтин. В общих чертах, основные положения его доклада сводились к следующему: Символизм был движением, стремившимся вывести русскую поэзию из того оскудения и застоя, в котором она находилась во второй половине прошлого века, когда величайшие русские духовные силы были обращены к роману. Символизм тяготел к поэтической форме словесного творчества как наиболее цельной и свободной. Он пытался вернуть поэзии ее истинное, забытое в наши дни, значение силы движущей и устрояющей. От французского эстетического символизма символизм русский независим. Два наиболее совершенные поэта символической школы, Ин. Анненский и Ф.Сологуб, внутренне глубоко чужды движению. Символизм стремился не к уединению или замкнутости в прекрасном, но к овладению всей духовной культурой эпохи. В вечном споре поэта и черни символизм признал правоту черни. Словесные эксперименты символистов, их теоретическое любопытство вызвано желанием вернуть слову его былую силу. Наиболее характерным деятелем русского символизма следует признать Андрея Белого: в Белом отражены и искажены все заветы движения. Единственное художественное достижение символизма – поэма Александра Блока «Двенадцать». Но дух и суть этой поэмы лишний раз подтверждает, что в условиях современной культуры цели символизма неосуществимы. На смену символизму пришел трезвый эстетизм и разнузданный футуризм. Футуризм унаследовал от символизма его жажду всенародности, но он ее исказил. Теперь поэтам остается или продолжать заниматься изготовлением поэтических пустячков, приятных и беспомощных безделушек, или, оставив стихи, обратиться к работе над перестроением всей современной культуры.
В завязавшейся после доклада беседе приняли участие Г. В. Адамович, И. А. Бунин, З. Н. Гиппиус, Д. С. Мережковский, К. В. Мочульский и В. Ф. Ходасевич, причем наметилось несколько тенденций. Одна из них, исходя из мысли, что докладчик правильно оценил сущность и устремления символизма, подтверждала, что действительно, символизм хотел преобразить мир. Не его вина, если ему это не удалось. Символизм оказался похожим на вызывателя духов, который сам затем не в силах их укротить. Час торжества идей и чаяний символизма еще не настал. Это торжество придет тогда, когда в русской литературе Достоевский одержит верх над Львом Толстым. Согласно другому из высказанных суждений, поэзия никогда не руководила жизнью и руководить ею не может. Ни Эсхил, ни Данте, на которых ссылался докладчик, истории не изменили. Их роль уже и глубже. Уклад практической жизни был поэзии всегда враждебен. Никогда между общественным бытом и поэзией сочувствия не было. Если бы поэзия оказалась в центре жизни, как ее руководительница, все обычные жизненные начала и принципы были бы уничтожены. Но жизнь сильней искусства и никогда ему власти над собой не давала и не дает. Наконец, третье мнение сводилось к тому, что символизма, как единого поэтического движения, не существует. То же применимо и к романтизму, и к классицизму, и к футуризму: все это лишь школьные ярлыки, едва ли в достаточной мере оправданные. Существуют в действительности лишь отдельные творцы, мало чем между собой связанные, иногда вполне друг от друга независимые. Среди так называемых «символистов» было несколько замечательных поэтов. Этим роль и заслуги символизма исчерпываются. В заключительном слове Н. М. Бахтин высказал предположение, что почти все возражения резко выражают именно то состояние цивилизации, против которого он в своем докладе восстал, и что поэтому примирение его с большинством оппонентов по существу невозможно».
Среди возражавших Н.Бахтину отчетливо улавливаются голоса: 1) З. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковского, 2) Г. Адамовича и 3) К. Мочульского. Этот спор имел продолжение. 4 июня 1927 года на очередном заседании «Зеленой лампы» (отчеты о заседаниях публиковались в журнале «Новый корабль» и потом были перепечатаны Ю. Терапиано в двух книгах своих воспоминаний) с докладом «Есть ли цель у поэзии?» выступил Г. Адамович. Основной тон доклада выразился в следующих словах: «Единственно, что может объяснить существование поэзии – это ощущение неполноты жизни, ощущение, что в жизни чего-то не хватает, что в ней какая-то трещина. И дело поэзии, ее единственное дело, – эту неполноту заполнить, утолить человеческую душу. Если поэзия этого не делает, не отвлекает человека от жизни, не утоляет его, то, скажу прямо, – это поэзия не настоящая» (печ. по: Ю.Терапиано. Встречи. Нью-Йорк, Изд-во имени Чехова, с. 67–68). В обсуждении доклада приняли участие Н.М.Бахтин, В.В.Вейдле, З.Н.Гиппиус, Д.С.Мережковский, М.Цетлин. Стенограмма речи Н.Бахтина приводится ниже. «Г.В.Адамович очень определенно ответил на вопрос, есть ли у поэзии цель? Нет, и не может быть, по крайней мере, у хорошей поэзии. Почему? Потому ли, что поэзия нечто большее, чем целесообразность, не исчерпывается целесообразностью, но отказывается равняться по целям? Или наоборот, просто потому, что поэзия боится цели, что она не в силах дорасти до действия? Г.В.Адамович явно склоняется ко второму решению и в этом видит главное обаяние и величие поэзии. Дальше оказывается, что поэзия крайне опасна и даже разрушительна. Ведь не потому же, что она хочет разрушать, что ей ненавистен всякий порядок? Ибо в таком случае у нее была бы очень определенная цель, а это докладчик отрицает. Разрушительность поэзии это не цель, но неизбежное следствие. Она вредна, как вреден любой наркотик: потому что дает людям дешевую возможность уходить в нирвану. Таким образом, по Г.В. читать поэта то же, что нюхать кокаин: чувство недоступной нормальному сознанию гармонии и полноты. А потом: неизбежное протрезвление и отвращение к бытию. Собственно говоря, докладчик исходит из общепризнанного представления о поэзии и только ставит точки над и. Поэзия, как принято говорить, утешает, – это бесплодное созерцание, тупик, из которого нет выхода к действию. Подламывающая волю, возвышающая над жизнью, точнее, отрывающая от жизни, просветляющая душу на краткое мгновение, из-за которого приходится горько расплачиваться. Как вывод: будем опьяняться, ибо это очень приятно, но будем знать, что ничего хорошего из этого опьянения не выйдет. Эта апология поэзии как духовного наркоза была бы совершенно неопровержима, если бы поэзия действительно была только созерцанием, пассивным и приятным состоянием. Но так ли это? Ведь по прямому смыслу слова поэзии – действие, даже действие по преимуществу – «ποιησις». – В самом деле, весь аппарат стиха с его нарастающей повторностью ритма есть аппарат магический. Стихотворение, из которого должно быть исключено все кроме необходимого, в котором каждое слово должно быть действенным, – есть как бы заклинательная формула, вызывающая в мир некие силы, носитель энергии, непрерывно излучающейся в жизнь. Стихотворение может быть прочтено и забыто. Но, если оно было подлинно воспринято, его действие продолжается; оно медленно воздействует на душу восприявшего, перерождает его личность. Человек, который долго не читал Пушкина, и даже забыл его, все-таки был бы совершенно иным, если бы никогда его не читал. Таким образом, поэзия не есть момент, не есть пассивное состояние, в которое можно уходить с головой, как в наркоз, а живая сила. Но если сила, то благотворная или губительная? Так мы подходим к исходному вопросу: есть ли у поэзии цель? Посмотрим, так ли это. Да, всякое действие ставит себе твердую и определенную цель. Более того, тот, кто действует, должен быть слеп ко всему тому, что не его дело. Все это так. Тем не менее только ничтожное действие исчерпывается целью, всякое подлинное, значительное действие перерастает цель, отрывается от действующего, становится независимым от него и порою грозно и неумолимо обращается против него же самого; оно живет своей жизнью, развивается по своим законам или по своему беззаконию. Так же и творчество. Только тот, кто делает мертвую куклу, может быть уверен, что она до конца останется такой, какой он ее сделает. Кто создает живое, тот должен сознавать, что рано или поздно он будет не в силах связать его своим заданием, потеряет власть над ним. Так же точно и поэт. Возьмем пресловутую 4-ю эклогу Виргилия, наилучшие слова, оставшиеся такими, какими они возникли в устах поэта. Виргилий твердо знал, чего хочет и умел найти слова, которые могли бы его выразить с должной чистотой и ясностью. Но хотел ли он, знал ли, с какими силами вступит в связь его создание? Не содрогнулся ли бы он от ужаса, если бы услышал пресловутую речь Лактанция на Никейском соборе? Как человек, поэт твердо должен определить себя, свою личность, свою веру. В то же время, он должен знать что создает нечто, что больше его самого. Он должен знать, что он лишь вызвал в мир какую-то силу, которая будет рушить или созидать, уже не считаясь с его намерениями. Поэзия, губительна она или плодотворна? И то и другое, она больше этого различия, она перерастает его, она бесцельна, но совсем не в том смысле, как говорил Г.В.Адамович. Не потому что отрывает от жизни, а потому что она есть чистейшее выражение божественной бесцельности самой жизни» (там же, 74–77).
Поль Валери – мыслитель. Некоторые положения, мимоходом сказанные в седьмой главке этой статьи, развиваются в заметке Бахтина (за подписью «Н.Бор.») «Из записей Поля Валери» (Звено № 225 от 22.5.1927), предваряющей публикацию нескольких фрагментов французского писателя:
«В майском номере «Nouvelle Revue Francaise» воспроизведено несколько отрывков, извлеченных из «Analecta» Поля Валери – беглые записи, мысли, схваченные и закрепленные в резком ракурсе, почти не связанные между собою и лишь очень отдаленно группирующиеся вокруг двух тем: «Симуляция» и «Отношение беспорядка и возможного». Эти отрывки, как и те записи из «Личных тетрадей», что появлялись раньше, в каком-то смысле даже более характерны для Валери, чем его законченные и внешне упорядоченные вещи. Творчество Валери фрагментарно по самой своей природе – не «афористично», но именно фрагментарно, случайно.
Ведь афоризм всегда однозначно и твердо закрепляет момент какого-то пути; он – часть, у которой должно быть свое место в целом. Только самим мыслителем это целое не дано, а лишь предуказано и задано читателю: читатель обязан соучаствовать в строительстве, и лишь постольку данные ему части приобретают жизнь и ценность.
У Валери не то. Ни один из его фрагментов не хочет быть частью, решительно отказывается войти в состав какого бы то ни было целого, хочет быть целым для себя. Вновь и вновь находить и формулировать себя – всего себя – по любому, самому внешнему, поводу, говоря о любом, самом случайном, предмете – вот предел, к которому тяготеет творчество Валери. Разница между отдельными фрагментами – лишь в большем или меньшем совершенстве, остроте, адекватности формулировки.
Вот почему философствование Валери не может и не должно быть сводимо ни к каким «общим положениям». То, о чем он говорит, и то, что он говорит, – не существенно: это лишь случайный материал, в принципе всегда заменимый любым другим. «Наша философия характеризуется не своим предметом, но своим аппаратом».
Что же это за «аппарат» – познавательный метод, художественный прием? Ни то, ни другое, но какое-то сложное единство, в котором и ритмическая структура фразы, и тончайший стилистический нюанс, и четкая, математически заостренная формула – равно существенны: живут друг другом, поддерживают друг друга. Отделите одно от другого – и мысль Валери ускользает, как вода между пальцев».
Паскаль и трагедия. Статья стала своеобразным продолжением цикла лекций «Современность и наследие эллинства» (см. в наст. издании). В примечании к статье Бахтин писал:
«На собрании «Зеленой лампы», посвященном обсуждению некоторых положений, высказанных мною в цикле лекций «Современность и наследие Эллинства», мне было сделано, между прочим, следующее – очень существенное – указание: «Нельзя считать трагическое постижение жизни исключительным достоянием язычества; и христианское мироощущение может быть (и бывало) глубоко трагическим». Мне хотелось бы здесь проверить это утверждение и показать – исходя из знаменательного случая Паскаля – что трагедия несовместима с христианским сознанием (понятым в самом широком смысле). Есть ли это недостаток христианства или, наоборот, его преимущество, и какова вообще религиозная ценность трагедии – этого вопроса я здесь не ставлю».
Два облика Поля Валери. Теме «Валери-академик», затронутой в этой статье, предшествовала заметка «Поль Валери – академик» («Звено» № 147 от 9 нояб. 1925 г., подписанная инициалами: «Н.Б.»):
«Валери избран в Академию. Известие об этом – и радует и несколько удивляет. Удивляло уже и то спокойное упорство, с каким сам поэт выставил и продолжал поддерживать свою кандидатуру. Оставим в стороне разнообразные нелитературные соображения, на основании которых вербуется обычно главная масса академиков. Из оснований чисто литературных, – главное, – это, несомненно, «общепризнанность», – все равно бульварно-доступная (Ростан, Омэ), или спокойно-неоспоримая (Анатоль Франс). Для художника с своеобразной и резко-выраженной индивидуальностью (независимо от степени его дарования) есть только одно условие для официального бессмертия: «остепениться». Это то, что привело автора «Chansons des Jeux» к выспренным спортивным одам. Но разве этим путем пришел Валери к академическому креслу от определяющих бесед с Маллармэ, раскрывшего ему, в созерцании звездного неба, императив космической «Поэтики»? Нет, от первых стихов до «Jeune Parque» и «Charmes», от «Soiree avec Monsieur Teste» до «Эвпалиноса» – Валери остается все тем же. Но, может быть, банальный факт академического избрания – это совсем не случайный знак того, что уединенные искания Маллармэ, поэта, назначение которого было не творить, но «повивать идеи» – что эти искания ныне, в лице Валери, обрели осязательную плоть и властно притязают на некую «общеобязательность»?
…О grande âme, il est temps que tu formes un corps!
Hâte-toi de choisir un jour cligne d'éclore
Parmi tant d'autres feux tes immortels trésors!
Remonte aux vrais regards! Tire-toi des ombres!..[73]73
О великая душа, настала пора тебе облечься в плоть! Поспеши с началом дня выбрать себе бессмертные сокровища среди столь многих иных огней! Откройся взглядам! Покинь мир теней!.. (фр.)
[Закрыть]
He это ли притязание на общеобязательность руководило Валери, когда с такой решительностью он утверждал свое право на избрание? В лице автора «Cimetiere marin» и «Эвпалиноса», могучий и опасный фермент маллармэизма до конца ассимилирован и творчески использован французской поэзией и мыслью: ничего не нарушая, он лишь оплодотворил и углубил исконные традиции французского духа. Отсюда несравненное двойственное обаяние Валери: ощущение волнующей сложности и новизны и, в то же время, какая-то спокойная, как бы расиновская опрозраченность. Здесь до конца оправдало себя бесплодное искание Маллармэ, как некогда оправдал себя Сократ, – искатель и совопросник: – чье отрицание предопределило умопостигаемую музыку платоновских идей. Избрание Валери, каковы бы ни были его ближайшие поводы и причины, – событие значительное и радостное. Конечно, официальное бессмертие академика и подлинное бессмертие поэта – понятие весьма разнородные. Но все-таки отрадно, когда, по какой-то странной случайности, они вдруг совпадают».








