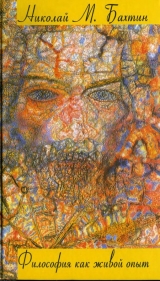
Текст книги "Философия как живой опыт"
Автор книги: Николай Бахтин
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)
Приложения
«Современность и наследие эллинства»
(Лекции Н. М. Бахтина)
Состоявшиеся в течение февраля и марта четыре лекции Н.М.Бахтина на тему «Современность и наследие эллинства» не рассчитаны были на обширную аудиторию. Они носили скорее «камерный» характер. Все же зала, в которой они происходили, неизменно заполнялась значительным числом слушателей, привлеченных мастерским изложением интересного и трудного предмета и блестящим ораторским талантом лектора.
В представлении Н. М. Бахтина, «объективное» изучение эллинства, как оно мыслится современной филологией, должно уступить место действенному усвоению тех начал, из коих слагается эллинская культура. Если суждено быть новому Возрождению, то оно возможно лишь как реальный возврат к античности. Всякое подлинное творчество не может не сознавать себя, как возрождение утраченных ценностей. Отталкиваясь от ближайшего, оно утверждает себя в отдаленном; ритм истории есть ритм последовательных возвратов к прошлому.
На протяжении последних веков человечество трижды делало попытку возвратиться к эллинскому миру. Ни одной из них не суждено было проникнуть до конца в сущность античного мироощущения; однако, с каждым разом новый мир все более приближался к истинному ядру эллинства. Три последовательных возрождения – как бы три концентрических круга, все теснее смыкающихся вокруг искомой истины. Итальянское Возрождение воспринимало эллинство, главным образом, через призму эллино-римской культуры, т. е. в затуманенном и искаженном виде. Второе возрождение, носителями которого являются Винкельман и Гете, исходило из представления об античности как синониме «гармонии», ясности, законченности. Оно представляло себе эту гармонию как некое начальное единство, характеризующее «зарю человечества» и предшествующее сложности позднейшего исторического развития. Гете, при всем его «язычестве», далеко не растворился в античности: в его миропонимании она сосуществует с другими элементами, явно ей враждебными («Фауст»). Для Гете античность – эстетическая, а не религиозная норма. Трагическое чуждо – если не самому Гете, то, во всяком случае, его Элладе. И найденная им окончательная формула: «Все преходящее – только символ» – есть, разумеется, не что иное, как отказ от античности. Все же второе Возрождение если еще и не раскрыло сущности эллинства, то уловило многие черты, его определяющие, и позволило Ницше приблизиться уже вплотную к трагической концепции мира как истинной основе эллинства. Но Ницше погиб, не осуществив своего задания до конца. Дело его ждет еще своего завершителя.
Вживание в эллинский мир предполагает полное отрешение от основных устремлений, определяющих культурный строй современности. Нет ничего более чуждого греческому сознанию, чем количественный критерий, лежащий в основе наших оценок, и чем наше стремление к беспредельности. Эллинский критерий ценности – чисто качественный; характерная особенность эллинского мира – полное отсутствие выспреннего и огромного; количественная ограниченность действия ощущалась как условие его качественной наполненности и динамической напряженности, замкнутость, предел – основная особенность греческого духа. Она сказывается и в неподатливости иноземным влияниям, поскольку они не могут быть ассимилированы, и в отсутствие стремления к вечности в государственном строительстве и, наконец, во враждебности к идеям политической экспансии. Стремление к беспредельности, к «мировому господству» (Александр) есть уже достояние более поздней эпохи – эпохи разложения эллинского духа. При этом, замкнутая по отношению к внешнему миру, Эллада внутри постоянно является ареной противоборствующих сил, но эта рознь представляется для грека основным началом жизни, условием всякого творчества.
Первое конкретное свидетельство этого мироощущения – гомеровский эпос. Его видимая простота и гармоничность не есть примитивность, «Заря духа», как думал Винкельман: простота всегда сложнее сложности и есть результат ее преодоления. И у Гомера простота – результат длительного и сложного процесса, в исходе которого небольшой касте удалось из взаимодействия разнообразных и противоречивых влияний пробиться к стройному и простому ощущению мира. Преодолен был первоначальный ужас перед обреченностью человеческого существования, перед непонятной, слепою силою рока, над ним тяготеющей. И гомеровская радость не есть отсутствие страха и страдания, а преодоление их путем приятия жизни во всей ее ограниченности и необъяснимости.
Во времени, гомеровская концепция мира стоит между двумя враждебными ей концепциями, отчасти наложившими свой отпечаток и на гомеровский эпос, в том виде, как он дошел до нас. От более ранней сохранились только рудименты. Характерным для нее был, вероятно, мрачный культ душ, как о том свидетельствует, например, описание погребения Патрокла в Илиаде. В гомеровском мире эти представления уже изжиты; после смерти тела, он не признает жизни души в собственном смысле слова. Погребение трудов заменилось сожжением, знаменующим освобождение живых от власти мертвых.
С другой стороны, в гомеровском эпосе различимы и позднейшие наслоения, свидетельствующие уже о разложении лежащего в основе его миропонимания. Сдвиг, о котором мы можем мы можем лишь догадываться, окончательно разрушил гомеровское мироощущение. Ряд новых сил обнаруживает свое действие. Одна из них – это религия Диониса. Культ Диониса дважды заливал Грецию. Первая волна прокатилась по Элладе еще в догомеровскую эпоху и не оставила никаких значительных следов. Вторая волна нахлынула уже в послегомеровское время, пришла в столкновение с религией Аполлона, но не вытеснила ее, а слилась и примирилась с нею. Отражение этой борьбы мы видим в ряде дошедших до нас мифов.
Однако ряд элементов остался непереработанным; они продолжают ферментировать и вносить рознь в эллинское сознание. В двух направлениях действовали разрушительные начала. С одной стороны, воздвигалось здание греческой философии с ее стремлением свести все многообразие жизни к некоему единству (Фалес). Вещи перестают быть собою, познание отрывается от бытия. Здесь сказалась основная тенденция разума: искать тождества сквозь различие и единство во множественности, т. е. смотреть мимо мира, в котором каждая вещь единственна, неповторима и ни к чему сведена быть не может. Другое течение, подрывавшее основу гомеровского мироощущения, – было течение мистическое с его жаждой безмерности и вечности (напр., орфизм). Оба течения постулируют иной мир. Они ищут к нему доступа: одно – чрез чистую мысль, другое – через экстаз и аскезу. Оба они – две формы одного начала. И как Анаксимандр – источник всей европейской философии, так и орфический миф – источник всех религиозных концепций Европы.
Таким образом, перед греческим сознанием вновь стояла извечная проблема бытия в ее страшной обнаженности: вновь твердили ему, что жизнь не несет в себе своего оправдания, что, взятая сама по себе, она лжива и бессмысленна. Предстояло преодолеть это утверждение. На вопрос: должна ли быть жизнь принята, несмотря на отсутствие внутреннего ее оправдания? – эллинство ответило «да». Выяснить, каким образом оказался возможным такой ответ – значит вскрыть сущность трагического миросозерцания.
Основой трагедии как литературной формы является неизменная обреченность героя, приводящая к конечной катастрофе. Катастрофа эта всегда бессмысленна. Она не вытекает из чьей-либо вины. Единственная вина – это вина рождения, вина самого бытия; единственный смысл трагедии – в невозможности оправдать бытие. Но зачем в таком случае нужна была трагедия греческому зрителю, что давала она ему? Об этом мы имеем свидетельства современников. В то время как Платон не скрывает своего презрения к трагедии (и он не мог относиться к ней иначе, если хотел оставаться последовательным), Аристотель, не выходя из роли объективного наблюдателя, констатирует, что трагическое представление приводило к «катарсису», к очищению.
В чем же заключалось это очищение? Было бы величайшей ошибкой отождествлять его с тем катарсисом, который испытывает зритель после пятого действия современной драмы. Здесь катарсис понятен, он есть не что иное, как примирение с бытием через смысл, ибо гибель героя здесь всегда означает торжество некоего смысла. Не то в античной трагедии: в ней катарсис есть примирение с бессмысленностью жизни, примирение с бытием вопреки смыслу, вернее – именно благодаря взрыву всех смыслов и разоблачению в бытии того, что больше и глубже всякого смысла. Трагедия есть испытание духа через зрелище смерти и ужаса. В результате – катарсис, преодоление страха и скорби, вольное избрание жизни и ее утверждение.
На вопрос о том, как возможен выбор вопреки и помимо смысла, – необходимо ответить, что всякий выбор, в конечном счете, вполне своеволен, иррационален, и что разум, предоставленный самому себе, не содержит никаких оснований для выбора. Таков всякий творческий выбор, выбор эротический, основывающийся на рационально-пустой формуле: потому что А = А. Но в этой формуле вскрывается самая сущность подлинного выбора: избрать в вещи можно только ее самое, единственное в ней и неповторимое. Выбор должен быть иррационален, ибо смысл, по самому определению, есть не сама вещь, но ее отношение к чему-то другому (например, к той или иной ценности). И, стало быть, для того, чтобы осуществилось эротическое избрание жизни как таковой, необходимо, чтобы противоположные и враждебные смыслы, сталкиваясь, уничтожили друг друга (в этом – основа всей структурной техники трагедии). При этом, утверждая бытие, трагедия принимает его не только как бессмысленное, но и как ограниченное, обреченное смерти; в смерти она усматривает необходимый коррелят всякого индивидуального бытия, единого во всех своих проявлениях – и, стало быть, единого и в гибели.
Таким образом, сущность трагического – в приятии жизни, созерцаемой под знаком уничтожения; трагедия – есть испытание духа зрелищем смерти и ужаса.
Но осуществление трагического миросозерцания требует силы и воли. Когда воля и силы иссякают, в жизнь вторгаются отвлеченные истины, подтачивающие первоначальную целостность жизнеутверждения. Так случалось и в Греции. Смертельный удар трагической концепции мира нанесен был философией Сократа, его диалектикой, служившей средством вскрыть иррациональность выбора, лежащего в основе всякой деятельности, – и отвергнуть этот выбор. Мысль становится орудием испытания жизни; смысл торжествует под бытием.
Процесс Сократа есть безнадежная попытка эллинства защитить себя от вторжения этого разлагающего начала. Судьи Сократа стояли перед безысходной дилеммой: терпимость была исконной особенностью эллинского духа; но учение Сократа взрывало основу эллинства. И, стало быть, осуждая или оправдывая Сократа, судьи одинаково эллинству изменяли.
Явление Сократа знаменует собою конец трагического миросозерцания. И первая попытка возвращения к нему происходит через два тысячелетия, – когда Ницше, в идее Вечного Возвращения, находит новое оправдание жизни, новое основание для целостного ее приятия. Но, совпадая с эллинством в утверждении жизни, Ницше вводит новый, чуждый и враждебный эллинству, момент – жажду вечности, искажая тем подлинно трагическую концепцию, укорененную в единственности и неповторимости сущего. Пример Ницше должен служить предостережением для всех тех, кто думает о новом Возрождении как рецепции эллинского миросозерцания.
Новое Возрождение предполагает прежде всего преодоление современной культуры. Мы продолжаем жить в мире Сократа: современность – есть лишь последний вывод из разрушительной диалектики смыслов. При этом культура наша не имеет какой-либо одной, всецело ее проникающей идеи, а до конца эклектична. Под влиянием иллюзорной устойчивости, явившейся результатом сравнительной безопасности в течение нескольких веков (XVIII–XIX), культура, перестав быть тем, чем она в существе своем является, т. е. средством самозащиты и самоутверждения, распалась на свои составные части, а отдельные ценности, перестав быть необходимыми, сделались игрушками и предметом праздных умствований. Культура начала развиваться по своей, уже нечеловеческой инерции. Так возникли «чистая» наука, «чистое» искусство. Ритм современности – ритм не человеческий, но ритм чуждой человеку, оторвавшейся от него силы. Ценности восстали на своего создателя: они существуют не для него, а для себя. Основная антиномия современной культуры в том, что, не будучи внутренно-обязующей, она стала внешне-принудительной. И в то время как естественный путь культурного восхождения ведет от сложности и многообразия к простоте, мы идем обратным путем – к новой сложности, к варварству.
Наметившееся после войны тяготение к простоте – приведет ли оно в новому Возрождению? Если суждено этому произойти, то не нового обогащения настоящего через прошлое надо ждать, а замены всей идейной сложности настоящего – другими, совершенно противоположными ценностями; не синтеза, на основе которого никакое действие построено быть не может, а решительного, однозначного выбора. И первая задача на этом пути – вернуть человеку прямое и конкретное видение мира и вещей. От эротического узрения мира – прямой и ясный путь к другим моментам трагического мироотношения.
Н. Р. (отчет)
Памяти необыкновенного человека
Это был один из самых даровитых людей, которых приходилось мне в жизни встречать.
Имя Николая Михайловича Бахтина совсем мало известно. Сравнивая шумные и блестящие карьеры иных посредственностей с его участью, с тем положением, которого он добился, как не задуматься еще раз над случайностью славы, почета, признания, всего того, что будто бы увенчивает заслуги и таланты человека. «Имеют книги свою судьбу», сказано в стихе Горация, горестно процитированном в личных заметках Пушкина. Имеют и люди свою судьбу, столь же мало справедливую, капризную, а нередко и просто вздорную.
В этом человеке были проблески гениальности, – и утверждая это, я прекрасно знаю, что такие слова могут вызвать скептическую усмешку. Но никто из тех, кто Бахтина близко знал, не усмехнется. Слово «талант» к нему в сущности мало подходит, и если на этом слове остановиться, трудно решить, какой у него, собственно говоря, был талант – писательский, ораторский, научный? Ни тот, ни другой, ни третий в чистом виде. Была необыкновенная личность, угадывавшаяся почти во всем, за что Бахтин ни брался бы, даже при срывах. Казалось, рано или поздно эта необычайность должна будет проявиться полностью, во всей силе, – и привести к необычайным результатам. Но так только казалось. Бахтин умер уже не молодым человеком и в последние годы занимал должность профессора лингвистики в полузахолустном Бирмингеме. Им дорожили, с ним считались. Некоторые его работы получили высокую оценку авторитетнейших европейских филологов. Но это все-таки было не совсем то, чего от Бахтина можно было ждать. Да он и сам иллюзий себе не делал.
Отчего люди выдающиеся, подлинно одаренные так часто бывают чудаками? Вопрос этот в психологическом отношении очень интересный и довольно сложный, но самая связь чудачества с одаренностью – явление настолько распространенное, что некоторые, не вполне честные люди чудаками притворяются, зная, что личина эта вызывает доверие. Сколько в последние десятилетия было примеров этому! Разве длинные, золотисто-волнистые шевелюры некоторых поэтов – или псевдо-поэтов – не начало чудачества и не выдает инстинктивную тягу к нему? Многое можно было бы сказать и написать на эту тему, коснувшись заодно и тех поддевок или желтых кофт, в которые рядились некоторые русские писатели: и тут, в этих маскарадах, сквозит желание противоположное тому, которым одержим был толстовский поручик Берг – желание не быть «как другие», с расчетом, что доверие к таланту при этом будет обеспечено в кредит. Повторяю, вопрос интереснейший. Бахтин-то однако хитрецом и актером ни в коем случае не был, и внешние атрибуты чудачества его не прельщали нисколько. Но в самом деле ни на какого другого человека похож он не был, и, не в пример большинству смертных, Бог создал его как будто в единственном, неповторимом экземпляре. Был он исключительно умен и невероятно наивен. Был детски доверчив и буйно вспыльчив. Был дерзок и застенчив. Всегда чем-то был увлечен, куда-то несся, чем-то «горел», но никогда нельзя было быть уверенным, что вечером он с ужимками самого кровного, нестерпимо-брезгливого отвращения не втопчет в грязь то самое, от чего был в восторге утром.
Я познакомился с ним очень давно и помню его еще по Петербургскому университету. В те годы его считали поэтом, но поэзию он в зрелости, кажется, оставил, хотя не перестал страстно и по свойствам своей натуры как-то запальчиво и судорожно ею интересоваться. В эмиграции на него обратил внимание покойный М. М. Винавер и пригласил его сотрудничать в еженедельнике «Звено». Бахтин написал несколько статей блестящих и замечательных, но написал и другие, вызывающие по тону, малоубедительные по содержанию, – вроде свирепой расправы с Паскалем на двух страничках журнального текста. Один только раз оказался он в парижский период своей жизни на высоте своих удивительных и неясных дарований, – когда прочел в маленьком, закрытом теперь зале около Палаты Депутатов, короткий цикл лекций о древнегреческой культуре. Нельзя этих лекций забыть. Среди слушателей Бахтина были люди, носящие самые славные в нашей эмиграции имена, – и я мог бы на их свидетельства сослаться: нельзя этих лекций забыть, соглашаются и они.
Греция была, пожалуй, единственной настоящей любовью Бахтина, во всяком случае единственной его любовью постоянной. Но тянуло его не столько к Греции классической, перикловской, сколько к более ранней, если еще и чуть-чуть дикой, то таинственно-вдохновенной и мудрой. Он безгранично чтил Ницше и вслед за ним с высокомерным пренебрежением говорил о Сократе, тем более о Платоне. Сократ со своим не в меру прославленным учеником будто бы исказил, пожалуй даже «обездарил» то, что эллинская культура в себе несла и сделал ее общеобывательским достоянием. Не того хотел Гераклит, великий, «темный» мыслитель.
Схема знакомая и, разумеется, более, чем спорная. Ничего нового людям, читавшим Ницше, Бахтин в сущности не сказал. Но какое-то золотое сияние от его речей в памяти все-таки осталось, и не столько ценен был их непосредственный исторический смысл, сколько пленительна была их скрытая музыка. «Прекрасное должно быть величаво», сказал Пушкин. Была в этих четырех лекциях величавость неподдельная, и выходя после них на холодный, осенний парижский дождик, по привычке рассеянно переговариваясь о повседневных пустяках, каждый все-таки яснее и полнее чувствовал, что двадцать пять веков тому назад явилось в истории чудо и что имя этому чуду – Эллада. Каждому было хоть на несколько минут понятно то, что заставило Ренана «молиться на Акрополе». Были за время эмиграции и другие вечера, насыщенные мыслью или чувством. Немного можно было бы назвать собраний, где присутствовавшие были бы такими воспоминаниями увлечены и таким высоким волнением охвачены.
По рассказам, дошедшим из Англии, некоторые беседы Бахтина производили порой и там подлинно ошеломляющее впечатление. Один из его товарищей по университетской работе утверждает, что в недавно изданном Бахтиным руководстве по новогреческой грамматике есть соображения и замечания, открывающие совершенно новые, никому не ведомые лингвистические горизонты. – Не зная этой книги, я не сомневаюсь, что это так. С именем Бахтина связать можно было любые надежды. А все-таки имя это известно лишь небольшому числу наших современников, ничего прочного и долговечного Бахтин не оставил, и только друзья его знают, какие редчайшие дарования ушли с ним из жизни. «Имеют люди свою судьбу».
Георгий Адамович
Библиография работ Н.М. Бахтина за 1924–1931 годы
О русском стихосложении. – «Звено» № 73 от 23.6.1924.
Военный монастырь. – «Звено» № 76 от 14.7.1924.
Письма о слове. 1. О произносимом слове. – «Звено» № 81 от 18.8.1924. 2. О формальном методе. – «Звено» № 82 от 25.8.1924.
Рец. на: Эйхенбаум. Сквозь литературу. (Подп.: «Н.Б.»). – «Звено» № 83 от 1.9.1924.
Рец. на: Литературная мысль. Альманах. (Подп.: «Н.Б.»). – «Звено» № 87 от 29.9.1924.
Анатоль Франс – «Звено» № 90 от 20.10.1924.
«Новое средневековье». – «Звено» № 91 от 27.10.1924.
Ницше. – «Звено» № 94 от 17.11.1924.
Книга о солдате – «Звено» № 99 от 22.12.1924.
Пути поэзии – «Звено» № 106 от 9.2.1925.
Рец. на: Е.Спекторский. Христианство и культура. (Подп.: «Н.Б.») – «Звено» № 111 от 16.3.1925.
Рец. на: Бицилли. «Очерки исторической науки». (Подп.: «Н.Б.») – «Звено» № 112 от 23.3.1925.
Поль Валери – мыслитель. – «Звено» № 115 от 13.4.1925.
Рец. на: Георгий Венус. Полустанок. (Подп.: «Н.Б.») – «Звено» № 123 от 8.6.1925.
Пьер Луис. (Подп.: «Н.Б.») – «Звено» № 124 от 15.6.1925.
Под рубрикой: «Из жизни идей»:
Победы фрейдизма. – «Звено» № 124 от 15.6.1925.
«Объяснение нашего времени». – «Звено» № 125 от 22.6.1925.
Относительность самосознания. – «Звено» № 127 от 6.7.1925.
Орфизм и христианство. – «Звено» № 128 от 13.7.1925.
Критика и медицина. – «Звено» № 129 от 20.7.1925.
«Логос». – «Звено» № 130 от 27.7.1925.
«Три реформатора». – «Звено» № 131 от 3.8.1925.
«Метафизическая чувствительность». – «Звено» № 132 от 10.8.1925.
Шарль Моррас. – «Звено» № 134 от 24.8.1925.
«Возврат к средневековью». – «Звено» № 135 от 31.8.1925.
Collection des Universites de France. – «Звено»' 136 от 7.9.1925.
Философия как живой опыт. – «Звено» № 137 от 14.9.1925.
Морфология культуры и язык. – «Звено» № 138 от 21.9.1925.
Проблема Сократа. – «Звено» № 139 от 28.9.1925.
Современность и фанатизм. – «Звено» № 140 от 5.10.1925.
Метапсихика. – «Звено» № 141 от 12.10.1925.
Бесплодный мыслитель. – «Звено» № 142 от 17.10.1925.
Вера и знание. – «Звено» № 155 от 17.1.1926.
Другие статьи:
Мечтатели. – «Звено» № 144 от 2.11.1925.
Поль Валери – академик. (Подп.: «Н.Б.») – «Звено» № 147 от 9.11.1925.
«Эманципация психологии». – «Звено» № 148 от 30.11.1925.
Мережковский и история. – «Звено» № 156 от 24.1.1926.
Искусство марксистское и звериное. (Подп.: «Н.Боратов».) – «Звено» № 157 от 31.1.1926.
Муза гастрономии. (Подп.: «Н.Бор.») – «Звено» № 158 от 7.2.1926.
Ф. Ф. Зелинский. – «Звено» № 162 от 7.3.1926.
К. Леонтьев. – «Звено» № 165 от 28.3.1926.
Шпенглер и Франция. – «Звено» № 167 от 11.4.1926.
«Обращение» Жана Кокто. – «Звено» № 185 от 15.8.1926.
Разговор о переводах. – «Звено» № 186 от 22.8.1926.
Защитник язычества. – «Звено» № 188 от 5.9.1926.
О современности. – «Звено» № 189 от 12.9.1926.
Рец. на: Андрей Ющенко. Пророческий дар русской литературы. (Подп.: «Н.Б.») – «Звено» № 190 от 19.9.1926.
Манифест Бонтемнелли. (Подп.: «Н. Боратов».) – «Звено» № 192 от 3.10.1926.
Популяризаторы. (Подп.: «Н. Боратов».) – «Звено» № 197 от 7.11.1926.
Похвала смерти. – «Звено» № 198 от 14.11.1926. -
Новая немецкая философия. (Подп.: «Н. Боратов».) – «Звено» № 200 от 28.11.1926.
Пять идей. – «Звено» № 201 от 5.12 1926.
Ницше и музыка. – «Звено» № 205 от 2.1.1927.
Апология поневоле. – «Звено» № 208 от 23.1.1927.
Французский истолкователь Ницше. – «Звено» № 209 от 30.1.1927.
Рождающийся мир. (Подп.: «Н. Боратов».) – «Звено» № 216 от 20.3.1927.
«Современность и наследие эллинства». (Лекции Н. М. Бахтина). – «Звено» № 216–217 от 20 и 27.3.1927.
О созерцании. – «Звено» № 217 от 27.3.1927.
Спорт и зрелище. – «Звено» № 219 от 10.4.1927.
Рец. на: Зеньковский. Русские мыслители и Европа. Критика европейской культуры у русских мыслителей. (Подп.: «Н.Б.»). -
«Звено» № 219 от 10.4.1927.
Об оптимизме. – «Звено» № 223–224 от 8 и 15.5.1927.
Из записей Поля Валери. (Подп.: «Н.Бор.») – «Звено» № 225 от 22.5.1927.
Паскаль и трагедия. – «Звено» № 228–229 от 12 и 19.6.1927.
О разуме. – «Звено», 1927, № 4.
Два облика Поля Валери. – «Звено», 1927, № 6.
Измена Клерков. – «Звено», 1928, № 2.
Четыре фрагмента. – «Звено», 1928, № 3.
Антиномия Культуры. – «Новый корабль», 1928, № 3.
Разложение личности и внутренняя жизнь. – «Числа», 1930/31, № 4. приложения








