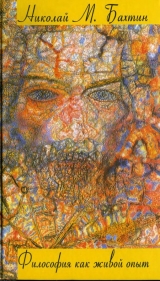
Текст книги "Философия как живой опыт"
Автор книги: Николай Бахтин
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 18 страниц)
Николай Михайлович Бахтин
Философия как живой опыт
Избранные статьи
Составление, послесловие, комментарии С. Федякина
Науки, искусства, религии,
кодексы законов, расписания поездов —
все это уже самостоятельные сущности,
существующие не столько для человека,
сколько над человеком, мертвые, но
могучие боги, живущие по своим,
нам уже неведомым, законам.
Николай Бахтин
Вместо введения
Современность и фанатизм
1
Отвлекаясь на время от частностей, попытаемся найти общий признак, которым отмечена ныне «жизнь идей» в ее целом. Замечательно, что мы не сумеем назвать какой-нибудь существенной конкретной тенденции или идеи, иерархически подчиняющей себе все многообразие духовной жизни нашей эпохи. Искомый признак окажется чисто формальным. «Мирное сожительство противоположных идей» – так, с многозначительной простотой, определил его Валери.
Формула как будто совершенно безобидная. А ведь это значит: строение идейного космоса уже не определяется господством и подчинением, но сосуществованием, простой смежностью противоположных и независимых начал. Но в целом культуры, так же как и в сознании отдельного человека, мирное сожительство противоположных идей возможно только при одном условии: ни одна из этих идей не доросла до подлинной реальности, не стала движущей и повелевающей силой, но все они пребывают в состоянии какой-то абстрактной и волнующей возможности. Это лишь призраки, лишь хрупкие игрушки ленивого или бессильного духа.
Современное сознание замкнуто в этом мире бесчисленных и равноправных возможностей. Но для того, чтобы действовать, нужен окончательный, беспощадный выбор; нужна сила «отвергнуть тысячи возможностей во имя одного свершения»; нужна какая-то мудрая слепота ко всему – кроме одного. (Что именно такова структура подлинно целостного действия, – это открывается каждому из нас в решительные и роковые моменты его жизни).
«Знай, – говорит платоновский Сократ, – знай, что я подобен корибанту, заслышавшему зов священных флейт. Этот зов звучит во мне и не велит мне внимать ничему другому. Что ж, возражай – все твои речи будут напрасны!»
Но эта одержимость идеей, – ведь это то, что мы презрительно называем фанатизмом.
Фанатизм – это идея, ставшая силой, доросшая до действия и, постольку, до конца погасившая в своей полноте все другие идеи.
2
У современного сознания нет силы – до конца избрать и до конца отвергнуть. Поэтому целостное идейно-обусловленное действие – исключено из современности. Но там, где нет сознательного выбора, – вступает в силу инерция. Тот, кто не пожелал до конца стать покорным орудием одной истины, – становится точкой приложения безликих, космических сил.
Вот почему наша эпоха – самая деятельная из эпох. Только деятельность эта всецело определяется законами механики и числа.
Призрачному «духовному богатству», чудовищному кишению абстрактных идей – неизбежно должен соответствовать поэтому бессмысленно-механический строй конкретной жизни.
Когда тело покинуто единым духом и изобличает в себе законы праха, – именно тогда в нем рождаются бесчисленные маленькие жизни: кишение ублюдочных организмов в уже мертвой, уже неорганизованной массе…
Так, из внешнего признака – «мирное сожительство противоположных идей» – могут быть диалектически выведены все основные черты новой европейской культуры.
3
Но теперь мы потеряли и свое последнее утешение: мы уже не способны, в сознании полной безопасности, со старчески-наивной гордостью любоваться мелькающим зрелищем нашей небывало-пестрой культуры. Как Фауст, мы готовы в отчаянии воскликнуть:
Мы узнали, как хрупки и бессильны наши призрачные богатства – мудрость книжников и совопросников – перед лицом самой косной, самой тупой, – но конкретной силы. Только идея, подлинно ставшая реальностью, доросшая до осязательной конкретности, закалившаяся до целостного исповедания – только такая идея способна противопоставить себя механическому омертвению, грозящему Европе изнутри, и силам хаоса, наступающим на нее извне, с Востока.
Тлеющая европейская мысль, если она не хочет быть угашенной до конца, должна вновь разгореться в пламя, в новый фанатизм.
Статьи и эссе
Военный монастырь
Будущему историку и психологу «великого русского рассеяния» надлежит уяснить, как разнообразные среды и культуры, с которыми пришлось соприкоснуться русской душе, в разной степени и по-разному воздействовали на нее, то ломая, то обогащая и укрепляя, то вдруг выдвигая в ней свойства, дотоле скрытые в каких-то подсознательных глубинах и, наоборот, затемняя то, что раньше казалось основным и существенным.
Думается, что, с этой точки зрения, Иностранный Легион дает особенно показательный материал. Дело в том, что среда эта – очень цельная, характерная и, главное, совершенно изолированная, словом, все условия идеально поставленного эксперимента здесь налицо.
Но ставить все эти вопросы еще не время; и теперь уже возможно и должно наметить только подходы к ним. А школа Легиона, которую суждено пройти стольким из нас, и сама по себе крайне поучительна для психолога. Знают же о Легионе мало и судят часто превратно. Французские источники большей частью чисто официальны. В Германии же существует о Легионе целая литература («Weisse Sklaven»[2]2
Белые рабы (нем.)
[Закрыть] и тому под.), литература полная наглой лжи и имеющая назначением подогревать пресловутые германские добродетели – «deutsche Ehre» и «deutsche Treue»[3]3
«Немецкая честь» и «немецкая верность» (нем.)
[Закрыть]. – И недаром: количественно (впрочем, только количественно) германцы всех видов составляют основной элемент того агломерата рас и национальностей, каким является Иностранный Легион (Затем, в порядке численности, следуют русские, балканские славяне, румыны и, наконец, латинские народы, турки, арабы).
Назначением Легиона искони было: собрать и использовать все то, что не нужно Европе; и состав его издавна слагался под влиянием двух факторов.
Первый фактор – постоянный: это – непрерывное выделение европейской цивилизацией «лишних людей» всякого рода (люди с запятнанной репутацией, обанкротившиеся, отчаявшиеся всех видов, бродяги, дезертиры и проч. и проч. – от константинопольского хамала и парижского апаша до расстриги епископа и германского принца включительно).
Второй фактор, действующий с переменной силой, находится в зависимости от исторических событий и частных условий времени и порою, как в наши дни, дает Легиону основную массу его состава.
Бывают события, благодаря которым оказываются вдруг «лишними» тысячи и сотни тысяч; тогда целые толпы идут в Легион и, подчиняясь его основному тону, сами отчасти действуют на его быт и придают ему специфическую окраску, характерную для данного времени. Такими событиями были когда-то: польская эмиграция, аннексия Эльзаса; таковы в наши дни: поражение и оккупация Германии, неудача коммунизма Белы Куна, русская эмиграция.
В течение почти столетия Легион непрерывно принимает все эти отвергнутые Европой элементы: вбирает их, перерабатывает и создает из бессвязного агломерата – стойкое боевое единство, а из «лишнего человека» – цельный и твердый тип Легионера.
Но как слагается тип Легионера? И в чем та ценность и ассимилирующая сила Легиона, которая позволяет ему свести к единству все многообразие непрестанно приливающих элементов?
Чтобы понять это, мы должны прежде всего помнить, что Легион был создан, существовал и ныне существует – для войны и только для войны. Его строй и быт слагались и видоизменялись только в отношении к этой основной цели, в течение столетия выверялись на деле; поскольку все нецелесообразное, лишнее – перерождалось или отпадало. Мексика, Севастополь, Тонкин, Мадагаскар, Европейская Война, Марокко… – и сколько еще войн – создали и отточили его дисциплину, твердую и гибкую в одно и то же время. Мнения, общественные настроения и взгляды – все это не отразилось и не могло отразиться на его организации: никто, к счастью, о нем не думал, пока там, в далеких колониях, он совершал свое трудное дело. И доныне весь формальный строй его существования твердо и неизменно определялся королевским приказом от 13-го марта 1833 г.; а частное, конкретное – определяет война (причем, для каждого данного периода, – та война, которую приходится вести в этот период). Отсюда одновременно – и строгая традиционность, непрерывность и бесконечная эластичность, изменчивость, – как бы органичность существования этого, единственного в своем роде, «военного монастыря».
Буйный, крутой монастырь, – но монастырь. Мне всегда казалось, что это слово глубже и существенней всего выражает основной тон жизни Легиона. Вседневное отречение странно роднится в душе легионера со вседневным разгулом. Это отречение начинается здесь с первого же дня, со дня «великого пострига» – на пять лет, что значит обыкновенно: на всю жизнь, ибо из Легиона не уходят, а уходящие возвращаются: скучно в миру. В этот день непроходимая черта ложится между прошлым и настоящим. Пришел ли сюда человек, чтобы забыть свое прошлое, чтобы искупить его, или просто потому, что некуда было идти – не все ли равно: с этого дня все прежнее существует только в воспоминаниях, и всякая связь с миром навеки порвана.
Устав тверд и прост. Как послушание даны – вседневный путь, служба, работа. Все предопределено, все предначертано. Но есть еще – радость боя, всегда новая и неожиданная; и есть короткое, острое забвение разгула. Должно быть, какая-то странная притягательная сила свойственна этой скудной жизни, если для многих тонко организованных людей со сложным и необычным прошлым (я знавал таких в Легионе) – всякая другая жизнь казалась бледной, запутанной и пресной.
Дисциплина Легиона, непрерывно выверяемая на деле, лишена догматического формализма с его неизбежным последствием – распущенностью. Все здесь определяется понятием целесообразности; поэтому самые крутые меры воздействия здесь допустимы, но малейшая некорректность попусту – строго наказуема. Вообще, приказывать в Легионе – при многообразии рас и резкой выраженности характеров – дело сложной психологической тренировки: нужен большой такт и большая зоркость к нюансам. Человеческий материал, над которым приходится здесь работать, – не рыхлый и липкий (мобилизованные молодые люди европейских армий), но крепкий, крутой, неподатливый: словом, – лучший материал для умелого мастера.
Значение каждого определяется, всецело и до конца, той функцией, которую он способен здесь выполнить. Поэтому дослужебное прошлое легионера никогда и ни в чем не принимается во внимание (хотя осведомленность о нем – необычайная). Отсюда же – абсолютное беспристрастие к расам и национальностям, подчеркнутое во всем до педантизма; одно только поприще мудро предоставлено национальной борьбе: это – соревнование (в бою, в работе, в службе – во всем); поэтому вся страстность национальных счетов всецело переносится в соревнование. (Вот знаменательный пример того, как здесь вековым опытом научились использовать всякую силу, всякую страсть, не подавляя ее, но давая ей твердое русло). Служебная иерархия очень устойчива: всякое звание – замкнутая и гордая своими привилегиями каста; но устойчив принцип, форма, а не материал, и поэтому малейшая провинность может отбросить всякого на самую последнюю ступень иерархической лестницы. Отсюда – соревнование, постоянный отбор, непрерывное освежение кадров: «les galons, – on ne les donne pas, on les piéte»[4]4
Здесь: Нашивки даром не даются, их выслуживают (фр.)
[Закрыть] – гласит поговорка.
He забудем, что при пятилетнем контракте военная служба – уже не переходная стадия, а ремесло, выбранное вольно или невольно, но – надолго, чаще всего – на всю жизнь. Здесь – служба а longue haieine[5]5
Здесь: долгая, требующая серьезного напряжения (фр.)
[Закрыть], здесь медленная и упорная выучка может подлинно переделать человека до конца и создать из него – солдата.
Наконец, непрерывная война и поход – это жизнь, требующая твердой спайки. Но где найти эту спайку людям, у которых все разное: национальность, язык, прошлое, убеждения? Значит, надо искать ее – вот, помимо всего этого.
Так – в этой замкнутой среде, отрезанной от всего мира, из взаимодействия всех этих условий организации и быта, из напряженного искания общего, связи – возникает и крепнет тип легионера римского, существенно связанный с исконным европейским типом конквистадора, кондотьера, ландскнехта. Это наемник-солдат, бродяга, которого обуздали и который дал себя обуздать, вольно приняв некое обязательство. Беспорядочный в нравах, в слове, в привычках, – он тверд до фанатизма в службе, в бою, в товариществе (товарищество и удальство искони были единственною моралью всех отверженных).
Большая часть службы легионера проходит теперь в Марокко. Почти вся жизнь его протекает в походе и под палаткой. Летом – с марта по ноябрь – это период продвижения, больших операций. Но за продвижением закрепления, за боем – труд. Современный легионер – солдат не в узкосовременном смысле, но, как когда-то римский легионер, он еще – каменщик, строитель, дровосек, пролагатель дорог, несущий начала строя и единства племенам Атласа и пустыни. О нем можно повторить слова, сказанные об одном славном колониальном вожде: «la route le suit et naÎt sous ses pas»[6]6
Дорога следует за ним и рождается под его ногами (фр.)
[Закрыть].
Поход для легионера – не исключительное состояние, но его быт, его жизнь: другой жизни у него нет. И все установлено так, чтобы в походе он мог найти все, что нужно для жизни. Поэтому, поистине, что-то римское там, где еще не ступала нога европейского победителя. Здесь есть все: дребезжащие зовы медных труб; торговцы и музыканты, куртизанки и заклинатели змей, танцовщицы и нищие, груды плодов на земле и, под пестрыми навесами, – многоцветные флаконы ликеров. Здесь, после веселого боя, ждет спешный и шумный разгул.
А завтра, до рассвета – вновь дребезжащий звук трубы, снова зной, крутые пути, привычный ремень винтовки на плече, бульканье разогретого вина в ржавой баклажке и, наконец, – снова бой.
Там, где война, – легионер всегда на своем месте: вспомним, что Маршевый Полк, на западном и ближневосточном фронте, вписал одну из славнейших страниц в обильную славою историю Легиона. Однако ближе, роднее всего легионеру – война колониальная: здесь сложились его определяющие черты. Психология колониальной войны – старая, извечная военная психология. Эту войну можно сделать основным занятием всей жизни. Это – «война для солдат», а не механическое взаимоистребление «вооруженных народов». Здесь нет этой преувеличенности во всем, этого действия компактными массами, этого исключительного трагического энтузиазма. Словом, здесь нет ничего «жертвенного» и пассивно-экстатического. Противоречивые и спутанные мотивы не осложняют и не отравляют здесь простой и здоровой радости боя, радости риска. Поэтому, война здесь – веселое и трудное ремесло. И если пережитые нами раньше войны создавали экстатических героев и неврастеников, то эта война создает – мужей.
Чем является Легион для большинства своего состава, для тех, кому не место было в Европе?
До прихода сюда они были ненужным, часто опасным элементом, который все равно должен был быть исключен из жизни, исключен – принудительно. Легион не только освободил от них общество, не только умел сделать их нужными, но (и это момент крайне существенный) позволил им и уйти, – свободно избрав свой путь и добровольно приняв на себя такое обязательство. Вот в чем основной моральный смысл Легиона.
И этот мотив добровольного выбора, это смутное, но сильное ощущение причастности своей к какому-то большому и трудному делу, этот строй жизни, который, ничего не подавляя, дает всему упор, направление и смысл, – все это заставляет многих любить Легион крепкой и простой любовью, которая показалась бы странной поверхностному наблюдателю.
Письма о слове
1. О произносимом словеЕсли вообще внутренний «тонос» культурного самоощущения эпохи является тою почвой, в которой коренится и которой питаемо всякое творчество, то в области словесного искусства эта истина особенно наглядна и неоспорима: и направление, и пределы индивидуального творческого почина здесь всецело предопределены языковым сознанием эпохи.
Многообразные причины, на которых здесь останавливаться не место, вызвали, по-видимому, за последнее десятилетие, глубочайший сдвиг в русском языковом сознании, – сдвиг, который в художественном слове выразился тем небывалым разложением, недоуменными свидетелями которого мы ныне являемся. Но во что разрешится этот сдвиг, и какие оздоровляющие факторы могут и должны вывести русскую поэзию из этого, казалось бы, безнадежного состояния?
* * *
Передо мною недавно вышедшая в Москве книжка профессора Сережникова (видимо, из профессоров новейшего советского производства) «Музыка слова» – первая часть руководства «Искусство художественного чтения». По всему тону, по наивной беспомощности метода, по убожеству путающейся мысли, – это явно продукт бойкота полуобразованности. Но тем показательней, тем отрадней, что эта, во многом почти комическая, книжка заключает в себе очень устойчивую и опирающуюся на поучительный опыт теорию художественного слова. Против большинства положений Сережникова, отвлекаясь от нелепости формулировок, – возразить нечего. Чувствуется, что это руководство не «плод уединенных размышлений», но просто старательная и неумелая сводка положений и методов, которые у автора были под рукой. Такая книжка, думается мне, могла возникнуть только в среде (а среда эта, видимо, полуобразованная масса), где восприятие поэзии стало прежде всего восприятием произносимого, звучащего слова. Работа Сережникова, повторяю, сама по себе совсем не интересна: общими проблемами автор, к счастью, почти не занимается, а его практические соображения отвлеченно давно были нам известны. Но ново то, что руководство это указывает на некоторое общее изменение в отношении к слову.
Если в этом проявляется не только случайный и преходящий интерес, то такое изменение может быть чревато неизмеримыми последствиями.
* * *
Дело в том, что вопрос о произнесении стихов вовсе не сводится только к установке «приемов интерпретации голосом произведений поэзии». Поэзия, вне реального звучания указующих и определяющих слов, так же мало существует, как музыка – вне реального наличия чистого и беспредметного звука. Поэтому, проблема произносимого слова есть проблема поэзии вообще.
То, в какой мере, в данную эпоху, брали слово как живое и звучащее, определяет, в существенном, весь облик словесного творчества этой эпохи. С этой точки зрения, вся история новой европейской поэзии может быть истолкована как непрерывный процесс перехода от слова произносимого, реально звучащего, к слову мыслимому, читаемому «про себя». Слушатель постепенно вытесняется читателем. Живое звучание становится лишь сопровождающим чтение воспоминанием звучания; и чем дальше – тем это воспоминание все спутаннее и бледней.
Не то, чтобы поэты меньше заботились о звуковой стороне стиха; наоборот, музыкальные элементы оттеняются и подчеркиваются ими с особенной, почти болезненной настойчивостью: романтизм и символизм испуганно и жадно оберегают замирающую музыку (и сколь многое в поэтике обеих школ уясняется нам как такое «оберегание»). Но это все – лишь выражение того же процесса.
* * *
Поэзия построяет свой объект во времени, и потому стихотворение есть необратимый, непрерывный, как бы одним дыханием развертываемый динамический ряд, ни в одной точке которого нельзя произвольно замедлить, остановиться, оглянуться. Так мы и воспринимаем стихотворение, когда его слушаем: оно здесь может быть обозреваемо лишь непрерывно и в одном направлении, внутренний темп восприятия всецело определяется конкретным темпом самого стихотворения.
Задержка, возвращение, произвольное замедление – разом вырвали бы нас из живого восприятия динамически нарастающего ряда, и все внутренние и структурные соотношения пьесы оказались бы нарушены. Но это именно и происходит, если мы читаем стихи про себя. Непрерывный динамический и звучащий ряд подменяется соответствующей ему системой знаков, которую мы можем обозревать в любом темпе, и должны медленно истолковывать, перечитывая, сопоставляя, исходя при этом из любой точки и останавливаясь в любой точке. Выдвигается совершенно новый принцип восприятия и оценки, все соотношения ощущаются по-иному, удельный вес всех элементов меняется. Логический и смысловой элемент слова начинает преобладать, а звуковой присоединяется к нему как некая лишь представляемая, но не осуществляемая возможность; чтобы восстановить нормальное соотношение, поэт невольно должен искусственно затемнять первый, искусственно же выделяя второй (здесь последнее основание всех существенных положений символической и романтической поэтики).
* * *
Можно установить a priori основные признаки поэзии, рассчитанной на слушателя: крайне отчетливые и резкие структурные линии; логический остов достаточно твердый, чтобы не быть поглощенным музыкой (именно потому, что ей дана здесь вся полнота реального звучания); устранение всего того, что не может обладать действительностью при слуховом восприятии; отсюда – неравномерная смысловая заполненность стихов, материал, распределенный массивными глыбами, моменты полутени и отдыха, стремительные подъемы и резко выделенные, ярко освещенные вершины – формулы. В такой поэзии музыка не может бояться логики, которой поэтому дана вся сила и вся острота (как напряженной диалектике трагических тонов), не позволяющая слову раствориться в стихии чистой, безудержной музыки.
Но все эти признаки, установленные a priori, не что иное, как реальные признаки античной поэзии.
Совершенно обратное наблюдаем мы в новой поэзии. Она рассчитана на читателя, и музыка поневоле должна оберегать себя здесь всеми средствами. Поэтому логический остов затушеван или упразднен, чтобы не заглушить этой, лишь мыслимой, музыки; структурные линии «смазаны», извилисты и капризны. Можно остановиться, замедлить, и оттого ритм – courte haieine[7]7
Короткого дыхания (фр.)
[Закрыть], и ритмические периоды резко отщелкиваются рифмой; отсюда же стремление к сплошной смысловой заполненности: всякая точка пути равно существенна, всякий эпитет должен быть значительным и определяющим («постоянный эпитет» был бы немыслим в такой поэзии). Это искусство тончайших узоров, которые надо рассматривать в лупу – внимательно, многократно и подолгу. В античной поэзии слушатель был властно вовлекаем в неодолимое течение динамического потока; в новой поэзии он сам, медленно и с усилием, вникает: она, застылая, раскрывается ему лишь в меру его собственной активности. Отсюда – «келейность» новой поэзии. Слуховая поэзия или, что то же, античная, – искусство с широко распахнутыми дверьми; новая – «работа на любителя»; двери ее узки и замкнуты: надо долго стучаться. Широкий жест здесь был бы смешон; старому пафосу – не место: он хочет полного голоса и спутал бы, изорвал бы паутинные узоры утонченной поэзии «для чтения про себя».
* * *
Но в реальном звучании, где все становится на свое место, где соотношение главного и второстепенного восстанавливается, – тончайший узор изобличает свой основной недочет: атомизм, отсутствие твердых линий и явственно выделенных доминант.
Заранее ясно, что при чтении вслух произведений новой поэзии неизбежна следующая дилемма: либо давать полноту выражения звуковым элементам (и тогда структура, логика, смысл – все тонет в звучании, поэзия, теряя свой указующий и предметный характер, становится ублюдочною музыкой); либо, чтобы восстановить должную пропорцию, искусственно умалять полноту музыкальной стихии (и тогда поэзия становится дурною прозой).
Таковы и в действительности два господствующих типа декламации, оба равно неприемлемые. Искать между ними третьего – бесполезно, просто потому, что новая поэзия создана не для слушателя. Но показателен тот факт, что в наши дни господствует именно первый тип декламации, и что здесь почти совсем отказались от искусственного восстановления нормальной пропорции путем умаления ее первого члена – музыки. Это указывает, что назревает потребность восстановить пропорцию по существу, что возможно, лишь если поэзия, всецело и до конца, станет искусством целостного слова.
* * *
Итак, «мыслимая» поэзия, умаляя звук, умаляла и смысл; и слово, в его двоякой сущности – звучащей и указующей, – медленно умирало. Подменив его ускользающим призраком и стараясь удержать призрак, – измельчали твердый остов логической структуры, отвергли начало строя и строгости. Так, через пресловутое «de la musique avant toute chose»[8]8
Музыки прежде всего (фр.; первая строка стихотворения Поля Верлена «Поэтическое искусство»).
[Закрыть], мы носили и дальше:
И подлинно, в современной русской поэзии (за немногими и мало показательными исключениями) все расползлось в пену и муть. Но самые крайние, якобы «чисто звуковые опыты», вплоть до «заумного языка» и нечленораздельных звучаний футуризма, предполагают забвение именно реального звучания и, в конечном счете, черпают всю свою силу в старой истине: «бумага все выдержит».
Отсюда только один выход: возвращение к поэзии как к искусству произносимого слова. Только здесь целостное слово – полно звучащее и властно определяющее – вновь станет подлинным материалом поэзии. Но это не только выход, это и путь – путь к искусству «с широко распахнутыми дверьми», то есть к новому классицизму.
Но можно ли надеяться, что русская поэзия вступит на этот путь? Не знаю, но дальше идти по старому пути, казалось бы, некуда… А положительные основания для надежды я нашел, как это ни странно, в смешной книжке профессора Сережникова, самоуверенно поучающего студисток о том, как надо читать стихи.








