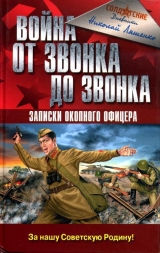
Текст книги "Война от звонка до звонка. Записки окопного офицера"
Автор книги: Николай Ляшенко
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 38 страниц)
Счастливо развертывая плащ-палатку, я приготовился лечь, но следом вошли начальник штаба полковник Алексеев и комиссар дивизии полковой комиссар Шаманин. Пришлось потесниться. Улегшись втроем, мы немного согрелись и тут же крепко заснули.
Проснулся я от сильного холода, меня трясло будто в лихорадке. Сон и усталость как рукой сняло! Я не вышел, а буквально выскочил их этого холодильника и принялся бегать, прыгать, совершать самые сложные физические упражнения – только бы согреться!
Вслед за мной из блиндажа вылезли начальник штаба и комиссар. Увидев меня, они расхохотались. Но, взглянув на их лица, я тоже не выдержал – оба были черные, как негры. Поняв, что я смеюсь по той же причине, они осерчали, лица их стали серьезными, даже злыми. Кажется, они тоже поняли, что подшутили над нами связисты, для освещения они жгли телефонный кабель, а «провод Гуппера» сильно просмолен, горит-то он ярко, но образует много сажи, которая, распространяясь по блиндажу, оседала, украсив нас не только снаружи, сажа забилась нам в рот, нос и уши. Вынув носовые платки, мы принялись вытираться. Вскоре наши платки стали похожи на скомканную копировку, но лица от этого не сделались краше: сажа въедалась в поры и от растирания наши физиономии заблестели, как лакированные. Да, без мыла от сажи не отделаться. Достав из полевой сумки кусок туалетного мыла, я стал умываться снегом, предложив мыло и соседям по блиндажу.
Полк уже вытянулся в походную колонну. Штабная группа дивизии задерживалась на месте, я пошел вместе с полком.
За все время наступательного похода впервые выдался погожий день – на небе ни тучки, и солнце светило так ярко, что, отражаясь от снега, резало глаза. И впервые за последние три месяца появилась авиация противника. Теперь следовало идти, минуя открытые поляны, укрываться от воздушного наблюдения, что значительно удлиняло наш путь, а лес, как назло, становился все реже, а большие открытые поляны стала попадаться все чаще. Однако мы шли, вероятно, в зоне, которая меньше интересовала противника, а, возможно, нам действительно удалось скрыть свое движение от немцев; во всяком случае нас они не бомбили, досталось частям значительно левее нас.
К вечеру мы сосредоточились в окрестностях села Черницы и с ходу завязали бой – и уже через несколько минут нас бомбила эскадрилья легких бомбардировщиков. Очевидно, оборонявшая село группа вовремя запросила поддержки, сообщив наши координаты. К счастью, бомбежка не причинила нам никакого вреда, помимо воздействия на нервы.
Между тем лыжный полк майора Смирнова, пройдя незаметно лесами, значительно опередил нас и, форсировав речку Пчевжа севернее села Черницы, вышел во фланг немецкой группе, засевшей в этой и другой деревне, на противоположном берегу реки. Одновременно подоспел артиллерийский полк и открыл орудийный огонь по обоим населенным пунктам.
Почуяв недоброе, немцы под покровом темноты поспешно оставили село. К двадцати часам мы стали занимать Черницы, а полк Смирнова очистил от немцев деревню на другом берегу.
Преследуя отступающего противника, оба полка покинули населенные пункты, их место незамедлительно начали занимать батальон связи, саперный и тылы полков.
Мы встречаем Новый, 1942 год
Я остался в селе Черницы ожидать прибытия политотдела дивизии, но его все не было, и, встретив свой родной саперный батальон, я присоединился к нему. Батальон, перейдя широкую пойму речки Пчевжа, разместился в деревне, находившейся на другом ее берегу. Деревня вытянулась единственной кривой улицей вдоль берега с юга на север. Все дома были почти целы, но большинство стояло без окон. Жителей в деревне не оказалось, и было видно, что покидали они село поспешно и совсем недавно, скорее всего их внезапно выгнали немцы, в домах остались нетронутыми все продукты, что случалось очень редко.
Штаб батальона занял большую избу на южном конце деревни. Нижний полуподвал дома почти у каждого жителя этих мест Ленинградской области, как правило, является кладовой, где хранятся все запасы продовольствия. В штабной избе солдаты обнаружили в полуподвале много картофеля, свеклы, моркови, квашеной капусты, огурцов и прочих овощей. В сарае, вплотную пристроенном к дому, оказалась большая поленница дров. Налицо были все условия для спокойной зимовки населения, но фашисты лишили людей этого счастья.
Зато наш знаменитый повар Миша Токарев, бывший инспектор общепита в Крыму, пришел в восторг. Все у него было, и он смог развернуть свой талант. Затянув разбитые окна плащ-палатками, солдаты затопили русскую печь, плиту и взялись активно помогать Мише Токареву.
Потрескивая, жарко горели дрова в русской печке, на плите, кипя в масле, жарились картофель и отбивные, в большой кастрюле варились жирные щи. На кухонном столе уже красовались пирожки с мясом, сдобные булочки и прочие домашние вкусности, а на большом эмалированном блюде, обнаруженном в подвале, высилась внушительная горка красиво оформленного винегрета. Ароматный запах первоклассного ресторана заполнил весь дом и, несмотря на усталость, никто не спал. Мы готовились торжественно встретить Новый, 1942 год.
Наступил последний час 1941 года, принесшего нашей стране столько бедствий и нежданных смертей тысяч и тысяч ни в чем не повинных людей. Что принесет нам Новый, 1942 год? На этот вопрос теперь, кажется, мог ответить каждый. Конечно, борьбу. Хотя разрекламированный фашистами на весь мир пресловутый «блицкриг» провалился, и от Москвы, Ростова-на-Дону и Тихвина немцы бегут, все-таки – вся борьба еще впереди. Но в груди каждого воина зрело чувство, что наша Красная Армия, как долго дремавший великан, только расправляется, разминает свои мускулы и, кто знает, какие чудеса героизма она еще покажет?
С таким чувством мы садились за первый фронтовой новогодний стол. Обильный, он был накрыт на довольно внушительную компанию. Посередине красовались медные и алюминиевые солдатские котелки, эмалированные и алюминиевые кружки. Однако ножей, вилок и ложек на столе не было. До решительной «схватки» эти орудия надежно укрывались в полевых сумках, вещмешках, карманах или за голенищами. Все было готово, и мы расселись по чинам за двумя большими столами. Во второй комнате напротив открытой двери тоже стояли загруженные столы, за которыми также сидели солдаты, сержанты и офицеры. В обеих комнатах горели уже не коптилки, а где-то найденные фонари «летучая мышь» со стеклами. Иллюминация была почти торжественная.
Время приближалось к полуночи, а начальника хозяйственной части лейтенанта Капитонова все еще не было. Командир батальона капитан Рыбников, то и дело посматривал на часы. Три минуты оставалось до Нового года, а Капитонова все нет. А ведь водка-то у него!
Командир, заметно нервничая, встал и с какой-то обидой начал:
– Ну что ж, товарищи, наверное, нам суждено встретить этот Новый год на сухую...
И тут дверь широко открылась! На пороге появился запыхавшийся, но радостный Капитонов в сопровождении старшины и двух солдат – и все с бутылками в руках! Новый год мы встретили по русскому обычаю – очень весело и хорошо.
Проснулся я от холода. Спустив ноги, сел на койке и первое, что увидел: плащ-палатка на окне прямо напротив моей койки была вся изорвана, в отверстия пробивался яркий солнечный свет и струился мороз. В доме было пусто. В чем дело? Что случилось? Где люди?
Поняв, что произошло неладное, я быстро оделся, проверил пистолет, гранаты и осторожно, тщательно осматривая все закоулки, вышел во двор. На улице было ясно и морозно. Над лесом южнее деревни кружились вражеские бомбардировщики, сбрасывая бомбы. Вдруг кто-то меня окликнул. Из-за угла выглядывал Миша Токарев, он стоял по пояс в свежевырытой щели, с лопатой, и с ним двое солдат, которые продолжали усердно углублять щель. А метрах в десяти от дома зияла свежая воронка от авиабомбы, на дне ее уже собиралась вода.
– Ох, как же вы крепко спите, – качая головой, укорил меня Миша. – Чуть дом не снесло взрывной волной, осколками весь изрешетило, а вы спите себе и хоть бы что. Наверно, сильно вы наморились, – он участливо посмотрел на меня.
Да, усталость была огромной, и впервые за две недели непрерывных наступательных боев и переходов мне удалось уснуть в тепле. Оттого и сон был таким глубоким.
ПЛАЦДАРМ. ЯНВАРЬ – АПРЕЛЬ 1942
Пушка выручила. «Братцы! Помогите, я умираю». «Вот так закурили...» При свете коптилки. Подарки фронтовикам. Предатель генерал Власов. Боевой гарнизон плацдарма. Гитлер – капут! Боевая подготовка. А противник все молчал. В политотделе дивизии
Пушка выручила
Гитлеровцы отступили за Волхов почти на всем протяжении реки и укрылись за сетью созданных заблаговременно мощных узлов обороны, цепью дерево-земляных долговременных укреплений. В треугольнике Мга – Кириши – Чудово важнейшим для немцев был Киришский узел обороны, так как он представлял собой очень важное пересечение железнодорожных, шоссейных и водных путей сообщения, в силу чего являлся и важным плацдармом для наступления. Здесь немецкое командование и сосредоточило самую мощную группировку своих войск.
Эту группировку питала железнодорожная линия Чудово – Кириши, проходившая по левому берегу реки Волхов и находившаяся в полном распоряжении немцев. Необходимо было лишить Киришскую группировку врага этого важнейшего пути сообщения, вынудить противника доставлять все необходимое через болота, леса, ручьи и речки, а в случае операции и вовсе отрезать группировке возможные пути отступления. Наше командование решило во что бы то ни стало перерезать эту линию.
Местом для операции был избран район села Черницы, где река Пчевжа, разбившись на множество рукавов, довольно широким фронтом впадала в Волхов. Для форсирования Волхова место было самое удобное – оба берега низкие, к самому руслу подступают густой лес и кустарник: достаточно перебежать метров триста-четыреста по льду – и ты укрыт в лесу. Правда, преодолеть эти триста-четыреста метров значило играть со смертью.
Разгадав замысел нашего командования, противник усилил группировку, перебросив все свои резервы, в том числе танки и бомбардировочную авиацию. Завязались упорные и кровопролитные бои. Три дивизии участвовали в этой операции с нашей стороны. Не меньше сражалось и со стороны немцев. Днем и ночью за Волховом гремела канонада, немцы оказывали бешеное сопротивление, то и дело контратакуя нас, не считаясь с потерями. Бои продолжались всю первую половину января, прежде чем нашим войскам удалось, наконец, выйти к железной дороге и оседлать ее, преодолев расстояние в пять-шесть километров в глубину и столько же по фронту.
Политотдел дивизии все это время оставался в селе Черницы. Поселились мы на краю села, дом состоял из трех комнат и, в отличие от других, был приземистым и широким. Обитали в нем не столь уж старый хозяин с женой и не столь уж молодая их дочь-учительница. Были ли они действительно родственниками, трудно сказать; не доверять им не было оснований: пили, ели и жили они вместе, общались друг с другом по-домашнему, – и все-таки они казались нам слишком разными. Подозрительным было и то, что, кроме этой семьи, никого в селе не было. Оказалось, жители прятались в окрестных лесах и лишь спустя несколько дней, узнав, что село освобождено, начали постепенно возвращаться в свои дома. В общем, странная была семья, и мне она не нравилась, хотя находиться в политотделе мне случалось редко.
Наши войска вели бои в глубине плацдарма, и второго января я отправился за Волхов, на передовую.
Переход через Волхов был совсем небезопасен, так как на обоих флангах наших наступающих войск находились еще живые фашистские дзоты, откуда велась пулеметная стрельба по всему, что показывалось на льду. К тому же их артиллерия вела массированный огонь по переправе – ломая лед, и по местам скопления наших войск на правом берегу. Ночью, в пургу удавалось проскочить незамеченными, но погожим днем было очень опасно.
Выйдя к реке, я увидел на самом берегу наших артиллеристов, они вкапывали пушку в небольшой холмик, поросший кустарником, для стрельбы по дзотам прямой наводкой. За холмиком и в соседней роще скопилось много подвод с боеприпасами и продовольствием, но переезжать реку никто не решался, на льду уже лежало несколько убитых солдат в белых маскхалатах и несколько ездовых с лошадьми. На берегу коченели еще две убитые лошади, запряженные в сани, груз на санях, добротно увязанный, сохранился в целости, но людей возле, ни живых, ни мертвых, не было; видно, сумели вовремя уйти из-под обстрела. Подальше, ближе к середине реки, на льду стояли порожние розвальни с вмерзшими в лед оглоблями и дугой, из-под которой, оскалив зубы, торчала мертвая голова лошади; провалившись в свежезамерзшую полынью от снаряда, лошадь зависла в хомуте на оглоблях и так, живой, вмерзла в лед. Метров двести вниз по течению на середине реки лежали тела двух наших убитых разведчиков, словно предусмотрительно завернутые еще при жизни в белый саван.
Немецкие дзоты были ясно видны. Они метра на три возвышались над землей, как степные курганы скифов. Расстояние между ними было невелико, всего каких-нибудь два-три километра, однако оба дзота стояли на местах, где река делала крутой поворот, вследствие чего из них хорошо обозревались широкие ледяные дали реки как вверх, так и вниз по течению. Река в этом месте была полноводна и широка. Лед находился почти на уровне берегов, и густые лиственные и хвойные леса плотно подступали с обеих сторон, надежно укрывая войска от воздушного и наземного наблюдения. Особенно опасным и активно действующим был правый дзот, потому что он стоял у самого берега и близко к месту переправы, оттуда хорошо было видно наше передвижение по льду, из него-то в большинстве и подстреливали нас гитлеровцы. Левый дзот располагался несколько в глубине леса, из него наш берег был виден только напротив, середина реки не просматривалась, поэтому для переправы он был менее опасным.
Установив орудие, артиллеристы открыли интенсивный огонь сначала по правому берегу. Воспользовавшись этим огнем, я бегом устремился через реку. Из левого дзота тотчас же открыли по мне огонь, но пули свистели уже позади. Добежав до лежавших на льду убитых лошадей, я упал между ними и осмотрелся. Правый немецкий дзот уже молчал, левый все еще вел пулеметный огонь длинными очередями по холмику, на котором была вкопана наша пушка, стараясь вынудить артиллеристов прекратить огонь. Лежа на льду, я хорошо видел, как за холмиком, согнувшись, бегали ездовые, укрывая лошадей от пулеметного огня; как после каждой пулеметной очереди на холмике вздымались целые стайки серых фонтанчиков, но артиллеристы огня не прекращали. Развернув орудие влево, они хлестко ударили по левому дзоту, заставив и его замолчать. Вскочив, я побежал дальше. Перебежав на противоположный берег реки, я увидел почти ту же картину, что на правом, только без пушки. Множество порожних подвод скопилось в прибрежном лесу, не решаясь переезжать реку, но здесь на многих санях лежали раненые, коченея от холода; кровь, сочившаяся из ран, замерзала сосульками на их одежде, некоторые уже не подавали признаков жизни, другие, стуча зубами, умоляли ездовых скорее доставить их куда-нибудь в тепло. Сгрудившиеся вокруг меня ездовые, перебивая друг друга, спрашивали:
– Ну как, товарищ старший политрук, можно проехать?
– Да, кажется, теперь уже можно, – ответил я.
Но никто не решался рискнуть первым. Окинув взглядом лошадей, я выбрал одну, более шуструю и крепкую, и подозвал ее ездового:
– У вас одна или две лошади?
– Одна, – спокойно ответил ездовой.
– Поезжайте вы первым, – приказал я ездовому. – Дзоты, кажется, оба разбиты, а в случае чего, вам помогут артиллеристы, они строго следят за этими дзотами.
Ездовой не стал отговариваться. Вскочил в сани и, стоя, погнал лошадь галопом. Дзоты, оба, молчали. Глядя вслед только что укатившему от нас смельчаку, мы вдруг увидели на середине реки нашего офицера в почти парадной форме; небольшого роста, молодой, румяный, он быстро шагал по льду, четко печатая красивый строевой шаг, от быстрого, широкого шага полы его шинели разлетались в стороны, полевая сумка, набитая чем-то до отказа, болталась на поясе, как колокол. Шел он быстро, но спокойно, размеренно, было видно, что он куда-то спешил и, кажется, весь уже был там, в месте назначения. Окружавшие меня ездовые с затаенным дыханием смотрели на офицера, спокойно идущего через реку, каждую минуту ожидая... А офицер, не обращая ни на что внимания, хладнокровно и скоро шел по льду, приближаясь к нашему берегу. Это зрелище настолько воодушевило ездовых, что они тут же вскочили в сани и на рысях погнали своих лошадей к другому берегу.
Немецкие дзоты умолкли навсегда. Безопасность переправы была обеспечена.
«Братцы! Помогите, я умираю»
– Лейтенант Александров, – подойдя, представился офицер и сразу спросил: – Не скажете ли, товарищ старший политрук, где я могу найти полк 1080?
– Я и сам еще не знаю, где он, – ответил я. – Пойдемте вместе, он и мне нужен, будем вдвоем искать, хотя я тоже здесь первый раз, но части знаю, это наши части, нашей дивизии.
Офицер охотно согласился. Мы вышли на широкую дорогу, идущую через замерзшее болото к передовым позициям, и сразу попали в большой встречный поток порожних подвод, ехавших за новыми грузами. Обгоняя друг друга, ездовые спешили поскорее выскочить за Волхов, так как по площади плацдарма немцы били из всех видов оружия и регулярно бомбили его по несколько раз в день. Все обширное болото было перепахано снарядами и авиабомбами, дорога виляла между воронками, кое-где попадались маленькие рощицы редких чахлых елочек, но и они являлись некоторым укрытием от воздушных пиратов. Укрываясь в одной из таких рощиц от налета, мы неожиданно встретили еле-еле бредущего раненого солдата. Высокий, стройный, аккуратно одетый, с гордо поднятой головой он шел как слепой, от чрезмерной потери крови и сил его уже бросало из стороны в сторону. Ухватившись за елку руками, он вдруг остановился и с дрожью в голосе обратился в пространство:
– Братцы! Помогите добраться до ближайшего медпункта, я умираю.
Лица у него не было, оно все было изорвано и обмерзло кровавой маской, сосульки из крови покрывали всю грудь, полы шинели.
– Вы что-нибудь видите? – спросил я, когда мы поспешили ему на помощь.
– Немножко левым глазом, а правый совсем заплыл, – спокойно ответил солдат.
Порожние подводы на рысях пробегали мимо, ни одна не остановилась, чтобы помочь раненому.
– Место уж больно опасное. Видите, как бешено бьют немцы, – ответил нам ездовой, когда мы остановили его, чтобы уложить раненого на сани.
Действительно, интенсивность обстрела все возрастала, над нашими головы со страшным визгом проносились снаряды и рвались тут же, неподалеку, сотрясая землю и воздух; укрываясь от них, то и дело приходилось нырять в свежие воронки – но нельзя же этим оправдывать бездушие!
Отправив раненого, мы двинулись дальше. По дороге лейтенант рассказал, что окончил курсы «Выстрел» и теперь с назначением командира роты идет в полк, который он мне назвал. По разговору я понял, что по национальности он не русский, откуда-то с севера, коми-зырянин или чуваш. Мы прошли километра три-четыре, но знакомых я пока никого не встретил. Из расспросов встречных мы узнали, что на этом участке бой ведет 66-я дивизия, а слева от нее работает 3-я Гвардейская, следовательно, нам необходимо податься вправо. Свернув, мы пошли по направлению к большому лесу, темной стеной подступавшему к болоту, и здесь нашли наконец свою дивизию. Таежный лес был до предела забит транспортом, складами и солдатами, которые быстро растаскивали по блиндажам и землянкам сухой валежник, бурелом, здесь этого добра было немало. Но искомого полка здесь не оказалось, он был все еще где-то впереди.
«Вот так закурили...»
Только к концу дня мы добрались до КП полка, и уже ночью связные отвели нас в 1-й стрелковый батальон, где меня встретили как старого знакомого. Александрова после короткого знакомства отвели в роту, куда он был назначен, а я остался на КП батальона. Командир батальона Гайворонский, теперь уже капитан, все еще командовал своим батальоном, а вот комиссар был у него другой – мой довоенный друг, политрук Магзумов.
Молодой, энергичный и умный человек, Магзумов обладал поистине чудесным, мягким и каким-то объемным человеческим характером. Его нельзя было увидеть злым, сердитым или даже хмурым – никогда! Его лицо всегда сияло еле заметной и, кажется, свойственной лишь ему одному радостью, улыбкой. Преданнейший коммунист, неподдельный патриот, он до конца отдавал все свои силы, знания, способности делу, на которое его поставила партия. Казах по национальности, он любил русский язык и очень хорошо владел им, и лишь иногда можно было уловить легкий акцент.
Незадолго до начала войны Магзумов демобилизовался из рядов Красной Армии в звании помкомвзвода и стал пропагандистом, работали мы в одном отделе, и я, как старший по возрасту и по службе, всегда ему помогал, стараясь воспитать в нем сознательное отношение к делу, вдумчивость, критический анализ явлений жизни. Глядя теперь на возмужавшего, стройного, подтянутого офицера Красной Армии, я душевно радовался за своего брата-казаха Таласа Магзумова.
Рад был такому помощнику и командир батальона, было видно, что уважал он своего комиссара искренне, непритворно, они даже есть не могли порознь, один никогда не садился за стол без другого.
В землянку комбата были вызваны парторги рот и агитаторы, которым я рассказал о международном, внутреннем и военном положении нашей страны, о великом и символичном разгроме немцев под Москвой, на юге страны и здесь, под Тихвином, где дерутся и казахские дивизии, одна из которых, 316-я Панфиловская, стала легендарной. Потом выступали парторги и агитаторы рот, они наперебой убеждали меня, что и воины нашей дивизии не отстают от своих легендарных собратьев, перечисляли своих героев, восхищаясь их мужеством, стойкостью, солдатской выносливостью, – и я этому верил, потому что я все это сам видел и знал.
Под утро мы разошлись по ротам, где провели среди солдат беседы на те же темы. Настроение у солдат и офицеров было хорошее, чувствовалось, что все они борются с врагом с полным сознанием долга, не было здесь ни хлюпиков, ни опустившихся. Принимая живое участие в беседах, солдаты расспрашивали не только о событиях на фронтах и в тылу, их интересовало, кажется, все и на всем белом свете, и они с энтузиазмом на все реагировали. Меня поражала их неуемная любознательность! Говорил ли я о крепнувшем военном хозяйстве нашей страны, или поднимавшемся мощном партизанском движении и движении Сопротивления в странах, порабощенных фашизмом, или рассказывал об успехах нашей армии на отдельных участках фронта, или о помощи союзников – все их интересовало, все для них было важно.
Утром, сидя на корточках в мелкой еще траншее, я разглядывал ничейную территорию, то есть пространство, лежащее между передовыми позициями противников. Здесь еще не было глубоких и хорошо оборудованных позиций ни с той ни с другой стороны, не было ни минных, ни проволочных заграждений; здесь противников разделяла только высокая насыпь железнодорожной линии, но именно овладение этой насыпью и было той заветной мечтой командования нашего фронта и армии, ради которой сражались здесь целых три дивизии.
Итак, одна задача была выполнена – мы пробились, вышли к железной дороге. Но бои не только не прекратились, они даже не утихали. Вкопав танки в железнодорожную насыпь, немцы буквально заливали огнем наши позиции. Выбить же их из насыпи было очень трудно. Даже прямой наводкой из пушек полковой артиллерии взять их было невозможно, так как с противоположной стороны танки до самых орудийных башен были закопаны в насыпь, только ствол пушки лежал на рельсах, а пулеметчики вели огонь либо из-за башен тех же танков, либо из оборудованных в насыпи огневых точек.
Густой лес, в котором находились наши окопы, оканчивался впереди окопов метрах в двадцати-тридцати, дальше шла полоса отчуждения, вся вырубленная и расчищенная от лесин. Невысокие голые пни, торчащие на всей полосе, напоминали, что недавно здесь стоял такой же густой лес, как тот, в котором мы находимся. Слева виднелся виадук, под ним протекал ручей, а вправо вдоль линии тянулась открытая полоса отчуждения.
Ознакомившись с обстановкой и положением наших передовых позиций, я поговорил с командирами, политруками и парторгами рот.
– Возможно, – сказал я, – нам предстоит воевать здесь еще долго. – И посоветовал: – Следует поглубже зарыться в землю: укрепить и благоустроить все огневые точки, углубить и удлинить ходы сообщения и как можно лучше укрыть и обезопасить жилые землянки. Нужно сделать наши огневые точки, блиндажи и землянки неуязвимыми хотя бы для снарядов и мин среднего калибра. В то же время необходимо непрерывно – и днем и ночью, вести огонь по фашистам из всех видов оружия, не жалея патронов, не давать им возможности поднять головы: мы должны заставить их ползать на брюхе по нашей земле, а не расхаживать в рост – вот наша задача.
Через два дня я снова был на КП полка. С самого утра немцы открыли усиленный огонь. Били они слепо, по площадям, но так как сам плацдарм был еще небольшим, даже этот слепой огонь причинял нам немало вреда. А следом появились целые эскадрильи бомбардировщиков. Наш лес гудел, стонал и трещал.
Я сидел на КП полка, который представлял собой длинную землянку, наполовину врытую в землю (глубже не позволяла грунтовая вода), верхняя половина стен была выложена из торфяника. Накат был очень слабым. Вход в землянку завешен плащ-палаткой. В проходной части слева было вырыто углубление примерно на два штыка, справа возвышались земляные нары, покрытые толстым слоем еловых веток; в переднем левом углу на вбитых кольях был сооружен маленький столик для телефона и небольшой коптилки; выкопанная в стенке небольшая ниша приютила железную печку, в которой ярко горели сухие дрова.
Комполка подполковник Смирнов сидел на нарах с телефонной трубкой возле правого уха, облокотившись на стол, и время от времени покрикивал в трубку, управляя боем. Рядом с командиром сидел, свесив ноги, комиссар полка батальонный комиссар Коровенков, возле него, ближе к выходу, цепочкой расположились на нарах начальник штаба полка и его помощники, я сидел третьим от входа, за нашими спинами, привалившись к стене, полусидел секретарь партбюро полка. Грохот обстрела и бомбежки настолько въелся в каждого, что перестал вызывать хоть какое-то возбуждение, а стоявший в землянке полумрак постепенно навевал дремоту, видно, поэтому сразу несколько человек, будто сговорившись, одновременно изрекли:
– Ну, давайте закурим!
И в это же самое мгновение в дверях прогремел оглушительный взрыв. Взрывной волной погасило свет, всю землянку забило пороховыми газами, от опрокинутой печки распространялся едкий, удушливый дым, все кашляли и кричали:
– Зажгите свет! Дайте свет!
Потом стали появляться голоса:
– Меня ранило!
– Дайте санитара!
– Давайте скорее свет!..
Кто должен давать этот свет, этих санитаров, никто толком не знал. В темноте все кричали, суетились, толкали друг друга, задыхались от газа и дыма, но никто не предпринимал радикальных мер к ликвидации бедствия. У меня тоже жгло руку выше левой кисти. Превозмогая боль, я быстро достал из брючного кармана спички, почти по головам пробрался к столу, поднял опрокинутую коптилку и зажег свет. ПНШ[9] 9
ПНШ – помощник начальника штаба.
[Закрыть] по разведке, оборвав плащ-палатку, закрывавшую вход, быстро выбрасывал из землянки дымившиеся головешки и, размахивая куском плащ-палатки, выгонял из землянки газ и дым. В землянке немного посветлело, дохнуло воздухом.
– Санитара! Скорей санитара!.. – кричал комполка.
Он все еще сидел за столом, но прижимая левой рукой правую, а телефонная трубка, болтаясь на шнуре, висела под столом, возле нее лежала отрубленная кисть правой руки командира. Комиссар полка, сняв пояс и расстегнув полушубок, старательно заталкивал обратно в живот свои вывалившиеся кишки и тоже взывал к санитарам. Начальник штаба хватался за свою левую ногу, а уполномоченный особого отдела – за бок. Сидевший же за спиной командира полка секретарь партбюро лишь спокойно произнес:
– Вот так закурили... – и смолк.
Прибежали фельдшер и санитар. Они быстро перевязали командира, комиссара и других раненых. У меня же оказался лишь кровавый подтек, вздувшийся черной шишкой, фельдшер примочил ее каким-то раствором и наложил на руку повязку.
Пока возились с ранеными, никто не замечал спокойно сидевшего на своем месте секретаря партбюро, и только когда увели всех раненых, мы обратили на него внимание и с ужасом убедились, что он мертв. Мы были поражены: когда же он успел проговорить «вот так закурили»? Я вскочил и побежал на ППМ[10] 10
ППМ – полковой (полевой) пункт медицинской помощи.
[Закрыть], чтобы сообщить о смерти секретаря партбюро. Когда сидевшие в ожидании транспорта раненые командир и комиссар услыхали о смерти секретаря, они никак не хотели поверить, удивлялись в один голос:
– Да не может быть! Мы же ясно слышали, как он уже после взрыва сказал «вот так покурили». – И тут же заторопили фельдшера: – Ну-ка сходите узнайте, правда ли это?
Вернулись с фельдшером на КП, раздели убитого и стали осматривать. На левой стороне груди, прямо напротив сердца, обнаружилась единственная маленькая ранка, будто пробитая гвоздем, из которой струилась еще горячая кровь.
Удивительный, редкий случай, чтобы человек с пробитым сердцем еще мог говорить.
Принесли носилки, и мы бережно вынесли тело секретаря партбюро полка. Его отвезли в село Черницы и там похоронили на кладбище со всеми воинскими почестями.
Прощаясь с фельдшером на КП полка, я спросил о ранении комиссара полка, ведь я сам видел его распоротый живот. Фельдшер усмехнулся:
– Вы знаете, товарищ старший политрук, меня все чаще и чаще стала удивлять война. Только здесь, на войне, могут происходить такие неожиданные и самые невероятные, немыслимые случаи. Вы представьте себе: осколок мины так «аккуратно» распорол весь сальник живота комиссара, который у него, между прочим, достигает трех сантиметров, разрезал пленку живота – и не тронул ни одной кишки! А это гарантирует ему полное выздоровление. Конечно, если в рану не занесена инфекция.
Обрадовавшись такому обнадеживающему заключению, я горячо поблагодарил фельдшера:
– Вот и хорошо! И, будем надеяться, никакой инфекции!
При свете коптилки
Вскоре две дивизии ушли с плацдарма, а нашей дивизии было приказано укрепиться и не сдавать его врагу ни при каких условиях. Правый берег Волхова, от озера Ильмень до Киришей, был освобожден от фашистской нечисти, лишь в немногих местах немцы еще удерживали небольшие плацдармы на нашем правом берегу. Зато на левобережье наши плацдармы все увеличивались в числе и ширились территориально.








