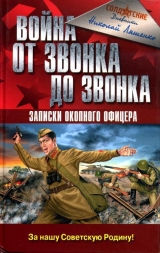
Текст книги "Война от звонка до звонка. Записки окопного офицера"
Автор книги: Николай Ляшенко
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 38 страниц)
МАЙОРИ
Все мосты через Западную Двину в пределах Риги были взорваны немцами, понтонная переправа сильно перегружена, пришлось нам воспользоваться лодкой. Переправившись на другой берег, мы оказались в новой Риге. Новая она, конечно, новая, потому что выросла на много веков позднее старой, но, к сожалению, в ней оказалось, как и в Старой, не так уж много прямых и широких улиц.
Только поздней ночью мы наконец добрались до Майори – и оказались в лесу. Разыскать что-то тут нелегко было бы даже днем, а мы явились среди ночи да к тому же впервые. Постоянных жителей тут, как видно, было мало, а в условиях войны, когда одна армия наступает, а другая бежит, их почти вовсе не было. Проблуждав несколько часов безрезультатно по пустым дачам, мы решили заночевать в одном из пустующих домов. Тщательно обследовав его снаружи, мы вошли внутрь. Первый этаж представлял собой нечто вроде гостиной, но сохранилось от нее только несколько изломанных стульев и столов. На втором этаже оказалось несколько комнат, густо уставленных железными койками. Отсюда лестница вела в мансарду. Поднявшись наверх, мы обнаружили маленькие комнатки, в одной из них стояли две никелированные кровати с пружинными матрацами, дверь закрывалась изнутри на массивный железный крючок, это нас устраивало, здесь мы и решили расположиться. Погасив карманный фонарь, я разделся и снял сапоги, вынул из кобуры пистолет, сунул его под голову, финку и две гранаты положил рядом – дело фронтовое, враг рядом и, может, бродит где-то в этом лесу.
Поднялись мы, как следует отоспавшись за несколько дней, часам к девяти утра и сразу пустились на розыски штаба. Бодрые и отдохнувшие, да среди дня, пусть и в незнакомом лесу, долго мы не искали. Обойдя еще несколько обособленных домов, мы вдруг оказались в целом мини-поселке – благоустроенном местечке со своим рестораном, клубом и, должно быть, некогда богатой, но ныне разграбленной и почти пустой библиотекой. Здесь мы и обнаружили управление корпуса.
Вероятно, это и был центр Майори. Судя по библиотеке – почти все книги были на русском, здесь жили наши соотечественники. Кто они были? Русские капиталисты и помещики, бежавшие от гнева революции? Или это были белогвардейцы, не имевшие средств бежать дальше? А может быть, здесь временно проживали предатели Родины, презренные власовцы? – в Латвии их было немало. Но, возможно, это были просто русские, которые, испугавшись революции, покинули свою родину и потом прозябали здесь, питаясь крохами, падающими с чужого стола. И таких в Латвии было немало.
Завязавшиеся бои за переправу и железнодорожный мост через Лиелупе задержали нас в Майори на несколько дней.
Что такое Майори? Город ли это, село, пригород? Оказалось – ни то, ни другое и ни третье. Это было просто-напросто географическое понятие – лесопарк, правда, с богатыми и даже фешенебельными строениями, но все-таки – лесопарк, не имеющий определенных границ и, соответственно, центра. На обширной равнине в междуречье Западной Двины и Лиелупе, поросшей густым, стройным лесом, раскинулось множество дач. Возводились они – каждая по индивидуальному проекту, и каждая была особой архитектуры. Иногда красивые, иногда неказистые – все они располагались в лесу и строились так, чтобы не повредить этому лесу. Вековые деревья, нетронутые, росли под окнами, у парадного подъезда, вокруг зданий и во дворах.
Трудно даже представить, как можно было построить эти двух– и трехэтажные дачи, не тронув ни единого лишнего дерева. Деревья выкорчевывались строго на месте фундамента, а все, что примыкало, но не затрагивалось зданием, было бережно сохранено и продолжало расти: деревья-великаны и средневозрастные, молодые и даже угнетенные, покорно доживавшие свой век. Даже дороги и аллеи прокладывались, чтобы оставить максимум нетронутых деревьев, – сохранить девственность природы. И это застройщикам и строителям, кажется, удалось. Было видно, что здесь дорожили каждым деревцем, каждым кустиком, любовно оберегая каждое как бесценный дар природы. Уж не знаю, как тут отнеслись бы к негодяям, которые бездушно и бессердечно вырезают на живом теле дерева имена своих друзей и любовниц. Здесь таких безобразий я не встречал. Деревья стояли чистые, омытые дождем, без единой царапинки. Это удивляло и радовало. Как все было организовано, кто заботливо расчищал, прореживал, осветлял этот лес, я не знал, но лес стоял чистый – ухоженный и прекрасный.
Заинтересовавшись библиотекой, я каждую свободную минуту отдавал ей. Копаясь в книжных шкафах и на полках стеллажей, я обнаружил здесь, так сказать, «цвет» русской литературы: «Жид» Достоевского, «Жена двух мужей» незапомнившегося автора, маленький сборник сальных и похабных стишков Сергея Есенина, множество детективных романов и сексуальной литературы современных буржуазных писателей, переведенных на русский язык. И лишь в дальнем, пыльном углу книжного шкафа неожиданно нашелся потрепанный томик басен Крылова, в нем хорошо сохранились портрет великого баснописца и маленькое редакционное предисловие; книжечка была без переплета и титульного листа, оторванных, видимо умышленно, каким-то пьяным забулдыгой, а может, и самим хозяином библиотеки, относившимся к произведениям Крылова так же, как ведомый нам петух – к жемчужному зерну.
Не знаю, было ли это специально подобранное для нас «литературное угощение», или это был обычный набор буржуазной библиотеки – но противно и гадко было даже держать в руках эту, с позволения сказать, литературу, а не то что ее читать. Однако находились и у нас читатели этой «литературы» – ничтожно мало, но все же были. Помнится, ею увлекался один солдат, работавший при штабе парикмахером, – эдакий юркий, пронырливый и всем интересующийся человечек; вот он, бывало, наберет целую охапку сексуальных романов, забьется куда-нибудь в темный угол и при свете коптилки целыми ночами предается своей страсти. Что это был за человек, трудно сказать, мы о нем мало что знали, разве лишь, что родом он из Киева.
РИЖСКОЕ ВЗМОРЬЕ
Бои за переправу через Лиелупе делались все ожесточеннее. В результате, наши войска, ведя борьбу за овладение железнодорожным мостом, одновременно успешно форсировали реку выше и ниже моста, и передовые части ворвались на Рижское взморье. Только теперь, почуяв беду, гитлеровцы кинули мост и бросились тикать в сторону Тукумса и Кандавы.
Рижское взморье – это дачное место, но застроено оно более плотно, чем Майори, и благоустроено по типу курортного городка. Здесь, как в любом курортном месте, было много зелени, цветов, но все – создание рук человеческих; далеко не то, что в Майори. Единственная улица взморья – асфальтированная, с бордюрами и, местами, с глубокими кюветами – тянулась по всему взморью на двадцать пять километров, ее часто пересекали глубокие, как противотанковые рвы, канавы, имевшие либо дренажное, либо канализационное значение. Через эти канавы были перекинуты мостики, все их, отступая, немцы повзрывали, а наведенные временные переправы были крайне ненадежны.
При переезде через одну из таких переправ в конце Рижского взморья из-за оплошности шофера перевернулся и упал в канаву вверх колесами автофургон административно-хозяйственной части корпуса и, загруженный доверху кухонной посудой и продуктами, всей своей тяжестью придавил молодого и жизнерадостного солдата, повара корпусной офицерской столовой. При наличии автокрана, машины с лебедкой или чего-то подобного в таком случае, возможно, и удалось бы спасти человека, но ничего этого не было, и, пока вручную откапывали, человек задохнулся. Так погиб нелепой смертью наш замечательный повар-солдат. Его похоронили неподалеку, под старой кудрявой березой.
Чудесный пляж Рижского взморья, тянущийся вдоль берега Рижского залива на несколько километров, чем-то напоминал Евпаторийский парк в Крыму, с той лишь существенной разницей, что здесь на пляжном песке росли могучие, вечнозеленые сосны, красочными группами они гурьбой разбежались по всему побережью, местами даже заглядывая в море, словно желая прикрыть наготу купальщиков и купальщиц своими тенистыми кронами.
Но мы не на курорт и не в лечебных целях прибыли тогда на Рижское взморье. Красивое и гостеприимное, когда на нем спокойно отдыхают советские люди, – тогда оно стреляло, и по нему тогда текла наша кровь, а некоторые из нас остались лежать там навечно. Слов нет, за Рижское взморье особенно упорных боев не было, но без крови враг его не отдал.
Преследуя противника, мы уходили все дальше и дальше вперед, оставляя Рижское взморье его хозяину – латышскому народу. Впереди у нас был еще один курортный городок – Кемери.
Крайне невелик, этот городок славился своим бальнеологическим санаторием, но едва мы вошли, как немцы открыли по нему огонь из дальнобойных орудий. Однако пострадало от обстрела только гражданское население. Принятыми мерами командования корпуса батареи противника были подавлены, и мы спокойно разместились в теплых, благоустроенных и светлых помещениях с электрическим освещением. Здесь, в удобных жилищных условиях, мы развернули интенсивную политическую работу не только в войсках, но и среди населения. Днем и ночью мы писали и читали лекции и доклады, проводили беседы на различные темы и для различных групп слушателей. Готовили вечера художественной самодеятельности, а по субботам принимали ванны в прекрасном кемерийском санатории.
Выступая перед населением, мы отметили одну характерную особенность. Здесь, как впрочем и в Риге, и в других городах и населенных пунктах Латвии, все жители хорошо владели русским языком. Более того, русский язык здесь был модным и повседневным языком. Подобно тому, как казахский язык – в русских казачьих станицах Акмолинской, Атбасарской, Щучинской, Котуркульской или Кар-Каралинской, где на русском языке говорили лишь на официальных собраниях, встречах и заседаниях; дома же, в кругу семьи, за обедом – в основном по-казахски: шутили, сыпали анекдотами, прибаутками, объяснялись в любви, ругались в ссоре. Нечто подобное происходило и в Латвии с русским языком. Его здесь любили так же, как свой родной язык, и учились говорить на нем с детства.
Выступая перед гражданским населением Латвии, мы не чувствовали никакой отчужденности или языковой разности. Напротив, мы всегда чувствовали тесный и полный контакт со слушателями, как с родными людьми, хорошо и правильно понимающими русское слово. Всегда они относились к нам, русским, приветливо и доброжелательно. Не знаю, чем это объяснить, но латвийский народ выгодно выделяется в этом отношении среди всех прибалтов. Честь ему и слава за это!
СОЛДАТСКАЯ СМЕКАЛКА
Особо цепко немцы держались за прибрежную полосу Рижского залива. Им было крайне важно удержать берег в своих руках, так как еще не была закончена эвакуация их войск с острова Сааремаа и других мелких островов Рижского залива. Однако наши войска продолжали систематически и упорно теснить немцев все дальше и дальше в направлении Роя и Талси.
Небольшие холмы и песчаные дюны, в беспорядке разбросанные по берегу залива, являлись удобными зацепками для создания опорных оборонительных пунктов в системе обороны противника. Вокруг них и завязывались бои, длившиеся от нескольких часов до нескольких суток.
Понятно, что, чем выгоднее условия для обороны противника, тем тяжелее они для наступающих. Опорные пункты врага располагались на высотках, и нам приходилось наступать на них с заболоченной равнины, где невозможно было ни окопаться, ни надежно укрыться от наблюдения и огня противника. Тут-то и выручали нас солдаты – их инициатива, смекалка, хитрость и обман противника, введение его в заблуждение и отвлечение внимания в ложном направлении.
О-о-о! На войне без этого никак нельзя!
Генералы, адмиралы и маршалы, командующие войсками – все дезориентируют, дезинформируют, обманывают и вводят в заблуждение противника, чтобы нанести ему удар с наиболее выгодного, неожиданного направления и выйти из боя с наименьшими потерями. Солдат делает то же самое в интересах самосохранения и выполнения стоящей перед ним боевой задачи. Дезориентация, дезинформация, провокация, введение противника в заблуждение – эти, казалось бы, аморальные, с общечеловеческой точки зрения методы закрепляли успех, отвоеванный в боях с немецкими оккупантами. Следовательно, то, что противно и аморально в одних обстоятельствах, совершенно необходимо и полезно в других. Вот она одна из сторон марксистской диалектической философии в жизни.
Укрепив несколько касок между кустами в ложном направлении и дав оттуда несколько очередей из автоматов по немцам, которые тут же открывали слепой огонь по каскам, солдаты быстро и скрытно перебегали на другую, более выгодную, позицию, откуда внезапно и дружно атаковали узлы сопротивления врага – и, как правило, добивались успеха.
Нередко бывало и так. Набив комбинезоны-чучела, солдаты раскладывали их ночью на ложном направлении, имитируя цепь наступающих. И как они ликовали, когда утром противник, обнаружив «цепь», открывал по ней бешеный огонь из всех видов оружия. А наши тем временем дружно атаковали противника с совершенно неожиданной стороны или даже с тыла.
Долго засиживаться в Кемери нам не пришлось. Окружающая местность на довольно обширном пространстве представляла собой болотистую равнину, поросшую мелким кустарником и редколесьем. Здесь войскам противника зацепиться было не за что, и они поспешно отступали на ранее подготовленные позиции. Ведя упорные бои вокруг опорных пунктов, понастроенных гитлеровцами по всему берегу Рижского залива вплоть до Ирбенского пролива, наши войска продвигались все дальше и дальше вдоль берега залива, а мы оказались далеко оторванными от боевых частей. Задерживаться в Кемери было уже невозможно, штаб корпуса оторвался от действующих частей и соединений дальше, чем положено даже штабу армии. Как ни удобно нам было в этом курортном городке, все же пришлось сниматься, мы вынуждены были покинуть гостеприимный Кемери.
В РЫБАЦКОМ ПОСЕЛКЕ
Из Кемери мы переехали километров на тридцать пять-сорок вперед и разместились в рыбацком поселке, стоящем прямо на берегу моря.
Довольно неблагоустроенный, этот поселок беспорядочно раскинулся на песчаном берегу от воды до опушки леса. Жилые дома и хозяйственные постройки располагались здесь без всякого плана, не было и обычных улиц и переулков, селились как попало – кто где облюбовал место, там и возводил свой дом и хозяйственные постройки. Словом, своей планировкой рыбацкий поселок на берегу Балтийского моря напоминал среднеазиатский или кавказский аул. На берегу, у самой воды, был сооружен засолочный цех с несколькими большими бетонированными чанами, этот цех, по-видимому, принадлежал одному хозяину и содержался в довольно приличном санитарном состоянии. Но сейчас чаны были пусты, хотя почти все рыбаки находились дома, а их рыболовный флот лежал на прибрежном песке в полной исправности. Правда, сетей и прочих рыболовных снастей не было видно. В поселке нас удивили очень интересные сооружения, имевшиеся в каждом дворе, – шалаши. Для чего они стоят у каждого дома, для нас долго оставалось загадкой. Одно только было ясно: шалаши эти сооружены не для детской игры.
Передовые позиции от этого поселка находились в восьми-десяти километрах, однако мы расположились в нем как дома, чувствуя себя довольно уверенно и спокойно. Теперь ведь наступаем мы, а немцы обороняются; теперь мы торжествуем одну победу за другой, а немцы впадают в один траур за другим. Теперь, как и всегда на войне, господствуют постоянно действующие факторы, а не временные успехи, достигнутые к тому же в силу вероломства и внезапности нападения. Сознание всего этого, как дрожжи, поднимало в нас боевой дух и безудержное стремление во что бы то ни стало изгнать ненавистного врага с нашей земли, разбить на его собственной земле и водрузить знамя победы над Берлином.
Рыбацкий поселок, хотя и раскинулся на довольно широком пространстве, был все же невелик. Сравнительно небольшой аппарат штаба и политотдела корпуса тут разместился с трудом, заполнив поселение, что называется, до краев. Жилища рыбаков выглядели не то чтобы сильно убогими, но и далеко не богатыми, только три-четыре дома выделялись из общей массы, причем, только один из них был под железной крышей, остальные – с земляным покрытием. Абсолютное большинство домов представляли собой одно-двухкомнатное жилье; как правило, с земляными полами. Но только когда мы расселились и вплотную познакомились с жизнью тружеников моря, только тогда мы увидели и поняли, что такое бедность.
Политотдел устроился в нескольких домах по два-три человека, а для канцелярии мы облюбовали дом на самой опушке леса, в котором была всего одна комната, но более или менее просторная и отдельная от кухни; в остальных домах комната и кухня были суть одно и то же. В канцелярии нас разместилось человек пять, потому что хозяева отдали нам всю комнату, а сами перешли в кухню. Из обстановки в нашей комнате были одна жесткая железная койка без матраца, грубо сколоченный некрашеный стол, одна длинная скамейка и две некрашеные табуретки. Другой мебели в доме рыбака не было. Зато было четверо полуодетых детей и полувысохшая жена. Сам рыбак дома только ночевал, а на день куда-то уходил, и хозяйка целыми днями просиживала одна с детьми на кухне, лишь к вечеру затеваясь с готовкой. Часто ее навещала соседка или родственница, в ее присутствии хозяйка становилась как-то бодрее и веселее.
Русский язык местные знали плохо, и только майор Колесников, в какой-то степени знакомый с эсперанто, мог вести с ними беседы. Из всех работников политотдела женщины поселка лучше других знали нашего молодого, крепко сложенного старшину Максимилиана Глущенко, потому что, будучи секретарем политотдела, он постоянно находился в канцелярии и еще потому, что он был человеком жизнерадостным и приятным. Имя Максимилиан латышские женщины, конечно, выговорить не могли и потому называли его просто Макс. Между прочим, и для нас с тех пор он стал Максом. Меня же майор Колесников представил женщинам как самого страшного большевика:
– Мы его и сами боимся! – И, состроив рога над головой, загудел: – Бу-у-уу! Большевик!
Хохоча и замахав руками, женщины в один голос завизжали:
– Ней! Ней! Она кареш! – И, поцеловав два пальца, посылали мне свои воздушные поцелуи.
Осень 1944 года в Курляндии стояла теплая, море штормило редко, но, пока немцы не эвакуировались со всех островов Рижского залива, рыбаки с места не двигались; они что-то делали по домам, к чему-то готовились, но в море не выходили. Боялись. Но вот мы получили сообщение: «Все советские острова в Балтийском море освобождены от немецко-фашистских захватчиков». И наши рыбаки ожили, зашевелились. У катеров и баркасов на берегу закопошились люди, на ветринах[18] 18
Ветрина – сушильня на открытом воздухе для сетей и вяленья рыбы.
[Закрыть] заколыхались сети, невода, вентеря и прочие рыболовные снасти.
И вот в одно прекрасное утро захлопали моторы катеров, поднялись паруса баркасов, и рыбаки дружно, всем своим флотом, отчалили в открытое море, таща за собой на буксирах множество весельных лодок.
Не было их дня три.
Все эти три дня берег не пустовал ни днем ни ночью. Словно по уговору, на нем дежурили то малыши, то женщины, то глубокие старцы. И все они то тревожно, то с надеждой поглядывали в морскую даль. Но там ничего не было.
Хотя погода стояла спокойная, далеко не спокойно было на душе у жен и детей рыбаков. Это мы видели по лицам нашей хозяйки и ее подруги. Если в первый день после ухода рыбаков в море они оживленно и весело разговаривали друг с другом, спорили, смеялись, то на второй день этого уже не было. А на третий мы увидели их тихими, задумчивыми и явно чем-то встревоженными и подавленными, часто с заплаканными глазами. По поселку поползли слухи один ужаснее другого. Одни говорили, что рыбацкую флотилию потопили вернувшиеся немцы, другие – что ее не потопили, а просто целиком угнали в Германию или в Швецию; третьи говорили, что никто ее никуда не угнал, что она попала в сильное морское течение и ее унесло далеко в открытое море. Как бы то ни было, а семьи рыбаков хорошо знали: постигни их кормильцев хотя бы одно из этих бедствий, семьям придется голодать, переживать неимоверные трудности и лишения. Словно грозовая туча нависла над поселком. Тревога, как снежный ком, перекатывалась со двора на двор, обрастая все новыми и новыми кошмарами.
Дети, наслушавшись всевозможных страхов, затихли и, собираясь по закоулкам, стали сами придумывать одно бедствие страшнее другого. Однако многие из них не желали верить тому, что говорили взрослые, они яростно спорили между собой и доказывали, что их отцы и дяди никогда не поддадутся немцам и, покинув разбитые катера и баркасы, вплавь доберутся до берега.
– Мой папа, – кричал, заикаясь, Вилли, десятилетний сын нашего хозяина, – сорок километров плыл до берега, когда немцы потопили его баркас с рыбой.
– А наш папа нырнул под баркас, когда немцы по нему стреляли, а потом, когда баркас сгорел, он на доске приплыл домой, – кричали два соседских мальчишки.
Уже третий день отсутствия рыбаков клонился к вечеру. Море, затихая, готовилось спокойно уснуть, редкие его волны лениво накатывались на песчаный берег, выбрасывая пустые ракушки и прочий мусор, не воспринимаемый морем. Чайки куда-то исчезли, их крика уже давно не было слышно. Ярко светившее солнце скрылось за черные тучи, спешило тоже уйти на покой. В поселке потемнело, будто кто-то намеренно натянул на него траур. День уходил, а рыбаков все не было, и где они, что с ними – никто не знал, но и никто в поселке не сомневался: если рыбаки и погибли, это могло быть только делом рук немцев, ибо такое в прошлом уже случалось, и не раз.
Но вот, откуда ни возьмись, в воздухе появился альбатрос, за ним другой, третий – целая стая их закружилась над рыбацким поселком. Вслед за ними появились крикливые чайки с черной головкой. Весь поселок вдруг ожил, забегал, повеселел. Причины мы не видели и не понимали. Семьи рыбаков покидали свои жилища и с какой-то радостью и убежденной надеждой, перегоняя друг друга бежали к берегу. Некоторые поспешно взбирались на крыши своих домов и оттуда пристально всматривались в горизонт. На берегу собралось почти все население поселка. Заинтересовавшись этим непонятным событием, мы тоже поспешили к берегу, но, кроме повеселевших жителей, ничего там не обнаружили. Море по-прежнему лениво колыхалось, сумерки сгущались, и даже альбатросы вернулись в море, лишь черноголовые чайки продолжали кружиться над берегом, издавая временами жалобные крики. Переминаясь с ноги на ногу, вопросительно поглядывая друг на друга, мы задавались вопросом: в чем дело, почему народ сбежался на пустой берег и почти ликует без всякой к тому причины? Осматривая море в бинокль, мы ничего не видели, но жители, весело переговариваясь, смотрели туда же с уверенностью и надеждой, они явно ожидали чего-то радостного. С плоской крыши засолочного цеха наблюдало сразу несколько человек, внимательно вглядываясь в море. Вдруг кто-то из них неистово закричал:
– Белеет! Белеет!
Толпа заволновалась, надвинулась, всматриваясь... И вдруг – словно шквал пронесся! – многоголосый вопль огласил берег:
– Идут! Идут! Наши! Наши!..
Приглядевшись повнимательнее, мы тоже стали что-то различать на горизонте. И вскоре рыбацкая флотилия – в полном составе – причалила к берегу, и, судя по всему, с богатым уловом! А вместе с рыбаками вернулись альбатросы и множество горластых чаек – постоянных спутников, покровителей и предвестников рыбаков. Только теперь мы поняли причину, вызвавшую столь радостное волнение жителей! Альбатросы и чайки! Как добрые гонцы они прилетали в рыбацкий поселок, чтобы сообщить весть о благополучном возвращении, и рыбацкие семьи понимали их без слов.
Не желая стеснять радостных чувств людей, встретивших своих кормильцев после столь тягостных волнений и переживаний, мы покинули берег.
Утром зашли поздравить хозяина с благополучным возвращением. Он сидел у порога и курил свою трубку, а жена и трое старших ребят деловито и энергично трудились возле низкого деревянного чана, полного до краев мелкой, но красивой рыбешки. Будто ловкие жонглеры, они быстро действовали деревянными иглами, нанизывая уже подсоленную рыбку на длинные, метра полтора, шпагатины. Мы поздоровались со всей семьей и сердечно поздравили хозяина с удачей, спросили, что это за рыбешка. Он, с удивлением посмотрев на нас, вдруг соскочил с места и воскликнул:
– О-о-о! Разве ви не знаешь?! Салака! Ошен кароши – жирный, вкусний рыба! Мировой рынок!
Присмотревшись к рыбешке поближе, мы готовы были согласиться с хозяином, заметив, что не лишне и на вкус попробовать.
– О-о-о, это пошаллуйста, – пригласил нас на кухню хозяин.
Действительно, оказалась вкусной рыбешка, напоминала чем-то нашу керченскую хамсу, но была немножко покрупнее. Но, воздавая должное угощению, мы еще хотели расспросить, что же все-таки произошло в море, мы уже слышали, что в дело вмешались наши моряки.
– Долго вы задержались, – начали мы разговор, – уже пошли слухи – якобы вашу флотилию потопили немцы.
– Да-а-а, – протянул хозяин, он опять сидел со своей трубкой на пороге, но уже лицом к кухне, – хотели потопить, это правда, – и раз, и второй. Было так. Поделились мы на участки и высыпали сети. Поставили невода, вентеря и стали на якорь. И тут они – со стороны Мазирбе два военных катера. И стали нас обстреливать. Снаряды рвались совсем близко, но никого наших не тронуло, а близко подходить они почему-то не стали. Может, боялись встречи с вашими моряками, но мы русских не видели. Выпустили в нас десятка два снарядов и ушли. Мы решили снимать сети и уходить домой, знали: не отстанут. Но рыба только начала ход, жалко было упускать такой момент, давно уже не видели хорошего улова. Остались.
Перед утром проверили сети. Хорошо. Поплавки дрожат – рыба идет. Все рады, многие даже запели песни. Утром решили: нельзя больше оставаться, поедим и начнем выбирать. Вдруг, смотрим, опять эти же катера. А за ними – моторная шаланда! Верите, ложка выпала из рук. Опоздали – не ушли ночью! Сердце заныло. Руки, ноги отказали, а в голове одно: это за нашей рыбой спешат. Было так тяжело, жалко этого улова, что хотелось умереть вместе с этой рыбой, только бы не отдать им. Достаточно наголодались с ними, всегда забирали весь улов. Вот столько оставят, – показал сомкнутые в жмени ладони. – А чем кормить? Одеть, обуть семью?.. – Хозяин умолк.
В прошлом году попытались тайком выйти на весенней путине. Взяли хороший улов, но донес кто-то про нас. Только справились и повернули к берегу – военные катера. Всю рыбу у нас забрали. И баркасы потопили. Вплавь добирались до берега. Думали, так и в этот раз. А как нам уйти? Не уйдешь... Сердце застыло, смотрели, как приближаются пираты... Вдруг снаряд сверху просвистел! Через нас! ...! И другой! Третий! ...! – Тут речь хозяина обрела такую ядреность, которую и кроме как ...! неприлично. А он, все более возбуждаясь, вскочил и, размахивая руками, забегал по кухне: – ...! Немец один загорелся – ...! Валится набок! Другой ...! – бросил шаланду, бросил другой! ...! Другой тонет ...! А тот развернулся – и айда! ...!
Хохоча и жестикулируя, он путался в словах, досказывая руками то, что не мог или не умел выразить словами. Довольно прилично владея русским и прежде всего – его ругательной словесностью, имея в виду, что его жена и дети не знают языка, он в их присутствии пересыпал свой рассказ такими крепкими русскими словечками, от которых даже у нас вяли уши. Хохотали вместе с хозяином все: мы, его жена и дети – но все по разным поводам и причинам. Хозяин смеялся, радуясь, что миновала его и семью беда; его жена и дети радовались тому, как здорово русские моряки побили немецких разбойников; нас же больше смешил комизм ситуации: радуясь веселью хозяина, его жена и дети ведать не ведали причины нашего! веселья, не подозревая о смысле отдельных изречений, которые нас заставляли хохотать, заливаясь смехом до слез.
– Да-а-а, – немного остыв, протянул хозяин, – мы сначала не видели русских кораблей, потому что смотрели только на приближающихся немцев – с ужасом, как змею увидели, думали что с нами будет? А когда вдруг загорелся их катер, мы сразу поняли, что это русские к нам пришли. Так! На помощь... – хотел было выругаться, но сдержался.
Так закончил свой рассказ наш хозяин.
Все вышли во двор. И вдруг мы увидели, что весь рыбачий поселок в дыму – ранним утром наступили сумерки! Стоявшие до этого в бездействии шалаши теперь дымились во всех дворах! Как чумы на Чукотке! Серо-белый дым густыми клубами валил из каждого шалаша! Поднявшись ввысь, клубы дыма соединились там в единое непроницаемое облако, закрывшее собой солнце, от чего в поселке сделалось сумрачно, как, наверно, в Лондоне.
Дымился шалаш и во дворе нашего хозяина. Движимые любопытством, мы следом за семьей подошли и только теперь поняли, что все эти шалаши – не что иное, как коптильни. Посередине чума горел небольшой костер из сухих осиновых дров, прикрытый корой и сором; прорывавшиеся языки пламени тут же гасились обваливавшейся корой и мусором, потому в коптильне было больше дыма, чем огня. Вверху шалаша над костром густыми гирляндами висели связки салаки и какой-то распластанной крупной рыбы. Хозяин, хозяйка или дети подправляли костер, добавляя дров или сора, не давая, однако, разгореться костру в пламя.
После физзарядки и умывания мы сели завтракать. Но не успели разобрать столовые приборы, как открылась дверь и вошел улыбающийся хозяин, держа перед собой за концы две еще горячие вязки свежей копченой салаки, положил их перед нами на стол и с какой-то религиозной торжественностью произнес:
– Уважаемие русски офицер! Прошу принять мое ошен скромний подношение от первий кароший улов в Новом, 1945 году!
Не знаю почему, но это искреннее и благородное обращение, как электрическим током, ударило в мозг и пронизало все наше существо. Не сговариваясь, мы встали, приняв положение «смирно». Старший из нас, заместитель начальника политотдела корпуса подполковник Ященко, шагнул навстречу и горячо поблагодарил рыбака за внимание к нам, советским офицерам. Поочередно мы выходили из-за стола, и каждый крепко пожимал руку хозяину и благодарил за внимание.
Затем усадили хозяина за стол, пригласили его хозяйку, и все вместе отпраздновали наши военные победы и первую свободную путину.








